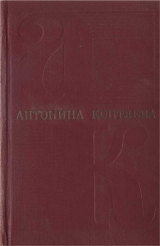
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 49 страниц)
– Жаль, что упраздняют субординатуру. Если я чувствую себя такой слабой после шести лет напряженной учебы, то что же получит студент-медик за пять?
– Обучение останется шестилетнее. Но страна нуждается во врачах общего направления, поэтому на шестом курсе будет углубленное изучение трех специальностей: акушерства, терапии и хирургии.
Варя вспомнила свои споры с мужем, хотела промолчать, но, как и прежде, не удержалась:
– Очень жаль, что так мудрят с нами! Ведь субординатура оправдала себя. Гораздо лучше усвоить один необходимый предмет в течение курса, чем околачиваться на трех кафедрах сразу.
– Почему сразу? По три месяца на каждую специальность. Молодые врачи, едущие на периферию, на мелкие врачебные пункты, столкнутся с самыми различными заболеваниями.
– И будут плавать…
На том разговор закончился: у обоих пропало желание продолжать его. Но мысль о глаукоме как теме для диссертации запала в голову Вари: в самом деле, если браться за решение проблемы, то не надо бояться трудностей.
47
Иван Иванович протер одеколоном лицо, потрогал кончиками пальцев свежие царапины и критически оглядел себя в зеркале.
– Стареть начинаешь, дорогой товарищ.
– Ничего, говорят, чувства к старости становятся сильнее. Есть даже русская поговорка: седина в голову, черт в ребро.
– Не в голову, а в бороду.
– Но если бороды нету?
– Тогда конечно… Хотя все равно нельзя, товарищ врач, пустить седину в голову. Это не по-русски.
– А черта в ребро можно?
– Черта нельзя, а беса можно.
– Я ведь не шутя спрашиваю! Я, знаешь ли, хочу пригласить в гости Ларису Петровну. Бываю на ее операциях, смотрю, учусь. Она уже несколько раз была у меня ассистентом. Березкин-то мой лучше себя чувствует! И некрасиво получится, если не пригласить ее к себе. Ведь старые знакомые! Как ты думаешь?
– Я? – Аржанов смущенно взглянул на жену. Конечно, она права: нельзя учиться у человека и относиться к нему недружелюбно, тем более что Варя не умеет скрывать свои настроения. Еще в первый год совместной жизни Иван Иванович догадался о ее ревности к Ларисе. Теперь, конечно, иное, но почему так волновалась Лариса, когда приходила по поводу Наташиной болезни? А разве он сам был спокоен? Разве не всколыхнулось в нем старое чувство при первой встрече?
– Что ты молчишь?
– Трудно мне решить…
– Разве ты не ручаешься за себя?
Он сразу рассердился.
– Пожалуйста, не приглашай ее и не заводи таких разговоров. К чему эти женские штучки? Хочешь внести ясность в свои отношения с Ларисой Петровной, а сама начинаешь выпытывать о моих чувствах…
– Ах, как нехорошо ты понял меня! – сказала Варя со слезами на глазах и в голосе.
Ивану Ивановичу стало жаль ее, но готовность заплакать, выдавшая внутреннюю тревогу Вари, подхлестнула его.
– Извини, пожалуйста, – сухо сказал он. – Как же я должен понимать тебя? Дружба и любовь строятся на искренней обоюдной симпатии, а не на соблюдении внешних приличий. Тебе-то самой нравится Лариса Петровна?
– Да.
– Но ведь только как хирург, правда?
– И как человек нравится.
– Пока ты не видишь в ней женщину, которой я могу увлечься?
– Не говори так! У меня хорошо было на душе…
– Пока тебе не померещился «черт в ребро» и ты не решила со мной «посоветоваться»?
– Не надо, перестань! Не будем ссориться! – попросила Варя с испугом. – Ты знаешь: я верю тебе и не хочу сомневаться. Раз так повернулось дело, то мы обойдемся и без Ларисы Петровны. Но не ради проверки приглашала я ее к нам! Ведь мы вместе под смертью ходили и сейчас опять вместе работаем.
Больше они этой темы не касались, пообедали молча, и Иван Иванович уехал в лабораторию проводить опыты на собаках. Потом Варя одела проснувшегося Мишутку и отправилась с ним погулять во дворе. Часа два она сидела с томиком Плеханова на скамейке на солнечном припеке… Не зря жильцы решили озеленить двор. Давно пора: без тени жарища. Читала Варя рассеянно, больше посматривала на сына, с увлечением возившегося в песочнице со своими дружками и подружками. День был выходной – везде гуляющие люди. Из открытых окон и форточек гремело радио, гавайская гитара звенела нежно и страстно – кто-то включил радиолу. Папаша, явно навеселе, прошел мимо Вари, неся на руках крепкого бутуза; оба заливались смехом. Варя посмотрела на них, вспомнила ссору с мужем, и ей стало совсем грустно.
После окончания института у нее не прибавилось свободного времени: надо с сынишкой заниматься, бывать на собраниях и политзанятиях, надо содержать в порядке маленькое домашнее хозяйство. А теперь она еще начала готовиться к работе над диссертацией, и по вечерам приходится много читать.
– Здравствуй, моя дорогая! – говорит ей от своего стола Иван Иванович, когда она устраивается под абажуром с книгами и журналами.
Хорошо, что он тоже занят в эти часы дома – пишет, обобщая накопленный опыт, иногда стучит на машинке.
Целыми вечерами они сидят, как два отшельника, шуршат страницами книг, походят по комнате, послушают радио, полюбуются, как спит Мишутка, и снова за работу…
За стенами течет кипучая жизнь столицы. Нет такого другого города в мире: все в нем полно надежд. Может быть, поэтому он растет с невероятной быстротой во все стороны по московской равнине корпусами новых заводов, стройными кварталами прекрасных жилых домов. И каждый житель мечтает о будущем Москвы как о собственном завтрашнем дне.
Многие живут иначе, чем Варя и Иван Иванович. Работают и заседают днем, но вечера проводят разнообразно. Не зря светятся рекламы кино, искрятся огнями здания замечательных театров, клубов, библиотек: везде шумят веселые толпы, так же как в парках и стадионах. В Москве цирк, доставляющий радость не только детям, но и взрослым людям, потому что его артисты давно отрешились от слащавой красивости и грубого трюкачества. В Москве концертный зал Чайковского, Большой зал консерватории. Но, как это ни странно, Иван Иванович и Варя удовлетворяются одним сознанием, что живут в культурном центре страны, что у них все здесь, рядом. Иван Иванович нежно влюблен в знаменитых старух Малого театра, ему нравятся пьесы Островского и Горького. Варя больше склонна к Чехову с его тонким и грустным лиризмом, и для нее настоящий праздник войти с мужем в простой, но уютный зал Художественного театра. Однако в театры они ходят редко: лишь иногда на премьеры и гастрольные спектакли – отказались даже от покупки телевизора, чтобы не тратить вечерние часы, которыми оба очень дорожат. В последнее время их начал «выводить в свет» подрастающий Мишутка, но у него свои интересы: цирк, зоопарк.
Что же касается ресторанов, танцевальных и спортивных залов, катков, конных бегов и прочих развлечений, то о них Аржановы даже не помышляли. Когда Варя думала об этой стороне столичной жизни, то всегда внутренне отмахивалась: разве можно всюду поспеть? Пусть уж молодежь развлекается.
Но однажды Злобины почти насильно вытащили друзей, устроив для них «увеселительный вечер», и закруженная, даже растерявшаяся Варя увидела, что умеет развлекаться не только молодежь.
– Нельзя же отсиживаться по-мещански в своем углу! – сказала Раечка, верховодившая всей затеей; она-то знала чемпионов и чемпионок страны не только по газетам, превосходно танцевала и даже получила какой-то разряд по теннису.
– Каждому свое! – сказал подвыпивший Иван Иванович, когда поздно ночью возвращались домой. – Иногда и так можно, но, по правде говоря, я не завидую Леониду: велика радость – сидеть за столиком и любоваться, как жена отплясывает фокстроты! Ему-то она не позволяет смотреть даже на балерин. Большинство людей живет без танцев и ресторанов, и я очень доволен тем, что мы живем, как это большинство. А что о нас думает Раечка, ей-богу, мне наплевать!
«Конечно, лучше жить скромно и тихо, но целеустремленно, – подумала Варя, опустив книгу на колени и глядя, как Мишутка бежал-бежал за кошкой, да и шлепнулся, не выпуская лопатку из вытянутой ручонки. – Ничего, полежит и встанет. Незачем сдувать с мальчишки каждую пылинку!»
Мишутка точно полежал, полежал на песке, но, видя, что никто не спешил поднимать его, кряхтя поднялся сам, отряхнул штанишки и побежал к своей веселой компании. Он еще не задумывался над тем, как надо жить – знай растет да набирается сил. Но вот это уже никуда не годится: опрокинув наземь толстячка лет двух, Мишутка силой выдергивает у него игрушку – не то обезьяну, не то собачку, и, желая прекратить протесты и рев, замахивается лопаткой. Тут надо немедленно вмешаться. Резвые ноги Вари вовремя доносят ее к месту происшествия. Игрушка возвращена обиженному, захватчик получает увесистый шлепок (Варя – мать, скорая на расправу). Мишутка не в обиде: понимает, что получил встряску за дело, но морщится – больно ведь!
– Будешь драться – я тебя еще нашлепаю и гулять не пущу! – грозится Варя, наклоняясь к его румяной мордочке. – Смотри у меня!..
– Я тмотлю на тебя, – надувая толстые губы, с хитроватой покорностью говорит мальчишка. – Не надо меня тлепать!
– «Тмотлю на тебя!» – передразнила мать.
В это время ее окликнула Галина Остаповна, нагруженная двумя авоськами, набитыми разными свертками.
48
– Приходите сегодня вечером, – сказала она Варе, вешая тяжело набитые сетки на спинку скамьи и помахивая натруженными руками. Была она в легоньком платье и в сандалиях на босу ногу, что очень молодило ее. – У нас торжество неожиданное.
– Какое же?
Чернобровое лицо Решетовой краснеет от смеха, морщинки на висках, похожие на следы гусиных лапок, углубляются, в прищуренных глазах лукавые искорки. Всем своим видом она напоминает сейчас Мишутку.
– Что за торжество? – переспросила Варя.
– Помните, Григорий Герасимович рассказывал, что профессор Тартаковская упала и сломала шейку бедра… Но не по этому поводу мы хотим праздновать, – оговорилась Галина Остаповна, заметив недоумение милой ее соседки. – Как можно! Тут другое. Легла она к себе в клинику и там почувствовала, что такое консервативное лечение при переломе шейки: по полгода лежат и больше, а ни у кого сращения отломков не наступает. Месяц ждала профессор, полтора: улучшения нет. Тогда она заявила: «Хочу на себе испытать метод сколачивания». И вчера попросилась к нам, в хирургическое отделение. То ли отчаялась в излечении, то ли захотела нас развенчать на собственном примере. Наша главврач просто ошалела от такого поворота. Сегодня сама, несмотря на выходной день, присутствовала на операции. Еще бы! Тартаковская, которая против Григория Герасимовича метала громы и молнии!
– Действительно, большое событие! – воскликнула Варя, вспомнив огорчение Ивана Ивановича, когда главный врач Круглова запротестовала против решетовского гвоздя. – А Ваня знает?
– Специально посылали за ним в лабораторию. Круглова сама отвезла его обратно.
– Но вдруг плохо получится?
– Вряд ли! Стариков со смертного ложа поднимали, а эта еще молодая, и операцию провели – комар носа не подточит.
Варя весело улыбнулась.
– Насчет комариного носа не только Мишутка, но и я не разберусь: некоторые выражения… поговорки разные мне до сих пор непонятны. Пойдемте, помогу хозяйничать. Сейчас только своего забияку поймаю.
Дома Варя умыла сына, надела на него чистый костюмчик; приняла душ сама.
Полуодетая, она стояла перед зеркалом и причесывалась, а Мишутка крутился возле, заглядывая снизу в ее лицо, завешанное влажными волосами.
– Ой, мама, у тебя волосы, как у коня! – говорил он звонко.
Варя собрала их в узел, приколола шпильками и, взяв сынишку на руки, присела с ним на кровать.
– Сейчас пойдем к тете Гале. Мы займемся хозяйством, а ты поиграешь.
Она обняла сына, и радостное ощущение полноты жизни властно охватило ее. Да, это она, Варя Громова, живет в Москве, окончила медицинский институт, уже работает врачом и даже нацелилась на диссертацию. У нее любимый и любящий муж и сын, озорной, крепкий, здоровенький мальчик. И она еще совсем молодая.
– Какая я счастливая.
– Что ты говоришь? – не понял Мишутка.
– Неужели это я? – пропела она в ответ, прислонясь носом к его маленькому носику, – так ласкала когда-то своих дочерей ее мать: не целовала, а нежно обнюхивала, как зверенышей. Она так и зачахла после смерти отца от горя и нищеты. И две Варины сестренки тоже умерли от чахотки. Еще две сестры – обе замужние и многодетные – работают в таежном совхозе. До сих пор не привелось снова встретиться с ними, только письмами связаны: они очень гордятся своей ученой сестрой и ее мужем доктором.
Варя надела чулки, беленькие босоножки-танкетки без носков и задников. То, что пятки и пальцы ног голые – понятно: мода появилась после войны, большая экономия материала. А слово «танкетки» так примелькалось, что уже не напоминает о войне, просто обувь с каблуком под всю подошву, сходящим постепенно на нет. Платьев у Вари пока прибавилось немного. Она сняла с вешалки белое, спортивного покроя, с улыбкой надела на гладкое запястье золотой браслет, положила в сетку консервы, свежие огурчики, бутылку кагора и вместе с сыном направилась к Решетовым.
Дверь открыла не Галина Остаповна… Сначала Варя не узнала подростка в длинных брюках, теннисной рубашке и тапочках. Но странно знакомо было ей его круглое лицо с черными, тоже округленными глазами.
– У нас гости! – весело сообщила Галина Остаповна, выглянув в коридор. – Земляки, вам знакомые. – Она повернулась к выходящей следом за нею из кухни Ларисе Фирсовой и сказала ей: – Как хорошо, как кстати вы зашли!
– Здравствуйте! – немножко растерянно проговорила Варя и повернулась к подростку. – Значит, это Алеша! Маленький Алеша Фирсов!
– Да… – улыбаясь, сказал подросток.
– Совсем ты не маленький, – не замедлил вмешаться Мишутка.
– Это кто такой? – Алеша наклонился, подхватил мальчика на руки.
– Мишутка, сын Вари и Ивана Ивановича, – отрекомендовала Решетова. – Хорош медвежонок?
– Ивана Ивановича? – Алеша взглянул на мать, потом на Мишутку. – Ты правда похож на медвежонка. Здоровущий какой! – И он пошлепал мальчика по крепкой спине и попке, обтянутой штанишками.
Лариса, странно бледная, в платье густо-василькового цвета, молча поигрывала черной лакированной сумочкой, невесело улыбаясь.
– Я рада, что вы зашли. – Варя прямо посмотрела ей в глаза. – Как это вы собрались?
– Были с Алешей в Третьяковке, смотрели китайскую живопись. А потом разгулялись, решили проехаться по Москве.
– Там на одной картине есть пацаненок, ну точно такой, каким давно был я, – сказал Алеша. – Тоже с челочкой, и глазенки совсем круглые. Я думал, монгольские глаза обязательно узкие.
– А какой ты был? – спросил Мишутка.
– С тебя ростом был одно время.
– Мама, он врет?
– Отчего же? Ты тоже вырастешь большой. И нельзя так говорить: «врет».
– Я ето больте буду, – похвастался Мишутка, делая вид, что не слышал выговора. – Я т папу вырату.
– Ох, какой у тебя язык неповоротливый! – со смехом сказал Алеша и потащил Мишутку в столовую, где оба стали шалить, будто сверстники.
– Ростом-то большой, а умом еще ребенок! – сказала о сыне Ларисы Галина Остаповна, проходя с женщинами на кухню.
Лицо ее вдруг потемнело: Алеша напомнил ей младшего из погибших сыновей. Вот так же бегал летом, загорелый, веселый, в майке и спортивных туфлях, потом ушел добровольцем на фронт и сложил юную голову где-то в украинских степях.
«Наверно, последнее слово, которое он вымолвил, было „мама“, – подумала осиротевшая мать. – Но не я приняла его предсмертный вздох… А куда девались моя дочь и внучек? Может быть, не на волжской переправе они погибли, а увезли их в Германию? Лежа на земле, в лагере смерти, плакали они от голода и холода, и никто не протянул им сквозь колючую проволоку куска хлеба. И старший наш, и невестка с двумя детками…»
Все исчезло из глаз Галины Остаповны: миска с готовым салатом, свежие огурчики на тарелке, нежно-розовая, с серебристым краем лососина, не раскрытые еще консервы… Дети Решетовых и внуки, звонкоголосые, резвые малыши, никогда уже не сядут за праздничный стол. Стараясь совладать с горестным волнением, Галина Остаповна отвернулась к плите, к окну…
Варя испуганно подбежала к ней:
– Что с вами?
Лариса – та сразу все поняла. Ей хорошо знакомы эти приступы сердечной тоски. Чаще они случаются именно тогда, когда вокруг весело.
– Простите за беспокойство! – Галина Остаповна виновато улыбнулась. – Сердце, знаете ли, шалит.
– Вы отдохните, а мы с Варей сами накроем стол, – сказала Лариса.
То, что она назвала ее, как в былые дни, и, надев передник Галины Остаповны, начала, точно своя, расхаживать по квартире, и тронуло и насторожило Варю: несмотря на самое искреннее желание, не могла она относиться просто к женщине, которой увлекался ее Иван Иванович.
– Хозяйничайте, а я посижу с нашей молодежью. – Галина Остаповна припудрила заплаканное лицо и пошла к мальчишкам: тянуло снова посмотреть на Алешу.
– Так и есть! Миша, осторожнее, – воскликнула Варя, заглянув чуть погодя в комнату. – Отпусти тетю Галю, пусть она спокойно посидит на диване. Дайте ей, ребята, подушку.
– Ничего, теперь все прошло. – Галина Остаповна погладила прильнувшего к ней Мишутку, взглянула на Алешу, усевшегося рядом в кресло. – Вот мы и познакомились!
– Вам надо на дачу, – серьезно посоветовал Алеша. – У кого больное сердце, тем плохо в городе летом: душно.
– У меня везде болит сердце, Лешечка. Не на дачу, а на мыло меня пора…
– Туда пите надо? – не понял Мишутка.
Алеша рассмеялся.
– Как ты путаешь звуки, Мишук! То у тебя «тулат» вместо кулак, то «пите»… Не пите, а тебе. Понял?
«И внучат у нас теперь не будет, – думала свое Галина Остаповна. – Только и осталось, что на чужих ребятишек любоваться».
Приход Раечки и Злобина отвлек ее от грустных мыслей.
– Фу-ты, ну-ты! – сказала она, взглянув на Раечку, как будто подросшую в ажурных туфлях на неимоверно высоких каблуках, одетую в черную юбку и прозрачную блузку с пышными рукавами и крохотными бантиками из черного бархата; на белокурых кудрях ее красовалась шляпка из лакированной соломки – «фик-фок на один бок».
– Нравится? – Раечка сдержанно улыбнулась и поправила рукава блузки. – Это из нейлона – ультрамодный материал.
– Так же модно, как сама госпожа атомная бомба, – непонятно пробурчал Злобин.
– Красиво, – одобрила Варя, и Раечка опять снисходительно улыбнулась, сознавая свое превосходство перед «якуточкой».
Появление Ларисы со стопкой чистых тарелок сразу приглушило ее самодовольство. Оглянув вошедшую с ног до головы, она насторожилась.
– Очень рад! – Злобин пожал руку Ларисе, обернулся к жене. – Знакомься, Рая: наша фронтовичка, хирург Фирсова Лариса Петровна.
– Ах, вы хиру-ург! – с неподдельным удивлением воскликнула Раечка. – Как же вы там на фронте? В сапогах?
– Да, в сапогах.
– И в брюках?
– Нет, мы юбки носили. – Теперь в улыбке Ларисы проскользнула еле приметная грустная снисходительность.
Раечка сразу это заметила.
«Они там с нашими мужьями финтили, а мы в тылу горе хлебали, детей воспитывали», – подумала она с мгновенно возникшей неприязнью.
– Алеша! Ох, братец, как ты вырос! Тебя узнать невозможно, – говорил тем временем Злобин, бережно сжимая могучими руками тонкие плечи подростка.
– А вы такой же. Я бы вас сразу узнал, – весело ответил Алеша. – Что ж так долго нет Ивана Ивановича? Я по нем очень соскучился, – добавил он наивно.
– По мне не скучал? Исчез – и шут с ним?
– Нет, но понимаете… он со мной часто играл и вообще… запомнился. Я даже помню, как он уезжал на совещание хирургов на левый берег. Я так ждал его тогда. Ужасно ждал: боялся, что его убьют на переправе! – Алеша покраснел, смущенно улыбнулся, всей пятерней отбросив назад волосы. Он только сейчас почувствовал, насколько стосковался об Аржанове и как это хорошо – поговорить о нем с человеком, который его знает. – Помните, как Иван Иванович вернулся из Заволжья? Он привез мне тогда заграничную трофейную игрушку. Тетушка Паручиха, мать Вовки, назвала эту игрушку живодерской. Такая, знаете, красивая коробочка с головой негра и сабелькой. Нажмешь сбоку пружинку – и сабелька раз негра по шее! Как будто насквозь прорубит, но все цело. Иван Иванович сам не разглядел, какой фокус был в той штучке. Ему один полковник подарил, а он – мне. Солдатам раненым понравилась: все нажимали и удивлялись, как ловко устроено. Конечно, это была фашистская пропаганда, но мы ее не поняли. Я эту игрушку долго берег, а потом потерял… Погоди, Мишук, видишь, мы разговариваем! – Алеша опять взял мальчика на руки и, держа под коленки, перегибаясь назад от его тяжести, спросил: – Ты любишь своего папу?
– Да, много. И тебя тоже! – Обхватив руками шею Алеши, Мишутка крепко прижал его голову к своей груди. – Так! – пояснил он, задохнувшись от нешуточного усилия.
– Ничего ты еще не понимаешь! – не то с сожалением, не то с завистью сказал Алеша и вздрогнул, услышав голос Аржанова в коридоре.
Узнал ли он его на самом деле, или это была лишь догадка, вызванная напряженным ожиданием, но говорил там действительно Иван Иванович.
49
Он вошел вместе с Решетовым. Оба раскраснелись, но не оттого, что было жарко, а от быстрой ходьбы и веселого оживления: они и не почувствовали уличной жары после духоты операционной, где приходилось действовать в халатах и масках.
– Очень интересно прошел сегодня опыт, очень показательно! – громко говорил Иван Иванович Варе, которая открыла им дверь. – Григорий Герасимович ассистировал мне на совесть. Он в ударе, можно сказать, после того, как блестяще склепал эту мегеру Тартаковскую. – Тут Иван Иванович прорвался бурным смехом. – Ты представить себе не можешь, что за прелестное видение явилось нам, дай ей господь здоровья. Да-да-да! Теперь ее здоровье – вопрос нашей чести!
Доктор снова рассмеялся, но сразу оборвал смех: в глубине коридора перед ним возникло новое видение, очень бледное, с прямо устремленным взглядом блестящих глаз.
«Лариса Петровна! Пригласила-таки!» – с обидой и досадой на жену подумал Иван Иванович.
– Здравствуйте! – отчужденно сказал он Ларисе, перенеся и на нее часть своей досады: – Вот видите: выходной день, жара, а одержимые хирурги торчат в операционной.
– Такова уж наша судьба: дело и время не терпят, – ответила Лариса, всем существом ощутив тепло сильной руки Аржанова и холод его слов.
– Да-да-да! Время и дело не терпят! – так же холодно повторил он, входя в столовую, и остановился на пороге, не обращая внимания на Мишутку, с разбегу повиснувшего на нем.
Посреди комнаты стоял худенький подросток, нервно сжимая поясной ремень, робко и радостно смотрел снизу вверх на высокого доктора. Иван Иванович сразу узнал его. Только нет прежней челочки, только выше стал ростом, а круглые черные глаза на детски округленном лице и словно навостренные уши те же.
«Мне можно тут помогать? Они сами даже напиться не могут», – так и зазвучали в ушах слова маленького мальчика, и снова точно распахнулась душа – ожило прошлое: военные госпитали, тяжесть отступления, встреча с Ларисой и ее сынишкой.
«Я хочу маршалом быть…» И незабываемое – преданная нежность к раненым и привязанность к нему – хирургу – ребенка, в свои пять лет увидевшего столько горя.
– Алеша! – Доктор порывисто протянул руки. – Здравствуй, дорогой маршал!
– Здравствуйте! – с трудом выговорил Алеша и чуть не заплакал, когда Аржанов по-отцовски обнял его и поцеловал.
– Ты вырос, мальчик! – взволнованно сказал Иван Иванович, чувствуя, как прошлое все сильнее охватывает его, и не пытаясь в этот миг противиться ему.
– А я? А меня? – требовательно пищал Мишутка, цепляясь за полы отцовского пиджака.
– Ты конечно! Тебя обязательно. – Иван Иванович, улыбаясь, наклонился к Мишутке, взял его на руки и тоже поцеловал.
Алеша смотрел на них, боясь, что о нем сейчас забудут. Тоска по отцовской ласке и боль ревности остро пронзили его.
– Я вас всегда помнил! – сказал он с упреком. – Я вас никогда не забывал! – И чтобы не расплакаться – этого еще недоставало! – опрометью выскочил из комнаты.
– Куда ты, Алеша? – спросила в коридоре Лариса, видевшая его встречу с Аржановым, но отчего-то не решившаяся войти в комнату.
– Погуляю… Голова у меня… – уже с лестницы крикнул Алеша.
Иван Иванович стоял, прижимая к груди младшего сына (он именно так и чувствовал сейчас, что сбежал его старший, любимый сын), стоял, словно пришибленный, и думал:
«Алешка! Алешка! Как это я оставил тебя?!»
Когда сели за стол, доктор все еще не мог отделаться от чувства вины и избегал смотреть на Ларису.
– Помните, мы праздновали в Сталинграде, когда Григорий Герасимович получил звание заслуженного врача? – обратился к нему Злобин. – Было по стакану горячего чая да по бублику довоенного производства, но зато, дорогая Галина Остаповна, ваш благоверный с такой любовью вспоминал о вас! Умела, мол, она накрывать стол по случаю разных торжеств…
– Только потому и вспоминал! – шутливо упрекнула мужа Галина Остаповна.
– Нет, еще рассказывал, как вы ездили с ним на охоту и на комаров сердились.
Решетов слушал, мирно улыбаясь, довольный успешным днем.
– Алеша-то какой большой стал! – сказал он, но посмотрел на жену и умолк.
– Скоро женить будем парня! – Злобин всем плотным корпусом повернулся к Ларисе и – как будто кто его дернул за язык – с неожиданным озорством поддразнил: – Красивая свекровушка из вас получится: вы за это время совсем не изменились.
– Очень хорошо, – рассеянно отозвалась Лариса, с беспокойством взглянув на дверь.
Иван Иванович заметил ее взгляд, и его тоже охватило беспокойство: куда же сбежал Алеша?
«Видно, очень нервный мальчик. Сколько ему? Пятнадцать лет? Самый трудный возраст! Еще и пятнадцати-то нет. Да-да, после той сталинградской бомбежки ему пять лет исполнилось…»
Иван Иванович уже не раз ловил пытливый взгляд Вари, и это вызывало в нем досаду на нее. Разве можно шутить с чувствами? Все равно что с огнем играть!
В коридоре раздался телефонный звонок.
– Алеша звонил, – сообщил Решетов Ларисе. – Он домой поехал, просил передать, чтобы вы не тревожились.
– Почему он убежал от нас? Видно, скучно показалось! – сказала огорченная Галина Остаповна.
– За девчатами еще не ухаживает? – спросил Злобин.
– Пока не заметно, хотя знакомых девочек у него много. Он конькобежец хороший, в волейбол играет, да и в музыкальной школе есть друзья. Но говорит, что еще ни разу в жизни не влюблялся.
Все засмеялись, а Иван Иванович мягко сказал, не глядя на Ларису:
– Алеша обиделся бы на вас. Он ведь с вами, наверное, по душам говорил.
Лариса смутилась:
– Да, обиделся бы. Он очень серьезный мальчик.
– Отразилась на нем военная обстановка? – спросила Варя.
– Еще бы! Столько пришлось пережить!
В голосе женщины прозвучала такая боль, что Иван Иванович невольно поднял глаза. Внешне Лариса действительно мало изменилась за прошедшие десять лет. Но тогда, в Сталинграде, несмотря на невыносимую тяжесть обстановки, она в полной мере обладала обаянием молодости, даже горе придавало ей трогательную прелесть. Сейчас все в ней выражало силу и ум, но она уже перешагнула пору расцвета, и прежнее женственное очарование как бы потускнело со временем. Еще горел румянец, ярко блестели серые глаза и золотистые искры по-прежнему светились в пышных, просто причесанных волосах, но той прежней, нежной и огневой Ларисы, какой она осталась в памяти Аржанова, уже не было. Суровым казалось лицо, спокойно лежали на краю стола ее руки хирурга с чуть сморщенной, суховатой от постоянного мытья кожей. Все было знакомым и в то же время иным. Едва успев осознать это, Иван Иванович понял, что такая Лариса для него еще ближе и дороже.
«И лучше бы не видеть ее совсем!» – прозвучало в его душе. Он отвернулся и снова встретился с взглядом Вари, которая сидела с Мишуткой возле Галины Остаповны.
Она тепло улыбнулась мужу, а он не улыбнулся в ответ: не смог. В этот момент Решетов поднял рюмку и сказал серьезно:
– Давайте выпьем за здоровье Тартаковской.
– С великим удовольствием! – отозвался Злобин.
– И за здоровье нашего Про Фро, – добавил Иван Иванович, – без него мы сели бы на мель.
Фирсова тоже оживилась и так похорошела сразу, что Мишутка неожиданно спросил:
– Эта тетя красивая, да? – и показал на нее пальчиком.
Выбравшись из рук матери, он бочком пролез к стулу Ларисы.
– Ты мне что-то сказать хочешь? – спросила она с улыбкой.
– У тебя ямочки на лице… Кто их сделал?
– Вот так вопрос! – воскликнул Злобин со смехом.
– Леонид, это пошлость! – сразу взорвалась Раечка. – Нельзя так извращать наивный вопрос ребенка!
– Помилуй, почему пошлость?
– А ты даже не замечаешь?! Понятно: вы на фронте привыкли вести себя как жеребчики!
Злобин покраснел до корней светлых волос.
– Ну, знаешь!.. Если ты привыкла не стесняться при собственных детях, то хоть бы при чужих постыдилась!
– При чужом ребенке, ты хочешь сказать? Ну конечно, не женщину же ты имеешь в виду!.. Фронтовая подруга! Мы в тылу лишения терпели, а вы…
– А мы там веселились! – перебил Злобин, и нехорошо, неловко стало людям, помнившим его хладнокровие и невозмутимость в военной обстановке, – так нервно исказились черты его лица, с такой ненавистью посмотрел он на свою малютку жену, на ее искусные локоны и бантики ее прозрачной блузки. – Ты сама опошляешь все: и верность, и дружбу, и даже любовь к родине.
– Я?! – Раечка разразилась истерикой, но никто не тронулся с места, чтобы помочь ей.
– Ни стыда, ни совести! – пробурчал Злобин, сумрачно глядя, как изгибалась она на стуле, то хохоча, то рыдая.
Только Галина Остаповна подошла к ней со стаканом воды и, взяв за руку, сказала:
– Пойдемте в спальню, там посидите, успокойтесь, перестаньте, а то ребенка напугаете.
Раечка нехотя повиновалась: чувствуя, что снова хватила через край.
Что касается ребенка, то Мишутка совсем не испугался. Наоборот, он с живейшим любопытством наблюдал дикую сцену этого «куража», уверенный, что дядя Леонид сейчас отшлепает свою капризную Раечку.
– Вы уж простите! – сказал Злобин, с горькой, виноватой усмешкой посматривая то на Ларису, то на друзей.
– Полно, Леонид Алексеевич! – сердито ответил за всех Решетов. – Разве мы не знаем твою взбалмошную супругу! Не в ней дело. За тебя больно, дорогой!
«Как это возмутительно!» – думала Варя, глядя на Ларису, которая сидела, опустив голову, точно стыдясь смотреть на окружавших ее людей.
Ларисе было очень тяжело. Ведь такое нередко встречалось в ее жизни. Пусть в иной форме, но ее уже не раз оскорбляли. За что же? За то, что она красива и одинока? Но разве она виновата в своем одиночестве? Разве она сама разрушила свою семью?
Она выпрямилась и встретилась со взглядом Аржанова. Он смотрел на нее явно расстроенный, но что-то большее, чем жалость, чем простое человеческое сочувствие, светилось в его глазах. Если бы он посмотрел на нее так до выходки жены Злобина!.. Если бы Лариса ощутила эту теплоту при первой встрече, или когда приходила к нему по поводу Наташи, или сегодня, когда он здоровался с нею! А сейчас… Можно ли так смотреть на нее после нанесенного ей оскорбления?!








