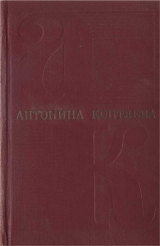
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 49 страниц)
Да, Федор Иванович был большим тружеником.
Во всем, что касалось его общественно-литературной работы, он был высоким образцом. У него был изумительный дар редактора. Никого не подбивая на свой вкус, он вникал в существо вещи каждого автора. Подбодрить, внушить веру и в то же время разглядеть слабое место в романе ли, в повести ли, суметь подсказать автору, как написать лучше, сплошь да рядом отдавая идеи и образы из собственного писательского запаса. Все это он делал с редкостным самозабвением, от всей щедрой души. Никто из нас не радовался так чужой удаче, как радовался он.
Я не знаю другого писателя в нашей литературной среде, который мог бы так без оглядки вступить в драку за напрасно обиженного человека. Иногда таким человеком оказывался кто-нибудь, причинивший ему тяжелую личную обиду.
Я говорила:
– На твоем месте я никогда за него не вступилась бы.
На что он отвечал с доброй улыбкой:
– Антоша, он написал хорошую вещь.
И часто твердил:
– Мало напечатать автора. Надо его вывести в люди. Защитить от несправедливых наскоков. Помочь встать на ноги.
И защищал, и выводил, и ставил на ноги, получая иной раз такие обиды «в благодарность», что сердце переворачивалось от стыда и негодования за «братьев по перу». Но, сколько мне приходилось наблюдать, это никогда не разочаровывало его ни в людях, ни в работе. Он и другим внушал:
– Нельзя личную обиду переводить в политику.
Такое проистекало от необыкновенной его любви к советской литературе. Отсюда и страстная забота о молодых авторах. В этот круг входило все: хлопоты о квартирах, путевках, творческих поездках, мелочах писательского быта. Щедро давал взаймы. Любил дома большое застолье, угощал и слушал людей с жадным любопытством.
Утром в семь часов Федор садился за свои рукописи, после часа переключался на чтение авторов журнала. И так счастлив был, когда среди многих десятков рукописей находил что-нибудь подходящее!
Вечером он смотрел телевизор. Если шло что-нибудь неинтересное, отвлекался и снова читал или писал здесь же, в столовой.
Он был очень красив и таким остался даже тогда, когда злые болезни начали последний приступ. Сидит, бывало, подперев кудрявую голову крупной мужицкой рукой. Профиль точеный, дерзкий, густая бровь насуплена, а на губах крупного, хорошо очерченного рта бродит мягкая усмешка. Все сидело ладно на его плечистой стройной фигуре – и выходной костюм, и охотничья куртка, и домашний халат.
Особенно нравился Федору халат в серую и темно-красную полоски, он даже брал его с собой в больницу. А в больнице он провел много дней, хотя и не любил лечиться. Но что поделаешь – как ни стискивай зубы, как ни крепись, а валит хворь с ног. Свалила и его. Лечился он не так, как все, – превращал больничную палату в рабочий кабинет. Но нянечки и сестры его просто обожали. Никаких капризов. Никаких грубостей. С ними он был очень добр, считал себя обязанным им за самоотверженный уход, не в пример некоторым больным, которые полагают, что обслуживающий персонал обязан все переносить. А он улыбался и шутил даже на пороге смерти и во время всяческих процедур был терпелив бесконечно.
Помню, сестра делает укол – вливание в вену. И раз мимо, и другой, и третий. Он только морщится, а у сестры все лицо запылало.
– Может, отложим? – говорит Федор. – Вы знаете, как у нас, охотников, бывает? Промахнешься раз, другой. Положи ружье. Передохни. Иначе будешь мазать бесконечно.
А стрелял он прекрасно и меня приобщил одно время к охотничьей страсти. И немало я ему благодарна за то, что к моим знаниям о природе добавились еще и разговоры в озерных камышах, и токование тетеревов, подслушанное из еловых шалашей, и засады на козьих тропах.
Но, пожалуй, самым любимым нашим развлечением были грибные походы. Вот это была страсть! Вот это азарт! Белые грибы Федор искал серьезно. Когда попадался крепыш, твердо стоящий на толстой ножке, он снимал шляпу и не шутя раскланивался, а то разговаривал с ним, прежде чем срезать и положить в корзинку.
Незадолго до его смерти я привезла ему в больницу три таких грибка. Он лежал все еще очень слабый после операции, с закрытыми глазами.
Выпив в коридоре каких-то успокоительных капель, я бодро вошла в палату и сказала почти весело:
– Посмотри, какие грибы.
– Грибы? – На бледном его лице появилось оживление. Он открыл глаза. – Какие хорошие! – И заулыбался, а когда я уходила домой, почти строго наказал: – Побывайте на березовом «огороде». И под мой дуб обязательно загляните. Как бы я хотел хоть еще один раз побродить по лесу!
Но побродить по лесу ему больше не пришлось.
Он умер 10 сентября 1960 года. Это было в субботу утром.
В первый раз смерть приходила за ним в мае 1958 года, когда он был в Англии. Тогда только вмешательство замечательного доктора Эдуарда Безарта возвратило его с того света. После почти полного провала в небытие Федору Ивановичу перелили в клинике около четырех литров «английской» крови. И едва открыв глаза, он уже начал шутить и смеяться, называя себя человеком новой, англо-русской породы.
Эта шутка облетела Англию, а наше пребывание в Оксфордской больнице как бы «взорвало» эту больницу изнутри. Два раза за десять дней его переводили с этажа на этаж, но это не меняло положения: «русский богатырь» везде вызывал всеобщую симпатию.
Он страстно боролся со своими недугами. Боролся работой, шуткой, стремлением выйти на народ, общением с природой. Любой человек, проведя бессонную мучительную ночь, встал бы утром разбитый, а он сразу рвался к письменному столу и работал, работал…
– Так мало жить осталось, – говорил он, – так много надо сделать.
Второй раз он умирал в Москве в апреле 1960 года от уремии. Три дня длился у него тяжелейший приступ. Судороги. Бред. Бессознательное состояние. Отходила его врач Ольга Николаевна Афанасьева. Ей и раньше приходилось выводить его из тяжелых состояний. И тут, когда все было почти безнадежным, только величайшая забота врачей и сестер еще раз вернула его к жизни.
Цветущая пора мая застала его по-прежнему страдающим, но жизнерадостным, а профессора продолжали дипломатничать:
– Возможно, понадобится операция…
– А можно не делать?
– Если повторится приступ уремии, тогда все будет кончено.
– Вы подозреваете самое страшное? – спрашивала я.
– Не исключено. Не исключено…
А сами уже давно знали.
Но когда ты ничем не можешь помочь, может быть, лучше и не знать?.. Ведь сам больной исключается из общего круга обманщиков: все знают, а он не знает. Он строит планы на будущее, а ты должен смотреть ему в глаза, и поддакивать, и улыбаться, хотя бы сердце у тебя разрывалось от боли.
Правда может добить человека. А его надо подбодрить, внушить ему надежду. И вот улыбайся, радуйся…
Дело шло к развязке, Федор едва двигался после новой операции. Он очень похудел, ноги распухли, очень ослаб, а работал так, что и здоровому не угнаться.
Едва закончив новый роман, о котором однажды сказал с горечью и гордостью: «Завершил судьбы всех героев, а теперь свою жизнь подытожить пора», – он уже думал о новой большой книге. Мечтал написать роман о Баку и роман о московских рабочих.
Тяжело было видеть, как он таял. И в то же время, обманывая его, я убедила и себя, что он будет жить. Иначе невозможно, немыслимо так лгать, шутя, улыбаясь, глядя в глаза смертельно раненного болезнью человека, ближе, дороже которого у тебя нет никого на свете.
Дней за пять до смерти собрался очередной консилиум. После этого отменили все сердечные лекарства: нашли, что сердце у Федора хорошее, пульс нормальный… В эти же дни мы с сестрой Федора – Марией Ивановной Панферовой – еще раз настойчиво переговорили с профессорами. Фактически ему ничем не могли помочь. Получалось в конце концов так: те, кто должен был лечить его от рака, говорили, что он погибает от истощения в связи со спазмами пищевода, которыми страдал, как считали, на «нервной почве». Те же, кто лечил от этих спазм, заявляли, что он гибнет от рака.
Тогда мы поставили вопрос о вызове из Англии доктора Безарта, сумевшего два года назад не только спасти Федора от смерти, но и избавить его на время от всяких неприятных ощущений.
Выслушав об окончательном решении консилиума вызвать Безарта, Федор просиял, ободрился, впервые по-настоящему позавтракал.
В этот же день ему предложили перебраться в тихое, спокойное помещение на нижнем этаже, а в этой палате будто бы решили сделать ремонт.
Федор обернулся ко мне:
– Посмотри, Антоша.
Мы пошли с доктором. Посмотрели. Большая палата с двумя окнами, комфортабельно обставленная, с коврами и телефоном. Рядом гостиная с мягкой мебелью. Санузел, комната для сестры и совсем изолированный выход во двор.
Странно насторожил меня этот отдельный выход, но я была так довольна решением о вызове Безарта…
– Там целая отдельная квартира, – сказала я, вернувшись.
– А телефон есть?
– Есть.
– Тогда переезжаем.
Снятие телефонного аппарата в палате после операции очень угнетало Федора, который дня не мог прожить без редакторов и авторов.
Вечером мы с его сестрой опять пришли к нему на новоселье. Он сидел в своем полосатом халате в углу за круглым столом и что-то писал, но глаза у него были усталые.
– Ты намучился с переездом?
– Нет, ничего. Только когда каталка прыгала по ступенькам, было неприятно и тяжело. Последнюю лестницу я прошел сам, пешком. О, я теперь стану делать все, чтобы выздороветь. Сегодня выкурил только десяток сигарет. Почти не пью боржом. – Лицо его оживилось, помолодело, глаза зажглись синим светом, заблестели. – Великий грех украсть что-нибудь у народа. Но не меньший грех для писателя не дать то, что народ от него ожидает.
Из больницы мы отправились домой, потом я уехала на дачу. За это время Федор уже звонил туда из новой палаты два раза. Он мог звонить, а к нему звонить было нельзя. Подосадовав, я села за работу.
Без двадцати минут двенадцать – звонок. Это был Федор. Он много и хорошо говорил о наших общих делах, о работе, а потом вдруг сказал:
– Знаешь, тут даже столовая есть, и можно все заказывать повару. Я попросил себе котлету де-валяй. Принесли. И я ее съел. Такая вкусная котлета! Теперь всегда буду заказывать себе эти котлеты.
После пережитых волнений я впервые немножко успокоилась и, приняв снотворное, проспала девять часов подряд. Перед сном созвонилась со знакомым журналистом, чтобы он сам переговорил еще с Безартом.
Утром звонок, женский взволнованный голос:
– Приезжайте! Федору Ивановичу плохо.
В Москву мы не ехали – летели.
Все передумала. Бегу сразу во двор. Отдельный выход закрыт. Ответа нет, а окно высоко. Кругом – в вестибюль. Гардеробщица бросается провожать. Вот и новая палата… Федор, закрыв глаза, лежит на кровати, укрытый до подбородка простыней. Медсестра сидит у изголовья, легонько поглаживает его по щеке. Значит, было плохо, а теперь отдыхает… Подхожу, наклоняюсь. Лицо милое, спокойное, но странно неподвижное. Оглядываюсь на сестру: плачет. Удушье подкатывается к горлу. Кто-то сует мне в рот мензурку с лекарством.
– Не надо, – отстраняю я склянку, боясь заплакать, чтобы не терять из виду его лицо. Мужественно-твердо нахмурены густые брови, а в уголках рта, навсегда сомкнутого, сквозит добрая улыбка.
Не хочу плакать, но вспоминаю о вкусной котлете де-валяй, и слезы слепят глаза.
Он умер утром… В восемь часов приходил врач, проверил пульс. Федор спал. В восемь сорок пять кашлянул два раза, сестра Ольга Пятницкая подбежала к нему, но он уже был мертв: во сне остановилось сердце.
Его повезли на вскрытие в Институт имени Склифосовского, а мы с Марией гнали следом и долго, как оглушенные, сидели там в коридоре и ждали, будто от сообщения прозекторов что-то еще могло измениться.
Они вышли: Татьяна Павловна Вощанова и Зинаида Федоровна Ченцова.
– Умер от паралича сердца. Мгновенное расстройство сердечной деятельности. Был рак мочевого пузыря, но метастазов нигде нет. Счастье, что он вовремя умер, не дожив до последней болевой стадии, когда люди гибнут в нечеловеческих страданиях. Скажите спасибо, что вы не видели этих мук.
Я смотрела на врачей и думала: «Какое же это счастье и за что спасибо? Нам был дорог каждый день его жизни. А как он сам хотел жить!»
В этот день мы убирали и готовили квартиру, купили гроб, цветы поставили, а назавтра привезли Федора домой.
Его кудрявые мягкие волосы, не мытые в больнице, лежали седоватыми вихрами. Я хотела поправить, ничего не выходило. Вспомнилось, как накануне смерти, обрадованный известием о приезде Безарта, он попросил меня помочь ему причесаться. Я полила ему воду на ладони, он намочил волосы и, чуть поерошив их, сразу сделал кудрявыми.
– Вот говорят: когда волос мягкий, то характер покладистый, – сказала я.
Он громко, задорно рассмеялся:
– Препокладистый!
А теперь лежит тихий, безмолвный, навсегда присмиревший.
Боялся почему-то всегда, что я уйду от него, а ушел сам, сказав мне накануне:
– Я только теперь поверил, что ты от меня никогда никуда не уйдешь.
Недели за две до его смерти в саду на даче сломалась яблоня, единственная, яблоки с которой он мог есть. Сколько раз, пока он был дома перед последней операцией, мы с ним останавливались возле этой яблони, любуясь и поражаясь обилию плодов, зревших на ней. И вот она разорвалась и рухнула на дорожку во всей красе плодородия. И Федор рухнул так же, как эта яблоня, полный надежд, планов, творческих замыслов и устремлений.
Не было сил поверить, что гора венков на Новодевичьем кладбище, что яма, куда опустили человека, единственного, неповторимого, – не тягостный сон, а правда, что теперь надежды уже нет и даже самое лучшее в жизни – работа – станет постоянным напоминанием о душевной осиротелости.
Ах, Федя, Федя!
Он был широкий, озорноватый русский человек, и я устроила ему поминки не в ресторане, которые он никогда не посещал, не в Центральном доме литераторов, а в помещении редакции журнала «Октябрь».
Было дорого то, что пришли самые различные в творчестве: и писатели, и критики, и поэты, и наборщики типографии. Собралось около двухсот пятидесяти человек. Тесновато стало, но столько было произнесено горячих речей, такая дружественность к покойному чувствовалась! И если бы Панферов мог взглянуть на тех, кто пришел помянуть его добрым словом, он, наверное, доволен бы остался. Ведь он так любил посидеть с народом и послушать, живым словом объединить людей для большого дела. Он нежно и страстно любил журнал «Октябрь». Ему дороги были советские писатели, и молодые и старые, и он говорил мне не раз:
– Станем рядом плечом к плечу. Ведь дел у нас так много. А слава? Хоть мелким петитом, но все равно наберут наши имена потомки. Наша литература никогда не умрет, потому что мы живем для будущего.
Сидим с его сестрой за столом, не зажигая огня. Над городом спускаются ранние сумерки, и вполнеба встает желтый закат, подернутый тускловатой лиловой дымкой. Черные переплеты рамы крестят умирающий день.
Прибор для Федора поставили, и стул придвинут, а его нет, и все говорит: он не придет. Его не будет. Одни воспоминания останутся, пока не умрут вместе с тобой.
Потом ехали по Москве, и видно было, как опускались в пролеты улиц серые ночные тени, и стены домов отсвечивали странной желтизной под этой серостью. И все болела в душе свежая рана.
Летела навстречу тоже серая среди черного леса дорога, а впереди светился, и отступал, и все боролся с надвигающимся мраком ночи красный закат. Безлюдная темная деревенская улица, резкие на фоне слабого уже борения заката слепые контуры деревенских изб. И только одно окно светится в стороне – красные квадраты сквозь строгую крестовину рамы. Трагически жутко наступает первая ночь полного одиночества.
Для меня всегда равно были хороши и утра и вечера, а Федор не любил сумерек.
Ах, Федя!
Впервые в пятьдесят лет от роду дошла до меня скорбь дневного угасания.
Подъезжаю к даче. Темно. Глухо. Как трудно переступить знакомый порог. Прибежали шотландские овчарки Скифл и Цези. Федор очень любил их… Да, не может человек быть в горе один!
Слушаю реквием Моцарта – дивный, скорбный голос осиротевшей любви, – и как будто умираю сама.
Это что же, всегда так будет?
Двадцатого сентября – день рождения Федора. Немножко не дотянул до шестидесяти четырех лет. Приглашая на дачу его старых друзей, я даже не представляла, какую новую пытку себе устраиваю. Пока накрывала на стол, все грызла меня тоска, все Федор мерещился на каждом шагу. Еще тяжелее стало, когда собирались гости, а я одна встречала их у входа. Звучала Крейцерова соната Бетховена, которую Федор со страстным волнением слушал за несколько дней до кончины, но товарищи не замечали музыки. Они давно не видались и оживленно разговаривали между собой. Меня это не обидело, а просто стало страшно грустно. И подумалось: «Вот я слушаю эту величаво-трагическую мелодию, как слушал ее ты, уже обреченный смерти, но не сознававший того. Слушаю и разговариваю с тобой через эту музыку… Но ты слушал ее, томясь еще неясным предчувствием конца, а я теперь – уже узрев его и бесконечно множа в воображении жалостную и могучую картину твоей гибели. Сколько горя на свете! До чего беспомощна еще медицина, и не только в борьбе с тем чудовищным, загадочным и беспощадным, от чего – вернее, из-за чего – ты погиб!»
Самое ужасное наступило, когда гости расходились, уезжали, а я стояла одна на крыльце, а потом гасила свет и закрывала двери, отгораживаясь от черного ночного леса, от безмолвия, похожего на могилу.
Но пришло утро – чудное, солнечное, теплящееся золотом листвы. Ходила по саду, а в ушах звучал вдруг вспомнившийся стон некрасовской вдовы-крестьянки:
Где же ты, Пров Севастьянович,
Что помогать не идешь?
А у меня свое:
– Где же ты, Федор Иванович, что ты домой не идешь?
Нет, надо уехать на нефть, о которой пишу роман, и как можно скорее уехать. В чусовские городки. В Ишимбай, в Салават, на Южный Урал. Нельзя поддаваться горю.
Пришло на ум выстраданное: из несчастья надо выходить более сильным человеком.
И еще вспомнилось: «Я так люблю, когда ты сидишь за письменным столом и работаешь».
Да, я буду работать. Люди приходят и уходят, а мир все так же полнится, шумит народом. И если ты можешь что-то дать людям – отдай. Отдай со всей страстью, и тогда почувствуешь, как самое маленькое дело станет делом всей твоей жизни! Ради одного этого стоит жить.
1963–1969
Мы всюду ездили вместе. И мне стало очень грустно, когда осенью 1963 года, вылетев в Баку на Всесоюзный съезд нефтяников, я одна смотрела в окно самолета на приближавшееся каспийское побережье – вторую родину Панферова. В синей дымке потянулись справа горы – начало Кавказа, и море раскинулось, матовое, голубовато-серое, с белыми парусами низких облаков. Только там, где солнце стелило свою дорожку на поверхность воды, она отсвечивала жемчужным блеском.
Здесь когда-то проплывала шхуна, а в трюме ее, возле скудных вещичек, затолканных в мешки, маялась от морской болезни крепкая и румяная, как наливное яблоко, мать Федора – Дарья Панферова, и стонал, охал, ругался его отец Иван Иванович, плечистый, бородатый горбоносый волгарь. Раньше Иван Панферов служил солдатом в Красноводске. А потом все «таскался» из своей Павловки на заработки в Баку. Раз пятнадцать он ездил туда. Сначала один, потом с молодой женой – Дашонкой, а вот и с детишками вместе…
У Федярки был превосходный слух, и он, кудрявый, загорелый и чумазый, как цыганенок, пел звонким альтом на бакинских улицах и базарах, не гнушаясь людскими подаяниями. Давила крепко нужда на большую семью Панферовых. Бегали ребятишки мыться вот в это дивное с вышины море, подернутое сейчас осенним туманом. Но возвращались домой еще грязнее: в море плавала нефть, а на дне, возле берега, сторожил и хватался за ребячьи подошвы липкий мазут.
Вспоминая свои детские годы, проведенные на берегу Каспия, Панферов писал о том, что на нефтепромыслах – в отличие от деревни того времени – существовала дружба между людьми-тружениками. В Баку он впервые понял и то, что такое социальное неравенство.
Больших высот достиг он в жизни, а увидеть еще раз город своего детства ему не пришлось.
Я была здесь впервые тридцать два года назад. Ходила по улицам и не знала того, что по ним бегал когда-то маленький синеглазый человечек, судьба которого в один прекрасный день станет мне навсегда близкой.
В те времена Баку был хорош в центре и очень грязен на окраинах. Промыслы – сплошной лес деревянных темно-серых вышек, промазученная земля без единой травинки, голые желтые горы на фоне ярко-синего неба. Крепко врезались в память улицы старого города и развалины ханского дворца с черными подземными ходами, куда меня затаскивало только страстное влечение к археологии, заставлявшее забывать о змеях и скорпионах.
Самолет остановился на беговой дорожке аэродрома. В открытую дверь рванулся ветер… С тех пор как я стала писателем, да еще женой писателя, я из-за недостатка времени перестала бывать на курортах. Двадцать восемь лет не видела ни Черного, ни Каспийского морей, ни сказочного побережья то изумрудного, то желтоватого Тихого океана, ни бурного серо-синего Охотского моря. Балтийские волны и Ла-Манш прошли за это время перед глазами только под крылом самолета. А сейчас прямо в лицо ударил морской ветер, солоноватый, упругий, крепко отдающий запахом нефти. Ветер нефтяного моря, омывающего первозданно дикую землю, покрытую то песками, то развалами камней да колючками, но такую родную, что кричать хочется.
Вот нефтяные вышки, но они уже не те – почерневшие, деревянные, – а сплошной ажур из стальных серебристых конструкций. Возле домов появились зеленые деревья и цветущие кустарники, и все иное теперь на промыслах.
А сам Баку? Баку сегодня очень красив. Хожу и не нахожусь, гляжу и не нагляжусь. Какие прекрасные дома, какие нарядные чистые улицы, как хороши зеленые аллеи, протянувшиеся от набережных по всему городу, раскинутому амфитеатром над морским заливом. Маслины с лиловеющими в сизой листве картечинами еще незрелых плодов, индийская сирень, пальмы.
Видный отовсюду стоит на вершине горы превосходный памятник Кирову. Его протянутая к морю рука и весь его облик кристально чистого человека зовут нефтяников на новые дерзания в труде.
Киров – это светлая душа партии, ее бесстрашный порыв вперед, побеждающий смерть.
Шумят на ветру деревья садов. Длиннохвойные эльдарские сосны мягко раскачивают тяжелые и гибкие кроны, похожие на темные облака. Эти сосны повсюду в Баку: в парках, на набережных, на склонах недавно озелененных гор. Они не боятся жары и засухи. Но там, где норд-ост дует без задержки, напропалую, стволы их резко накренены, словно деревья стремительно бегут к морю. В этом наклоне тоже своя красота. И еще много плакучих ив, струящих на ветру переливчатое серебро гибких ветвей. Особенно хороши эти ивы на набережной, где среди пучков роскошных пальмовых листьев блестят воды каналов «бакинской Венеции».
Тридцать два года назад набережная Баку была вся изрыта. Желтели и чернели груды земли. Виднелись деревца-былинки, и только ярко цвели пахучие красные и белые олеандры.
Я все ходила и нюхала эти цветы на тонких высоких стеблях, похожих на северные тальники.
А еще они напомнили мне Дальний Восток, сорокаградусную жару, тропической силы ливни, грохотавшие по цинковым крышам нашего городка Зеи, и махровые бело-розовые олеандры, вдруг на диво всем распустившиеся в палисаднике, куда я вынесла их из дома.
Какие душистые они были! А древний кореец-огородник сказал мне, девочке пятнадцати лет:
– Ты, Тося, совсем как эта цветока. Такой, – и он, с трудом сведя в щепоть огрубевшие пальцы, чуть развел их, желая показать раскрывающийся бутон.
Много лет прошло со дня моего первого приезда в Баку!
Былинки, посаженные на улицах, превратились в прекрасные деревья. Я постарела, а город помолодел и удивительно похорошел.
Совершенно сказочно он выглядит ночью, если взглянуть на него от памятника Кирову с зеленого венца, куда бегут вагончики фуникулера: вдоль всей гигантской подковы берега сияет на дышащей темной груди моря огнистое ожерелье. Смотришь и нет слов для передачи того, что теснится, поет в душе. И песни тут мало. Надо писать целый роман, чтобы показать Баку сегодня, и его города-спутники, и его нефтепромыслы: на суше, на прибрежных насыпных площадях в бухте Ильича, на легендарных Нефтяных Камнях в открытом море.
Я прохожу по «Черному городу», где жила когда-то семья Панферовых. Теперь тут сплошные заводы, но «черный снег», удивлявший Федярку Панферова и доставлявший столько хлопот его матери, которая не успевала стирать ребячью одежонку, уже не сыплется с неба. Улицы чисты. Хотя крыши домов, и одноэтажных и многоэтажных, по-прежнему плоски, – это спасение от бешеных норд-остов, и можно спать на этих крышах в летние душные ночи. Правда, все еще зарешечены окна нижних этажей, но зато они и открыты настежь все лето.
Еду на Бибиэйбат, где плотник Иван Панферов строил деревянные буровые вышки. Здесь тоже все дышит новью, и я думаю: вот то, что дает нам всем неистребимую веру в будущее.
* * *
После Баку меня особенно сильно потянуло на родину Федора, в село Павловку Ульяновской области. И повод для поездки вскоре появился такой, что я сразу же собралась в дорогу: павловцы открывали районную детскую библиотеку имени Панферова.
Свое родное село Павловку Федор Панферов вспоминал часто. Рассказывал о ссорах крестьян, о голоде, приносимом черными бурями знойных суховеев, о холерных поветриях. Темным и нищим вставало в этих воспоминаниях приволжское село в районной глубинке, хотя и славилось оно на всю округу своими базарами.
Почему-то врезался мне в память рассказ Федора о том, как он, когда учился в Вольской учительской семинарии, решил на рождественские каникулы отправиться к родным в Павловку. Голодный, в шинелишке и форменной фуражке, с желтым башлыком на плечах, в ботинках без калош, прихватив балалайку, шагал он по заснеженным полям и перевалам, зяб на злом ветру, прислушивался, не нагонит ли кто на лошади.
– Когда я совсем окоченевший подходил к Павловке, – рассказывал он, – над селом уже кучились мрачные зимние сумерки.
А дома встретили равнодушно. «Пришел! А у нас и поесть-то нечего», – сказал отец.
Нередко бывали такие встречи и вечера, и всю жизнь Федор не любил сумерек.
Многое в родном селе отталкивало его: преступления богатеев, произвол полиции, бешеные драки в семьях при дележе имущества. Недаром, потрясенный очередным зверством, мальчик с отчаянием думал: «Бежать! Куда угодно, но бежать!»
Но куда убежишь без денег, без помощи?
И все-таки Федор Панферов вырвался из тисков деревенской косности.
Но от деревни, от своих Ждаркиных и Звенкиных, он оторваться не мог и не хотел: они жили с ним, звучали в нем до самого смертного часа. Последний его творческий замысел – так и не написанный роман – опять был связан с Кириллом Ждаркиным. Поэтому Панферов не терпел, когда его называли «выходцем из народа». «Из народа я никуда и никогда не выходил», – говорил он.
Дважды лауреат Государственной премии, депутат Верховного Совета Союза и депутат Верховного Совета РСФСР, имевший разные фронтовые ордена, Федор три раза награждался орденом Трудового Красного Знамени. Безделья он не терпел и часто говорил:
– Я – мужик, волгарь. Отец нас с малых лет не щадил в работе. Бывало, сонных покидает на телегу и в поле – теребить пшеничку на полосе. И хоть голодное, босое выпало детство, но я его не кляну: все равно оно было счастливое.
После войны мы не раз собирались побывать в его родном селе, но все мешали дела, работа над книгами, болезни. Однако павловцы помнили о своем писателе-земляке. Многие из людей старшего поколения знали его лично и, когда он умер, обратились к правительству, чтобы им разрешили открыть детскую библиотеку имени Панферова.
Пятнадцатого октября 1963 года увидела я с высокого нагорья изумительно красивое село, раскинувшееся в громадной лесистой котловине.
– В голодный двадцать первый год смахнуло здесь пожаром сразу шестьсот домов, – сказали мне попутчики. – В землянки влезли крестьяне, пока опять не отстроились. Да, вот так и жили: суховеи, неурожаи, голод, мор, пожары.
А поля на подступах к селу и огороды – бархатный чернозем, даже на улице, где размешана осенняя грязь, хоть огурцы сажай. И из каждого двора видна панорама – картину пиши.
Лес-то, лес! Вон Долгая гора – темно-зеленая сосновая грива, там дубовые рощи бронзовеют, там березы и осины приступом прут на село. Такое все дремучее, словно никогда не касался топор дровосека этих буйных чащоб. Только у подножья села, замыкая долину, стоит голый бугор – Шиханом называется.
Взглянешь направо, налево посмотришь, и сразу зазвучат в ушах панферовские слова из его «Родного прошлого»: «Помню лес – густой, будто грива откормленного коня, и глубокий овраг, а на краю оврага избушка – подслеповатая, старенькая, как и моя бабушка Груня». Но то, что видел маленький мальчик, – живая явь и сейчас, через шестьдесят лет. Вот так лес! Вот так горы! Вот так Павловка – дивное село!
– У нас еще и родники кругом! – похвалились павловцы, довольные произведенным впечатлением. – Водопровод у нас построен деревенскими умельцами в начале девятисотых годов. Закопаны в землю балки – сосновые бревна, просверленные цыганскими буравами, а по ним идет самотеком родниковая вода.
Смотрю, и правда: вдоль широких улиц стоят накрытые конусами крыш большие круглые бассейны, в которых день и ночь шумит студеная, прозрачная, как стекло, голубоватая родниковая вода. И обычай установился: раз в году воду перекрывают, лучшие девушки села босиком спускаются в бассейны, чистят их, соскребают зеленый мох с звонкоструйных балок, поддерживающих полутораметровый уровень воды. А родники повсюду: Гремячий, Шумкин, Головушка в Долинном у Девяти дубов-братьев. Все по «Брускам» знакомое.
В Павловке теперь есть улица имени Панферова. И еще на площади Ленина, на месте, где была лавка купца Крашенинникова, у которого Федор работал мальчиком, на краю молодого сада выстроен светлый каменный дом с вывеской «Детская библиотека имени Ф. Панферова».
День выдался погожий, солнечный. Народу на площади собралось до двух тысяч. Какое оживление на лицах! Сколько молодежи! Вот она, новая сельская интеллигенция! Сразу чувствуется – небывалое торжество на селе. И мальчишки, как это всюду водится, словно грачи облепили заборы. Еще бы! Отовсюду приехали гости, нагрянули фотокорреспонденты и операторы телевидения. Часто собирается народ в Павловке, но сегодня необыкновенное: в память писателя-земляка открывают новую библиотеку.








