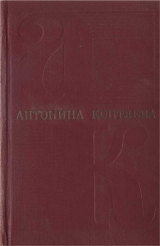
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 49 страниц)
Потом Иван Иванович осмотрел гвардии сержанта орденоносца Морозова, у которого около десяти лет сидел в мозгу осколок. Морозов был широк в кости, не обижен и ростом, но очень слаб и еле передвигал большие ноги, шаркая шлепанцами, точно лыжами. Он побывал уже в нескольких клиниках и перенес шестнадцать операций. Две последние сделал ему Иван Иванович. Осколок сидел в глубине раневого канала, по ходу которого образовывались мелкие гнойники – абсцессы, и наружный свищ не заживал – мокнул.
– Ну, что будем делать? – не скрыл огорчения Иван Иванович, осматривая Морозова, состояние которого все ухудшалось: нарастали головные боли, рвота, припадки эпилепсии и частичные параличи.
– Давайте попробуем еще, – тихим голосом, но решительно попросил Морозов. Чернобровое, большеносое от худобы лицо его с резко выступившими скулами и ямкой на твердом подбородке покрылось испариной от слабости и волнения. – Так я все равно пропаду.
«Какие разные люди! – подумал Иван Иванович. – Один не может решиться на операцию, хотя это для него вопрос жизни. Другой шестнадцать операций перенес и опять готов повторить попытку, только бы войти в строй. Можно себе представить, каким солдатом он был на фронте!»
– Я хотел попросить предупредить, – продолжал Морозов. – Если я дойду до того… если стану, как некоторые… ну, вы понимаете… вы меня все равно оперируйте. До тех пор, покуда не достанете этот осколок. Понятно?
– В таких случаях мы всегда с родными советуемся.
Морозов побледнел, если можно так сказать о человеке, у которого ни кровинки в лице: кожа его приняла мертвенно-серый оттенок.
– Я теперь один остался: жена уехала и сынишку увезла, за другого замуж вышла. Что ж? – Морозов опустил голову, но тут же прямо взглянул на доктора, лихорадочно блеснув глазами. – Я ее не виню, она долго меня ждала. Молодая еще, а я из одной больницы в другую уже десятый год. Сколько можно терпеть и надеяться?
– Извините, голубчик! Я не знал…
– Сынишку жалко! – точно не расслышав слов доктора, говорил Морозов, терзая в руках какую-то бумажку. – Перед отъездом прибегал прощаться. Плакал. Когда, говорит, выздоровеешь, папа, напиши, я к тебе приеду. Вместе с тобой жить будем. А она не вошла, только вот записку… – Морозов неожиданно всхлипнул, но, стыдясь своей слабости, добавил: – Сделайте, как я прошу. Кроме вас, у меня никого нету.
17
К тяжелым больным родственников пропускали каждый день, но у койки Наташи Коробовой находилось сразу трое посетителей, а чуть в стороне стоял четвертый. Это было уже нарушением порядка, и Иван Иванович, расстроенный разговором с Морозовым, сердито нахмурился. Подойдя ближе, он увидел Наташку, Елену Денисовну с сеткой-авоськой, в которой лежали пустые стеклянные банки и бутылки из-под молока, и очень грустного Ваню Коробова. Тот, что стоял в сторонке, оказался Алешей Фирсовым.
– У вас здесь настоящий прием! – Иван Иванович окинул взглядом компанию, на которую никак не мог сердиться. – Здравствуй, Алеша! – Он пожал руку подростка и, заметив его волнение и радость, вспомнил разговор Морозова с сыном. Ему захотелось обнять мальчика, взлохматить его строго зачесанные волосы, но обстановка того не позволяла.
– Придется мне завтра ехать домой, – сказал Коробов, увидев доктора. – Вторую телеграмму получил от приискового управления: торопят с выездом.
– Поезжай, – подала голос Наташа. – Ты видишь: я спокойна. А дочки маленькие, им присмотр нужен.
Она даже приоделась, вернее, Елена Денисовна успела принарядить ее в ослепительно белую домашнюю кофточку, а стриженую ее голову повязала тоже беленькой батистовой косыночкой, обшитой узким кружевом.
– Поезжай! – сказала Коробову и Елена Денисовна. – Можешь не беспокоиться, мы позаботимся о твоей женушке. Завтра я тоже на работу выхожу, но все равно найду время сюда заглядывать. Да и завхоз у нас имеется. – Она кивнула на Наташку, которая, запахнувшись в больничный халат, смирно стояла рядом. – Пока каникулы, ей все можно поручить.
– Тут яблоки и мед. – Алеша подал Коробову плотный сверток. – Яблоки чистые, мы их вымыли, – пояснил он, отчего-то краснея. – Мама просила сообщить вам номер нашего телефона. Вот я записал… Он не наш, а общий – в коридоре, но это не важно. Если что-нибудь понадобится, позвоните нам.
– Спасибо, но мне совестно… – сказала Наташа.
– Благодарить после будешь, – с грубоватой ласковостью перебила ее Елена Денисовна. – А сейчас ешь побольше да спи подольше, набирайся сил перед операцией.
– Я и так много сплю, – кротко ответила Наташа.
«Я стараюсь больше спать, чтобы скорее время прошло», – прозвучали в ушах Наташки слова умиравшего брата, и она почти с испугом взглянула на Ивана Ивановича.
И все взгляды обратились к нему.
– Скоро… операция? – спросила Наташа.
– Недельки через две возьмем вас в операционную.
– Очень долго ждать…
– Раньше нельзя. Поспешность полезна только при ловле блох, – невесело пошутил Иван Иванович. – Нам надо предварительно все выяснить.
– Ну, пожалуйста. Мы подождем. – Ожидая решения своей судьбы, Наташа столько думала о муже и девочках, что даже в разговоре не отделяла себя от них. – Ко мне новый гость пришел, – заставив себя улыбнуться, добавила она. – Вы помните его? Наш общий детеныш. Вон какой вымахал!
– Да, Алеша вырос… – Иван Иванович взял руку Наташи, заметил росинки пота над ее бровями. – Боли такие же сильные?
– Ничего… – Чтобы не расстраивать Коробова перед отъездом, Наташа не жаловалась на свои страдания, но врачей вводить в заблуждение нельзя: для них ее страдания – симптомы болезни, а не повод для сочувствия. – Болит очень, – призналась Наташа тихонько.
– А тошноты?
– Тошнит. И запахи мучают. Сейчас повернулась, запахло гнилой рыбой. Вы чувствуете? Нет? А я очень… ужасный запах!
– Почему у вас губы так запеклись, вроде покусанные?
– Не знаю… может, во сне что-нибудь…
– Это безобразие! – сказала Софья Шефер, догнав Ивана Ивановича в коридоре.
– О чем вы?
– Новая палатная сестра закатила вчера выговор Коробовой за то, что она тревожила стонами свою соседку Щетинкину. Вы видели, какие губы у Наташи? Оказывается, ей сегодня опять было плохо, и она в кровь искусала губы, чтобы не стонать. Сестра сама рассказала мне.
– Очень волевой человек наша Наташа!
– Она-то волевая, да сестра-то какова?
– Я уже заметил эту сестру: похожа на сердитую наседку. Еще не изучила всех больных, а Щетинкину бережет после операции. Хотя, надобно признать, Щетинкина – дама с большими претензиями и мнительная очень. Хорошо, что сестра созналась сама. Теперь никто лучше ее не выходит Наташу после операции. Поверьте моему опыту.
Несколько шагов прошли молча.
– Что вы думаете делать с Морозовым? – спросила Софья, все еще не подавив досаду. – Мы вводим ему три раза в день сульфамиды, но толку мало. Угнетенность нарастает. Ведь он перенес уже шестнадцать операций!
– Да. Две последние сделал я. В первый раз рассек рубец раны и удалил порядочную кисту. После того Морозов не почувствовал себя лучше, и мы еще месяца четыре держали его под наблюдением. Потом я опять взял его в операционную. Было подозрение на абсцесс, но введение иглы по направлению металлического осколка – мы запускали ее до шести сантиметров – гноя не дало. Мы только получили ясное ощущение рубцовой ткани и неясное ощущение, что в глубине мозга находится инородное тело.
– Как теперь будем дальше?
– Я смотрел его сегодня. Надо удалять осколок. Больной сам очень просит, и вообще… Придется рискнуть.
– Осколок вблизи бокового желудочка, – напомнила Софья, желая преодолеть возникшее у нее сомнение, и добавила: – Морозов правда очень настаивает на операции. При всей тяжести заболевания сознание у него ясное, он вполне критично относится к своему положению.
– Потому что лоб не задет. Ранение правой височно-теменной области…
– Но картина-то какова! Раневой канал идет почти до стенки желудочка, где засел осколок, и по всему ходу рубца гнойники. Наши консультанты не зря записали: оперативное вмешательство с удалением рубца и осколка невозможно. Ведь не исключен гнойный абсцесс и в глубине заднетеменной доли. А? – И Софья сердито взглянула на Аржанова. – Операция противопоказана.
– Несмотря на это я решил вскрыть раневые рубцы электроножом и пойти в глубину за осколком. Все беды от него. Шестнадцать раз удалялись абсцессы и опорожнялись кисты. Проколы мозга иглой и спинномозговые проколы больному делали без счета. Давайте попытаемся вмешаться радикально, пока он еще в сознании. Силища духа невероятная. Помните бронебойщика Чумакова, который сам пришел на операционный стол в полевом госпитале под Сталинградом? Над такими людьми смерть не властна. Хотя жизнь порой терзает их беспощадно. – И Иван Иванович тяжело вздохнул, вспомнив о сынишке Морозова и его жене, вышедшей замуж.
– Тогда будем его готовить, – согласилась Софья после небольшого раздумья.
18
В перерыве между двумя сердечными операциями Иван Иванович увидел среди студентов и врачей явно расстроенного Решетова, делавшего ему какие-то знаки.
Отдавая на ходу распоряжения ассистенту насчет следующей операции, Иван Иванович вышел в коридор. Взглянув в лицо товарища, хирург сразу догадался, что произошла крупная неприятность.
– Это касается не только меня одного, – сказал Решетов. Они привыкли понимать друг друга с полуслова.
Он подхватил Ивана Ивановича под локоть и повел его, настороженного, в свой кабинет мимо больных, сидевших в креслах, обтянутых белыми чехлами, мимо игравших детишек, уже перенесших операции и выздоравливавших, и тех, кому еще предстояла операция. Эти не бегали и не шалили, а двигались чинно, как маленькие старички, одетые в пижамки и туфли-шлепанцы. У одних были синие лица и черные губы, другие поражали своей анемичной бледностью, – они страдали «белым» пороком сердца. Но и «белые» и «синие» отличались одинаковой хрупкостью и недоразвитостью.
Ожидая сообщения Решетова, Иван Иванович лишь мельком поглядел на больных, но успел подумать о том, что нужно покончить с детской безнадзорностью в клинике.
Притворив за собою дверь, Решетов прошелся по кабинету и сказал:
– Нам готовится головомойка. Да, да, и вам, и мне, и нашему Про Фро! Министерство здравоохранения назначило комиссию для обследования нашей работы.
– Почему?
– Я с трудом добился толку от Прохора Фроловича; он ругался, как хороший боцман. Черт, говорит, дернул меня, черт, говорит, меня попутал заказывать ваши гвозди! Он боится, что теперь возбудят против него судебное дело за эту незаконную операцию. Главный врач тоже встревожена; она вместе с Гридневым ездила в министерство, но там вопрос уже решен, и на днях у нас будет комиссия.
– Насчет гвоздей?
– Если бы только это! Мы бы раскрыли перед ними наши наболевшие нужды в медицинском оборудовании. Но мне вменяют в вину увлечение «металлическим» методом, будто я сколачивал и те переломы, которые прекрасно срастаются при консервативном лечении. А вам… – Решетов замялся, щадя чувства товарища и негодуя за него. – Вас хотят обвинить в смерти Лиды Рублевой и мальчика Савельева. Подростка, который умер на днях при рассечении устья легочной артерии, – добавил Решетов, хотя Ивану Ивановичу не надо было напоминать, кто такой Савельев: он сам тяжело переживал каждую трагедию в операционной и поэтому, выслушав сообщение, ничего не сказал, потеряв на минуту даже дар речи.
– Знаете, кто подложил дровец в костерчик, разведенный под нашими ногами? – свирепым шепотом спросил Решетов. – Это ваша Щетинкина или Свинкина, которой вы вместе с Гридневым удалили опухоль из легкого. Она подала жалобу, что вы, как ассистент Гриднева, грубо обошлись с нею на операционном столе, а после операции ее будто бы все время травила невропатолог Софья Шефер.
– Да когда она успела?.. Нет, нет, я не о Софье Вениаминовне: она никого травить не может. Когда успела Щетинкина ввязаться в эту историю?
– Если бы вы знали, с кем она объединилась? – Решетов с мрачной усмешкой посмотрел на Ивана Ивановича. – Держу пари, не догадаетесь после всего, что было! С Тартаковской! – почти торжествующе выпалил он. – Эта ученая звезда не простила-таки мне своего посрамления в споре о лечебном методе. Они, оказывается, приятельницы с Щетинкиной. Тартаковская, еще не расставшись с моим гвоздем, навестила ее, и они спелись! А отца Савельева подогрел наш общий друг, знаменитый профессор Медведев.
– Медведев? Опять та же кость в горле! – воскликнул Иван Иванович. – Я начинаю убеждаться, что не такие уж они беспечные, наши противники. Вольно ему было брать на себя столько хлопот! Савельев – другое дело: тот мог с горя пожаловаться на меня вместе с матерью Лидочки Рублевой, но Тартаковская-то?! Ведь как она сияла и радовалась, когда все хорошо обошлось с ее ногой! Честное слово, она смотрела на вас влюбленными глазами!
– Радовалась тому, что не останется калекой. Теперь она сама может принять на вооружение метод сколачивания, изменив его каким-нибудь липовым «усовершенствованием». Но меня, человека, одолевшего ее в споре, она простить не сумела.
– Глупо, если не сказать слова покрепче!
– Покрепче уже сказал Прохор Фролович. – Решетов неожиданно рассмеялся. – Он буквально стер ее в порошок.
Иван Иванович представил себе горячего как порох Скорого, его умно-плутоватые зеленые глазки, и что-то похожее на улыбку изобразилось на лице расстроенного хирурга:
– Наконец-то исполнится последнее желание Про Фро! Теперь он наверняка похудеет. Скажем так: не брала его никакая сила, а Тартаковская допекла.
Вечером доктор поделился своей неприятностью с Еленой Денисовной и Варей. Елена Денисовна разохалась, а Варя вдруг промолвила с дрожью в голосе:
– Может быть, это к лучшему для тебя.
– То есть? – Иван Иванович, беспокойно ходивший взад и вперед по комнате в просторной летней пижаме, остановился перед женой, особенно крупный в своей свободной одежде.
– Может быть, ты займешься чем-нибудь одним.
В комнате наступило тяжелое предгрозовое затишье.
– Слушай! – страстно сказала Варя. – Меня это очень мучает, я не могу больше молчать. Я предупреждала Коробова… советовала ему поместить Наташу в институт Бурденко.
– Почему? – неестественно спокойно спросил Иван Иванович.
– Прости! – Варя в смятении взглянула на мужа. – У меня нет никого дороже тебя, разве что Мишутка. Но Наташа Коробова мне тоже дорога.
– Она и мне дорога. Но в чем дело? Ты не веришь, что я сумею оперировать ее?
– Не совсем так, но боюсь… Я тебе говорила: надо браться или за то, или за другое. Вот ты два раза оперировал Морозова, и ничего не вышло. А больной Белкин сам ушел, сейчас он уже в институте Бурденко.
– Откуда это известно? Разве ты его тоже предупредила? – Иван Иванович недобрым взглядом окинул Варю. – Может быть, ты и заявление Щетинкиной с компанией подписала?
– Зачем так! И без того тяжело! Но надо же как-то предостеречь тебя! Меня ты не слушаешь. Но вот другие люди – авторитетные ученые…
– Варенька! – вмешалась растерявшаяся было Елена Денисовна. – Похоже, ты рубишь сплеча!
– Это не я, а сама жизнь рубит, – с ожесточением, резко ответила Варя.
19
На другой день после работы Иван Иванович поехал на Пироговку в медицинский институт, намереваясь по пути заглянуть в Библиотеку имени Ленина.
Выйдя на просторную Калужскую улицу, по обеим сторонам которой, окруженные группами старых деревьев, желтели двух – и трехэтажные корпуса городских больниц, Иван Иванович задумчиво осмотрелся. Он работал здесь уже семь лет. Как только кончилась война и он с Варей приехал в Москву, Калужская стала для них родной. Здесь он готовил докторскую диссертацию, здесь же, став доктором наук и пройдя конкурс во II медицинском институте на звание профессора, начал преподавать на кафедре хирургии. Кафедра эта издавна существовала на лечебной базе городской больницы. Два раза в неделю ее аудитория заполнялась сотнями студентов, приезжавших сюда на лекции и на практические занятия из II медицинского института, находившегося на Пироговке. Лечебные базы института, были разбросаны по всему городу, что отнимало у студентов много времени, зато давало им богатую, разнообразную практику.
Так в жизнь Ивана Ивановича вошла большая преподавательская работа. Оставаясь по-прежнему хирургом отделения, он начал преподавать студентам теорию и практику своего любимого дела. В прошлом году среди его слушателей была Варя Громова. Читая лекцию, профессор издалека видел ярко-черноволосую голову жены; Варя всегда садилась на самые верхние скамьи наклонного зала. Слух и зрение у нее были превосходные, и она чувствовала себя «на галерке» очень хорошо.
– Я вижу, как птица, слышу, как заяц, а нюх у меня лисий, – шутливо хвалилась она иногда.
«Во многом она осталась прежней: в боязни стеснить кого-нибудь, в стремлении к самостоятельности (даже фамилию после замужества оставила девичью), и целеустремленность та же. Но в своем отношении ко мне она сделала поворот на сто восемьдесят градусов! Вот так рубанула! Не лучше самодура Скоробогатова», – думал Иван Иванович, шагая к остановке троллейбуса и обгоняя толпы людей, стремившихся кто домой, кто в Центральный парк культуры и отдыха, вход в который со стороны Калужской улицы разделял две старинные городские больницы. Из парка доносились зовущие звуки оркестра.
«Народ гуляет, веселится, танцует. Варя никогда не увлекалась танцами. С тех пор как я ее знаю, она бьет в одну точку, словно дальнобойное орудие: учиться, учиться, учиться! Все у нее подчинено этому, в том числе Мишутка и я. Она очень деятельна, но в то же время заботливая мать и верная жена», – точно желая оправдать ее выпады против него, размышлял доктор.
Троллейбус, касаясь длинными щупальцами электрических проводов, протянутых над линией его пробега, плавно катился по улицам города. Люди входили и выходили. Иван Иванович сидел, глубоко задумавшись, обнимая обеими руками добротный кожаный портфель. Кто-то портфелем же сбил набок его соломенную шляпу и извинился. Иван Иванович, не оглядываясь, поправил ее. Он ехал на Ученый совет, который заседал в институте два раза в месяц. На повестке вопрос о подготовке к новому учебному году. Кончается время каникул… Скоро, скоро зашумят студенческие сборища. А Варя уже не побежит чуть свет на Пироговку или в одну из учебных баз института: детскую больницу, городскую на Калужской или в глазную клинику. Кончилась пора Вариного студенчества.
«Неужели, неужели я разлюбил ее? – спросил себя Иван Иванович, не ощутив прежней теплоты при мысли о Варе. – Какое же это несчастье, и в первую очередь для меня самого!» Ему сразу представилась вся его жизнь с нею, рождение сына, ее поездка на практику в летние каникулы. Она вместе с группой студентов, тоже окончивших четвертый курс, поехала в Солотчинский район Рязанской области. Мишутке тогда исполнился год, и она взяла его с собою. Какая гнетущая пустота была в комнате, где каждая мелочь напоминала о них! Унылыми стали вечера в одиночестве! И однажды он нагрянул к ним как консультант от кафедры.
– У нас здесь даже кремль есть, будто в Москве, – сказала ему обрадованная Варя. – И правительство наше районное тоже помещается в кремле. Ты можешь мне писать так: Солотча, кремль, Варваре Громовой.
Кремль был монастырем, основанным в четырнадцатом веке. Мощные стены его, сложенные из прокаленного кирпича, далеко виднелись над окской поймой, а рядом деревянные домики, здание районной больницы и могучие над желтизной песков сосняки. Такова Солотча, «ворота в Мещерские леса», как с гордостью говорили о своем центре солотчинцы.
Варя и Иван Иванович с Мишуткой на руках стояли у избы на краю обрыва. Высоченные сосны качали пышными вершинами у их ног, взбегали на обрыв. За соснами, за Окой зеленели заливные луга, густела вдали синь лесов, громоздились над горизонтом бело-сизые башни туч.
– Как тут хорошо, правда? – спросила Варя. – Но мне везде хорошо с тобой. – Она взглянула на Мишутку, взяла его маленькую ручонку. – С вами.
Тогда уже возникали споры между супругами, но такого расхождения, как сейчас, не было.
«Отчего же возникло оно? Ведь не только потому показалась мне прекрасной Солотча, что там виды на Оку и такие леса и озера в Мещере. Нет, главное было, конечно, в ней, в Вареньке. И как бы я хотел вернуть то согласие между нами!»
Выйдя из троллейбуса у Манежа, Иван Иванович поспешил в библиотеку. Легкое и величавое ее здание, построенное архитектором Баженовым, всегда вызывало у хирурга чувство восхищения. Но сегодня ощущение прекрасного лишь усилило в нем глубоко запрятанную грусть.
«Творит не только скульптор или архитектор, но и рабочий у станка. И мне тоже хочется внести свою долю в общее дело», – подумал Иван Иванович, входя во двор любимого им дома, в бело-голубом читальном зале которого он провел столько незабываемых часов.
20
Проезжая мимо станции метро «Дворец Советов», Иван Иванович вспомнил, как встретил здесь Ольгу. Она ехала вдоль бульвара на велосипеде, легко и твердо положив на руль загорелые руки. Светлые волосы ее падали мягкой волной на плечи.
Профессор Аржанов сердито оборвал воспоминания и заставил себя думать о другом. Было о чем подумать! Несмотря на обещанную Гридневым поддержку, он с тревогой ждал комиссию из министерства и уже в который раз припоминал подробности своих операций, имевших смертельный исход.
Троллейбус несся по Кропоткинской, застроенной старыми особняками вперемежку с многоэтажными зданиями. Отсюда прямой путь в медицинские институты, и скоро завиднелись через всю Большую Пироговскую башня и колокольня Новодевичьего монастыря, замыкавшие улицу.
Второй медицинский институт расположен на параллельной Малой Пироговской. Сойдя с троллейбуса, Иван Иванович направился туда по переулку Хользунова. Название переулка всегда живо напоминало ему о Сталинграде. Это там, на берегу, затянутом дымом пожарищ, он увидел памятник герою-летчику.
– Он сражался в Испании, – сказала Наташа Чистякова.
Сейчас Наташа лежит в палате московской клиники, а Иван Иванович шагает по переулку Хользунова, и так ему тяжело, будто камень многопудовый несет он за плечами: Варя предупредила Коробова, что он, хирург Аржанов, не сможет сделать операцию Наташе? «Почему? Ведь не разучился я!»
Черным казался в ночи памятник герою над обрывом волжского берега. Грозное это было время – дни отступления. В те дни и умерла любовь к милой изменнице Ольге, и когда в подземном госпитале стоял Иван Иванович у операционного стола, то не бывшая жена, а просто раненая лежала перед ним. Чувство любви перешло тогда к Варе. Теперь и это чувство в нем умерло, убитое оскорблениями, нанесенными не самой любви, а тому лучшему, что руководило всей его человеческой деятельностью. И оттого было больно, как от смерти родного, духовно близкого существа. А тут еще встреча с Ларисой!
«Если бы у нас с Варей все было хорошо, я просто порадовался бы встрече с Ларисой. А теперь проснулось прежнее, и мне нечего противопоставить ему! Да-да-да! Нечего. Что же дальше? Ведь Лариса свободна… Но зато я теперь не свободен».
Иван Иванович встряхнул головой, отгоняя рой назойливых мыслей, и зашагал быстрее. У него уже были опубликованные труды: о лечении огнестрельных ранений черепа, о зондировании и контрастном исследовании сердца. Сейчас он вместе со своим шефом Гридневым готовил новую большую книгу о врожденных пороках сердца. Как будто немало… Имя его становилось известным не только в Москве, но и в стране и за границей, а ему все казалось, что он лишь начинает серьезную научную деятельность.
Вход в здание II медицинского института со двора, рядом главный корпус, где расположены аудитории и смежные с ним анатомические. Здесь родина глазного врача Варвары Громовой, здесь же получил по конкурсу звание профессора доктор медицинских наук Аржанов.
Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел в просторный вестибюль, были объявления о защите диссертаций. Он подошел и стал читать. Лариса Петровна Фирсова! Докторская диссертация на тему «Устранение дефектов пищевода при полных отрывах гортани». Иван Иванович прекрасно знал, что значит ранение пищевода при полном отрыве гортани! Это порок, на всю жизнь калечащий человека: путей исправления до сих пор не существовало. Доктор вспомнил, как он сам не раз пытался закрыть зияющую дыру в горле раненых лоскутом кожи или местными обрывками тканей, но они западали внутрь, не устраняя недостатка, а лишь ухудшая общее состояние. Интересно, что же могла предложить Фирсова. Теперь Иван Иванович уже знал, как блестяще она защитила диссертацию кандидата наук, разработав методику одномоментного устранения дефектов носа. После этого она получила звание доцента и стала преподавать на кафедре в Центральном институте травматологии. Ее методика формирования носа была признана ведущей в челюстно-лицевой хирургии. И вот опять новое! Интересно, есть ли у нее противники! Возможно, что нет: ведь пластика – такое наглядно-эффективное дело! Хотя у Решетова тоже очень наглядно и эффективно получается, а вот поди ж ты, грызут его! Иван Иванович, забывшись, смотрел на объявление и вспоминал, что говорил однажды Решетов о новой работе Ларисы, назвав ее великим вкладом в послевоенную хирургию.
«Осуждает ли меня Лариса за „непоследовательность в науке“?» И снова начали одолевать хирурга мысли о предстоящей комиссии, о возможном вызове к прокурору, о жестоких словах и поведении Вари.
Заседание совета затянулось, но было еще совсем светло, когда Иван Иванович шагал обратно по переулку Хользунова.
Поглощенный думами, он машинально занял место в очереди на посадку в троллейбус. Час «пик» прошел, но на этой остановке ожидали в основном не рабочие и служащие, а учащаяся молодежь: в институтах начались вступительные экзамены.
Женщина в чесучовом плаще, стоявшая впереди, обеими руками поправила волосы, придерживая портфель под мышкой. Тонкая прядка выбилась из прически, развеваясь от ветра. Потянувшись за нею, женщина полуобернулась, и Иван Иванович узнал Ларису.
С трудом шевельнув похолодевшими пальцами, он прикоснулся к ее рукаву. Лариса оглянулась назад исподлобья, точно ожидала удара, и все лицо ее, даже маленькое ухо под пышными волосами залились пунцовой краской.
Но в следующее мгновение она овладела собой и, почти надменно глядя на Аржанова, протянула ему руку, сказав отчужденно:
– Здравствуйте.
«Да, она тоже осуждает меня», – подумал он, сжимая ее теплую ладонь и близко всматриваясь в глаза, окруженные приметными мелкими морщинами.
И в углах губ у нее тоже тоненькие, точно ножом прорезанные морщинки, нанесенные горем и беспощадной рукой времени. Совсем не такой молодой, как при вечернем освещении, выглядела сейчас Лариса. Но что за дело было Ивану Ивановичу до этого, когда она была тут, особенно ну ясная, просто необходимая ему в минуту душевного разлада!
– Я приезжал на заседание Ученого совета, – сообщил он невпопад, так радостно улыбаясь, точно для них обоих важнее всего было то, что это заседание состоялось и он, профессор лечебного факультета, присутствовал на нем.
– Да? – промолвила Лариса, не разделяя его радости, вернее, на находя сил разделить ее. – А я была на консилиуме в клинике Первого мединститута, – добавила она тоном, не допускавшим мысли, что придает значение их встрече. Она и не стала бы объяснять причину своего появления здесь, если бы не это неуместное оживление Аржанова.
– Читал о вашей будущей защите. Большую проблему разрешаете! – сказал он, не отводя взгляда от ее лица.
– Мы уже давно бьемся над этим, – по-прежнему сдержанно ответила Фирсова, снова поправив непослушную прядку волос над ухом, но невольно, почти со страхом подумала о том, что вот сейчас они вместе войдут в троллейбус и плотная толпа людей прижмет их друг к другу.
От одной этой мысли женщине стало жарко, сердце ее сильно забилось и легкая испарина выступила на сразу порозовевшей тонкой коже. Глубокий внутренний протест против желания прильнуть хоть на миг к груди дорогого, но такого далекого теперь человека, боязнь изведать радость, которой не суждено повториться, заставила Ларису выйти их цепочки ожидавших людей.
– Я забыла… Мне тут еще нужно зайти… – сказала она глуховатым голосом, не глядя на Ивана Ивановича, последовавшего за нею. – До свидания, профессор, – добавила она, отстраняющим движением протягивая ему руку.
– Лариса Петровна! – В обращении «профессор» почудилась ему еле уловимая ирония. – Скажите, как вы относитесь к моей работе?
Серьезное волнение в голосе Аржанова, тревога, выразившаяся на его лице, удивили Фирсову.
– Почему вы спрашиваете?
– Ну вот… мое переключение с нейрохирургии… на сердечную хирургию? – Иван Иванович сбился и умолк: услышать сейчас от Ларисы то, что оскорбило его в устах Вари, было бы для него тяжелым приговором.
– Вы всегда представлялись мне хирургом широкого, общего направления. Таким я вас помню по фронту, по нашей работе в госпитале. – Голос Фирсовой звучал глухо, но она заставила себя улыбнуться, хотя улыбка получилась тоже невеселая. – Я помню вас именно по операциям в грудной полости, – продолжала она, вспоминая то, как вспыхнуло в ней чувство к Аржанову, когда она ассистировала ему у операционного стола.
Почему же им не суждено пройти вместе остальную жизнь, помогая друг другу, мужая и хорошея душевно с каждым днем? Тогда не пугали бы ни отметы времени, ни болезни, ни сама черная тень смерти. Тогда прекрасна и старость, похожая на тихий осенний день в опустелом, прозрачно сквозящем лесу. Но никто не пойдет с Ларисой по тропе, покрытой опавшими листьями. Не будет рядом близкого, мудрого и доброго друга, о котором она напрасно мечтала тысячи дней и тысячи ночей в своем бесконечном одиночестве. Ну что ж…
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.
Разве нельзя одинокому человеку любоваться красотой природы и жизни? А горечи уступок, лжи, мутных сожалений Ларисе не нужно. Будь ей не тридцать восемь лет от роду, а вдвое меньше, и тогда не пошла бы она погреться у чужого очага. Минута украденного счастья, а потом что же?
– Нет! – громко сказала Лариса, следя со строгой сосредоточенностью за тем, как вливался людской поток в распахнутые дверцы подошедшего троллейбуса. – Для меня вы общий хирург широкого профиля, и я не удивилась, когда впервые увидела в киоске вашу книгу об исследовании сердца.
– Вы купили ее? – ухватился за эти слова Иван Иванович, следя за тем, как менялось все время выражение лица Фирсовой. Ведь если она приобрела книгу, значит, ее волнует, по крайней мере, интересует то, чем он занимается!








