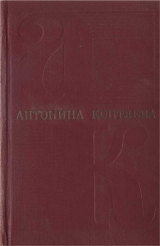
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 49 страниц)
– Хорошо, что мы тут пришлись ко двору, – промолвил он и полушутя поплевал: – Тьфу, тьфу, в добрый час сказать, сработались. И остальной народ доволен, ведь в самом деле никто не притеснен.
– Вы к чему это: «тьфу, тьфу»? Сглазить боитесь?
– Как вам сказать… Не суеверен, нет, но мнительностью не обделен. – Решетов сидел в глубоком кресле, в том самом, в котором недавно сидела после экзамена Варя. Только он расположился по-хозяйски, удобно устроив свое большое, костистое тело, облаченное в рабочий костюм и белоснежный халат.
– Да, наше дело тонкое! – отозвался Иван Иванович снова серьезно. – Но я уже заметил: здесь, в столице, споры идут не внутри клиник и институтов. Полемический пыл расходуется главным образом в спорах между отдельными научными учреждениями. Для сотрудников, пожалуй, так лучше…
– Лучше при том условии, если у шефа не только крепкие руки, но и голова светлая и он дает возможность расти всему коллективу. А некоторые шефы мыслящих около себя не терпят…
– Так то уже не руководители, а узурпаторы от науки…
Хирурги только что закончили рабочий день и собирались приступить к научным занятиям: клиника располагала прекрасной библиотекой, студенческой аудиторией и конференц-залом, где в вечерние часы занимались диссертанты, не имеющие дома хороших условий. Иван Иванович с нетерпением ждал, когда закончится оборудование помещения под лабораторию в подвальном этаже клиники. До сих пор дело тормозилось из-за устройства вивария, где должны помещаться подопытные собаки. Но усилиями Гриднева, а особенно заместителя главного врача больницы по хозяйству Прохора Фроловича Скорого и эта трудность была преодолена.
– Гриднев обещал взять еще одного научного сотрудника для опытов с гипотермией, – сообщил Иван Иванович. – Сказал: «Срочно приступайте к работе, пока в лаборатории Белова и в Академии наук, а потом и у себя начнем». И вдруг спрашивает: «Вы ружьишком не балуетесь?» У него дача по Савеловской дороге, там близко большие леса и тетеревиные тока имеются. «А вы, спрашиваю, балуетесь?» – «Нет, говорит, я только своих гостей натравливаю. Ежели вы хорошо справитесь с задачей, угощу вас таким током, какого вы и в Сибири не видывали».
– А я, грешным делом, думал, что вы после войны по нейрохирургии пойдете… – неожиданно сказал Решетов.
– Собирался. Но, как видите, получилось иначе. – В глазах Аржанова вспыхнули лукаво-веселые искорки и тут же погасли: «Варя-то, Варя!» – Что делать, дорогой Григорий Герасимович! – заговорил он совсем иным тоном. – Эпоха наша до крайности беспокойная, и сам я не привык отсиживаться в затишье. До сих пор не могу смириться со смертью Семена Нечаева. Кора мозга… Да-да-да! Могло бы удивить, если бы я пошел на ортопедию или на урологию. Но я взял то, что мне ближе. Теперь, когда мы научились сшивать кровеносные сосуды, хирургия сердца становится делом первостепенной важности. Ведь в конце концов мы добьемся возможности делать капитальный ремонт сердца, вплоть до замены износившегося мотора…
– Тогда вы поставите новый мне и моей старушке, и мы повторим свое путешествие сначала.
– Рад буду услужить. Но сколько еще темных провалов ждет хирургов на пути к этой цели!
– Вы знаете, кого я встретил вчера? – круто повернул разговор Решетов. – Ларису Петровну Фирсову, помните ее?
– Ну как же! – Иван Иванович машинально завязал еще два узелка и бросил нитку. – Жива-здорова? Где она теперь?
– Работает в челюстно-лицевом госпитале. Все такая же красавица, почти не изменилась, – простодушно сообщил Решетов, не знавший о прежнем увлечении товарища. – Стойкая натура! Мало того, что дочку и мать в Сталинграде потеряла, еще и муж погиб. Он у нее в танковых частях служил.
«Вышла она снова замуж?» – чуть было не спросил Иван Иванович, но, представив, как дрогнула бы Варя, сбился с полуслова, поинтересовался другим:
– Мальчик… Алеша большой уже?
– Мальчику скоро пятнадцать лет исполнится. В восьмой класс перешел. Учится в музыкальной школе-десятилетке при институте имени Гнесиных.
– Он и тогда играл… Помните седьмое ноября в Сталинграде?
– Еще бы не помнить! Как врезалось в памяти: волжский обрыв, нары блиндажей… За спиной кипящая от взрывов вода, над головой фашистские самолеты, впереди – враги. Заслонило все это жизнь до войны, когда наши ребятки были с нами. Одно слово – Сталинград! Я за Ларису Петровну порадовался – хотя Алеша у нее уцелел. – Решетов помолчал, растревоженный горестными воспоминаниями. – Нынче она кандидатскую диссертацию защитила. Создала совершенно новый метод пластики носа. Представляете? Люди соглашаются на десятки операций, чтоб им создали хоть какое-нибудь подобие носа. Задача, конечно, нелегкая. Лепят заплату на заплату из кожных лоскутов, а потом, глядишь, нагноение, и все разрушается. Фирсова иное предложила: формирует нос из филатовского кожного стебля сразу, одномоментной операцией. И отлично получается. Один рубчик где-нибудь на переносье… Каково?
– Да, в самом деле умница, – сказал Иван Иванович, тоже радуясь за Фирсову.
«Она добилась большего успеха в своей работе, чем я, – с хорошей завистью подумал он, и эта мысль всколыхнула в нем все, связанное с Ларисой. – Как сурово она меня тогда оттолкнула!»
Точно стремясь избавиться от размышлений о ней, он заговорил взволнованно:
– Война многим изломала жизнь. Как она, проклятая, выбивает все из нормальной колеи! Представь себе, Григорий Герасимович: лежит сейчас на улице мертвый. Ведь толпа соберется. Шел куда-то человек, спешил, и вдруг нет его. А тогда… Сидит солдат с котелком на мерзлом трупе гитлеровца и хлебает суп… Просто, без озорства пристроился. И никогда не забуду вехи, оставленные фашистами на степных дорогах под Сталинградом в дни бегства. Ночь. Метель. Степь голая, а по сторонам заметенной дороги стоят вместо вешек в сугробах застывшие трупы. Руки растопырили и стоят, как черные вороны. Ну, как примирить это с двадцатым нашим веком?! – Иван Иванович, снова ощутив прилив былой ненависти к врагам, стукнул по столу кулаком. – Мерзавцы непревзойденные!
Он сам не сознавал, какую связь с этим взрывом имела весть о Ларисе Фирсовой. Но весь вечер его уже не покидала мысль: Лариса достигла творческого успеха, а он не достиг.
Следя за охлаждением усыпленной подопытной собаки в операционной лаборатории профессора Белова, он вдруг подумал: «Может, действительно так и надо: быть однолюбом в своем деле. Правда, и Павлов и Пирогов работали над разными проблемами, но то гении были, а я рядовой хирург. Ну, овладел многим. Однако, если бы я не разбрасывался…»
У Ивана Ивановича заныло в груди, и он с удивлением сказал себе:
«Вот что значит сердце! В мозгу долбит: она достигла, а я не достиг. У меня не ладится с операциями и, наверное, долго не наладится. Тревожные сигналы в мозговой коре – и сердце сразу откликнулось, заболело. – Он помедлил минуту, держа в руке палочку с ватным тампоном, коричневым от йода (собака, охлажденная до двадцати семи градусов, уже спала в ванне со льдом), прислушался к своим ощущениям. – Действительно, сердце болит! Самая настоящая физическая боль. Но это боль от сознания собственной слабости. Слабости ли? Простительно слабому: он не может, зато грех тому, кто попусту растрачивает свои силы!»
20
– Что такое гипотермия? – спросила Варя.
– Гипотермия? – Иван Иванович отложил в сторону новый труд иностранного автора о сердечных операциях и взглянул на жену – не собирается ли снова огорошить его каким-нибудь изречением Медведева?
Она стояла в сине-полосатом сатиновом халатике с подвернутыми рукавами и в светлом фартуке – только что выкупала, накормила и уложила Мишутку, – стояла рядом такая родная, но в глазах ее он прочел уже знакомую настороженность.
– Тебя это заинтересовало?
– Еще бы: столько разговоров вокруг. Наши студенты спрашивают меня.
Он быстро встал, взял с этажерки небольшую книгу, над заглавием которой было вытиснено: «А. В. Гриднев. И. И. Аржанов».
– Сначала почитай о лечении сердца, хоть полистай, посмотри.
– Я не полистаю, а прочту. – Варя, точно не заметив упрека, взяла книгу маленькими, уверенно-цепкими руками, взглянула на заголовок: «Врожденные пороки сердца». – Раз ты поставил перед собой новую задачу, я должна иметь о ней полное представление. Сдам последний экзамен и тогда засяду. Может быть, когда я овладею специальностью глазного врача, у меня тоже возникнут попутные проблемы? Но это все равно будет связано с глазом. Мне сейчас самым главным представляется зрение человека. Нет, не только сейчас, – с живостью добавила Варя и, забывшись, прижала к груди, словно ребенка, полученную книгу. – Я еще в детстве насмотрелась в улусе на слепых людей… Какое это несчастье! Ты ведь знаешь, сколько больных трахомой было в Якутии.
– Да-да-да. Любое дело, за которое берешься, должно представляться самым важным, – сказал Иван Иванович, подумав: «Это хорошо, что она так сосредоточена на своем. Хотя… вот уже и забыла о гипотермии».
– Но у меня ведь действительно важное дело.
– Конечно. А как тебе понравилось место будущей работы?
– Очень. Этот челюстно-лицевой госпиталь обслуживает не только бывших фронтовиков, там много и гражданских…
– Понятно… Постой, постой. Как ты сказала: челюстно-лицевой госпиталь?
Доктор нахмурил брови, припоминая: «Да, Решетов говорил: Лариса Петровна работает там… Значит, встретятся! Ну и пусть. Варе есть чему поучиться у Ларисы».
– О чем ты задумался? – Варя с недоумением поглядела на него. – Я тебя уже второй раз спрашиваю: знаешь ли ты этот госпиталь?
– Нет. Я там никогда не бывал. Понятия не имею.
– Что с тобой! Почему ты покраснел?
Теперь уж никак нельзя было сказать о Ларисе, и впервые Иван Иванович покривил душой:
– Обязательно выдумает! Отчего бы мне покраснеть?
– Отчего, это тебе лучше знать. Теперь я тоже кое-что знаю о сердце. – Варя беззаботно засмеялась. – Совестно – человек краснеет. Волнуется, радуется или сердится – тоже краснеет: кровь приливает к мозгу, дыхание углубляется. А испуг или горе сжимают сердечную мышцу. Получается спазм головных сосудов, и, хотя сердце сильно бьется, лицо бледнеет. Правда?
– Почти…
– Значит, народ правильно избрал сердце символом всех душевных переживаний? «Сердце ноет», «сердце-вещун», «сердце болит».
– Оно действительно может болеть, – вдруг вспылив, сказал Иван Иванович. – Это не просто мотор, механически перегоняющий несколько тонн крови за сутки. Конечно, человек любит, страдает и ненавидит не сердцем – все это представления, созданные его мозгом. Но каждый сигнал, воспринятый корой мозга, отдается в сердце. И смеяться тут не над чем.
– Я не смеюсь. Я только спросила, отчего ты покраснел. Ты ответил сердито. У меня сложился «научно обоснованный» вывод: я чем-то задела тебя, и ты покраснел. Нет повода для смеха, но и сердиться незачем!
«Повода для смеха действительно не было», – с такой мыслью Иван Иванович вышел из машины у подъезда лаборатории Академии наук на другой день. Закрыв за собою тяжелую дверь, он сразу как бы отрезал все раздражавшие его помехи жизни. Они остались вне стен этого здания. Сколько людей работает здесь! Сколько проблем, поставленных, но еще не разрешенных! Повседневная борьба за факты. Ученый не может строить свои идеи на домыслах.
На стене в вестибюле большой портрет. Глубоко посаженные, острые глаза строго смотрят из-за очков на хирурга Аржанова. Кто в стране не знает эту характерную голову с серебром белоснежных волос на висках? Громадный лоб изборожден волнистыми морщинами, твердо сжаты губы в пышной белизне усов, слитых с пышным окладом короткой бороды. Энергично вскинута жилистая рука. Физиолог Павлов. Он не жалел времени и труда, иногда по крохам собирал научные факты для своих великих открытий, связывая лабораторный эксперимент с клинической практикой. Работая в области физиологии пищеварения, условных рефлексов, охранительного торможения сном деятельности коры больших полушарий мозга, он сумел открыть существование специальных нервов сердца. Многообразие исследований Павлова было объединено стройной идеей физиологического исследования не отдельных органов, а всего организма. Да-да-да! Он, конечно, не разбрасывался: его большая жизнь была целиком посвящена одной научной идее.
«Земной поклон тебе, Иван Петрович! Хочу применить разработанное тобой охранительное торможение сном. Пожелай мне успеха!» – обратился мысленно хирург к своему знаменитому тезке. Он и сам страстно желал добиться успеха. Трудности на пути лишь разжигали в нем стремление вперед. Однако тяжело было у него на душе: не цветами покрыт путь хирурга. Правда, во время и после операции у него умирало меньше больных, чем в других клиниках; в этой области работали считанные единицы хирургов. И все-таки смертность была высока.
«Но лишь четверть века назад при операциях по поводу острого аппендицита умирало около половины больных, – подсказала ему услужливая память, – а теперь в нашей стране, включая глухие уголки, смертность от него равняется трем десятым процента».
«Плохое это оправдание, – возразил на такую попытку самоуспокоения голос врачебной совести. – Надо, чтобы все больные выживали».
21
На лестнице Иван Иванович почти столкнулся с женщиной, неторопливо спускавшейся ему навстречу. Сначала он не узнал ее. Ни рука, небрежно скользившая вдоль перил, ни пышные волосы, большим узлом закрученные на затылке (она шла, закинув голову, точно отворачивалась от Аржанова, а на самом деле всматривалась мимоходом в пожелтевшую гравюру на стене) – ничто не привлекло внимания хирурга. Он тоже покосился на гравюру, но, прежде чем разминуться с женщиной, равнодушно взглянул на нее.
Чуть сверху смотрели на него блестящие серые глаза, что-то родное померещилось в изгибе рта, в неулыбчивых ямочках на щеках.
Прежде чем он успел догадаться, кто это, она, застыв на месте, прошептала:
– Иван Иванович!
Растерявшись, он еще не ответил, а ощущение добра и тепла уже возникло в нем, и он улыбнулся открыто и сердечно. Но и волнение охватило его. Подготовленный рассказом Решетова, он все-таки представить себе не мог, как сильно взволнует его встреча с Ларисой Фирсовой. Сразу ожили прежние чувства!.. Так северный кедр-стланик, целую зиму спавший под снеговыми сугробами, вдруг в оттепель поднимается из-под белого покрова и шумно расправляет на вешнем ветру зеленую мокрую хвою. Так камень, брошенный сильной рукой в спокойную заводь, взбудораживает зеркальную гладь, и долго и далеко бегут, все расширяясь, круги от всплеска… Так и в душе Аржанова все всколыхнулось. Он смотрел на Фирсову и чувствовал себя юношески счастливым.
– Здравствуйте, Лариса Петровна! – сказал он наконец, справляясь с нахлынувшим волнением, и бережно сжал в ладонях ее руку.
– Вот и встретились! Что вы здесь делаете? – заговорила она, быстро вздохнув полуоткрытым ртом, точно ей не хватило воздуха.
– Прихожу собачек мучить. А вы?
– Я тоже…
– Но ведь вы в челюстно-лицевом.
– И что же? Ах, вы думаете: на собачках пластические операции невозможны! – Лариса чуть усмехнулась уголками губ, однако взгляд ее остался тревожным и на лице отразилась сдержанная досада, непонятная Ивану Ивановичу. – У нас свои проблемы, требующие экспериментальной проверки.
Внешне встреча получилась холодноватой: оба ни слова не сказали о личном – Иван Иванович не решился на это из боязни растравить в ней боль утраты, а Лариса из самолюбия не спросила, как он живет с другой женщиной.
«Значит, Лариса Петровна продолжает свои поиски, – думал Иван Иванович, входя в операционную, предоставленную в эти часы в распоряжении хирургов клиники Гриднева. – Очень рад за тебя, дорогой товарищ! Желаю успеха. И себе тоже». – И, уже успокаиваясь, начал готовиться к очередному опыту. Если бы у него было время проанализировать свои чувства, он, наверно, с грустью подумал бы о том, что стареет: вспыхнул огонек и погас, точно горсть сухой травы прогорела, осветив на миг все ярким пламенем. Так ли горят молодые, сильные, свежие чувства?
Правда, он чрезмерно уставал каждый день и зачастую, дотянув до вечера, падал в постель как подрубленный и мгновенно засыпал тяжелым сном. Но и во сне оперировал, дрожал над затухающей искоркой жизни, стонал, скрипел зубами и даже плакал порой. И как снились ему, бывало, искалеченные лица и окровавленные черепа, так теперь мерещились разверстые его ножом раны, трепещущие сердца и мертвые люди под стерильными простынями.
Иногда он срывался с кровати, пугая Варю. Маленькие теплые руки крепким кольцом ловили его за шею, удерживали, лаская, опрокидывали, уже опомнившегося, на подушку. «Куда ты?» – «Прости. Мне опять приснилось: человек умирает, и нужна срочная помощь». – «Успокойся! На курорт бы тебе надо!» – «На том свете отдохнем, Варюша».
22
Зоотехник Марина, заведующая виварием, она и кормилица-поилица громкоголосого своего питомника, женщина невысокого росточка, похожая в легкой куртке и пилотке на удалого казачка, привела на поводке крупного дворового барбоса. Здесь породистые не в чести: они хуже переносят операции, и опыты из-за этого срываются.
– Самого хорошего выбрала! – с приметной жалостью говорит она лабораторной сестре Риточке.
Риточка, красавица девушка в щегольском халате, туго опоясанном по тонкой талии, и в кокетливо повязанной косынке, критически осматривает барбоса. Собака действительно хорошая. Ей уже ввели снотворное, но она бодра, агрессивно настроена и, не собираясь шутить, показывает волчьи клыки окружившим ее сестрам и лаборанткам.
– Вот какая! – Черноглазое свежее лицо Риточки заливается ярчайшим румянцем досады, и она в нерешительности останавливается перед собакой с марлевым бинтом в руках. – Надо было дать ей побольше снотворного.
– Собака должна быть в норме! – напоминает Марина. – Дай уж я сама. – Взяв бинт из тонких пальцев сестры, она смело подходит к собаке, оглаживает ее и накидывает ей на морду петлю из марли.
Девчата наваливаются со всех сторон и, пока удалая Марина держит собаку за уши, сжимая ее коленями, завязывает концы бинта вокруг собачьей шеи. Затем они тащат барбоса и, уложив на деревянный станок, к которому привязывают бинтами все его лапы, поднимают на стол, чтобы выбрить операционное поле и дать наркоз.
Иван Иванович, готовясь к операции, краем глаза наблюдает за суетней женщин.
«Какие замечательные эти лаборантки! – мелькает у него мысль. – Сколько в них любви к делу, какая горячая заинтересованность. Зоотехник Марина просто прелесть, настоящий маленький егерь – собак после операций выхаживает, как детей. И Риточка… – Доктор охотно прощает Риточке ее кокетливую щеголеватость: – Девушка молодая и прехорошенькая, хочет нравиться – все естественно. Зато ей можно многое доверить при проведении опыта. Отпрепарирует вену или артерию не хуже хирурга и швы наложит – залюбуешься. Обязательно надо ей в мединститут… – Тут у Ивана Ивановича сразу возникает мысль о Варе: – Тоже была сестра, а вот уже врач. Ох, разволновалась бы она, узнав о моей встрече с Ларисой!»
Иван Иванович вспомнил, как шла по лестнице Лариса, ее оживленное лицо, прямой взгляд умных глаз.
«Интересно, любит ли она своего нового мужа? Наверно, есть кто-нибудь у нее. Работает здесь… Удивительно, что мы не встретились до сих пор. Хотя у каждой клиники свои определенные часы для проведения опытов».
Ассистентки кладут уснувшую собаку в ванну со льдом. Медленно, медленно идут минуты. Две линии вычерчивает аппарат-писчик на вертящемся барабане, фиксируя дыхание и работу сердца. Понижается температура тела: вместо нормальных у собак тридцати девяти градусов уже тридцать четыре, тридцать один, тридцать градусов. Реже становится штриховка – запись сердца, ниже вырисовываются зубцы – дыхание. Иван Иванович ждет и размышляет уже только о том, что происходит сейчас в организме собаки. Прежде чем заснуть под эфирной маской, она все поднимала лобастую голову, тоскливо, внимательно окидывала людей почти человеческим взглядом и жалобно, по-щенячьи скулила. На следующем опыте она не будет показывать клыки лаборанткам. Ее доставят сюда в полусне.
Вот уже двадцать шесть градусов. Можно начинать. Убираются пузыри со льдом. Спящую собаку вынимают из ванны и опять кладут на операционный стол на деревянной подставке. Теперь к делу приступает Иван Иванович. Задача: зажав на несколько минут ведущие кровеносные сосуды, сделать операцию «на сухом сердце». Какую операцию? Создать искусственный порок – отверстие в сердечной перегородке. Цель – проверить, сколько минут может выдержать охлажденный мозг без притока крови. Кроме того, созданный порок даст возможность провести новую опытную операцию.
Общее внимание в операционной сосредоточено теперь на тоненьких клювах двух писчиков, тянущих нити собачьей жизни на ленте вертящегося барабана. Пишущий прибор устроен просто: манжетка, наполненная воздухом и надетая на грудную клетку собаки, передает писчику толчок вздоха через резиновую трубку с водой. Пульсация сердца регистрируется также через трубку с водой, подключенную к бедренной артерии.
Посматривает на ленту прибора и Иван Иванович. Смерть подопытного животного – большое огорчение для хирурга. Срыв серьезного опыта – неудача всей лаборатории. Операция идет полным ходом. Уже наложены зажимы на устья вен, на аорту. Тугой комок сердца, опустев, становится вяловатым.
Иван Иванович вскрывает его. Кровотечения нет: сердце в самом деле почти сухое, только на дне, в желудочках, немного крови. В памяти сразу оживает недавно погибшая девочка Лида Рублева. Вот отсюда бы, под контролем глаза, войти в суженное устье легочной артерии и выкусить инструментом суженный перешеек. Сразу бы заполнилась и запульсировала артерия, и не смешанную кровь понесла бы она в легкие, а только венозную, которая должна поступать в малый круг кровообращения из правого предсердия. Сделать эту операцию при сниженной температуре тела – и мозг прожил бы дольше без снабжения кислородом. Сколько времени «терпит» пес? Пять минут прошло, как опустело сердце… Иван Иванович набирается мужества помедлить еще три, даже четыре минуты. Писчик работает… Недавно профессор Белов умертвил у себя в лаборатории вот так же охлажденную собаку, выпустив из нее всю кровь на операционном столе. Полчаса у собаки не было ни дыхания, ни пульсации. Потом ей сделали струйное вливание крови в артерию, искусственное дыхание, и она ожила. Таких чудес никогда еще не знала медицина.
Опыт закончен. Собака жива. Она перенесла выключение сердца в течение девяти минут. Ее уносят в «клинику».
Хирург моет руки и снова думает о погибшем ребенке, о своих будущих операциях. Вчера в отделение поступила партизанка Отечественной войны Полозова. Она геройски дралась в тылу врага. А теперь у нее ревматический порок сердца…
– Дольше так жить не могу. Если вы не сделаете мне операцию, покончу с собой, – заявила она Ивану Ивановичу. – Удушусь или из окна с седьмого этажа выпрыгну.
«И выпрыгнет. Отчаянная женщина. Если не умрет своей смертью на койке или под рукой хирурга на операционном столе, – найдет возможность уйти из жизни».
Пришлось ее обнадежить, успокоить, а оперировать пока нельзя: обнаружен выпотной плеврит с высокой температурой. Значит, сначала надо лечить, и лечить серьезно, а потом отдых нужен перед операцией. И сколько еще таких отчаявшихся, и надо как можно скорее искать для них возможность выздоровления.
23
Много воды протекло по Волге с тех пор, как гремели над нею взрывы вражеских снарядов. Страшной она была тогда, багровая в отсветах пожарищ, и надолго осталась такой в памяти Ларисы. Как и Решетов, Лариса не вернулась в разрушенный родной город, и не только потому, что слишком много тяжелых воспоминаний было связано с ним.
Шел 1945 год. В развалинах лежали города и села. Заросли бурьяном поля, засеянные человеческими костями… Миллионы людей не вернулись к своим семьям и никогда не вернутся. Какой мор прошел по земле? Черная оспа? Холера? Чума? Нет, эти кошмары канули в прошлое, когда наступил великий научными открытиями двадцатый век. Но вместо моровых болезней мир стали опустошать войны, какие даже не снились простодушным дикарям, поедавшим трупы своих врагов.
Долго еще будут болеть нанесенные раны! Но советский народ уже вздохнул свободно: он победил, выгнал захватчиков из своей страны.
В хмурый осенний денек на мокрый перрон одного из московских вокзалов вышла из вагона тоже хмурая молодая женщина в шинели, с чемоданом в руке, с рюкзаком за плечами, и мальчик лет восьми в пальтишке, сшитом из шинельного сукна. Сапожки его были переделаны из солдатских кирзовых сапог. Он цепко ухватился за ручку чемодана, помогая матери, черные глаза его, резко выделявшиеся на бледно-смуглом лице, горели живым любопытством: Москва!
Шумная волна пассажиров разделилась: одни хлынули на улицу, а эти двое вместе с другими иногородними направились в здание вокзала.
Там было тесно. В спертом воздухе стоял запах той бездомности, которая всегда витает над людьми, застрявшими на перепутье с узлами, чемоданами и мешками. Неуютно оказалось в громадном прокуренном зале, зато над головой – крыша, ниоткуда не дуло и не капало. Так встретила после войны Москва маленького Алешу Фирсова. Впрочем, он не считал себя маленьким, пройдя по военным дорогам до самого Берлина с медсанбатом, в котором работала его мать. Он даже получил благодарность – грамоту с печатями командования за дежурство в госпитальных палатах, но оставался ребенком, как и полагалось ему в его годы, и поэтому с тревогой посмотрел на мать, когда она, отыскав свободное местечко, сняла с плеч рюкзак, достала кусок хлеба и сказала:
– Сиди здесь, никуда не убегай. Я скоро вернусь. – Насчет вещей она ничего не наказала: ценностей у них не было, и Алеша, присев на чемодан, сам пристроил рядом походную сумку, но сделал это машинально, занятый мыслями о матери. Вдруг уйдет и затеряется в громадном городе, который он даже не смог рассмотреть по-настоящему сквозь запотевшее окно вагона. Где тогда искать ее?
– Я съезжу, узнаю, как с квартирой. Нам с тобой хотя бы маленький уголок на первое время…
Она ушла, и Алеша остался один среди оживленного людского муравейника. Звенели на перроне звонки. Гудели паровозы. Мимо торопливо топали группы демобилизованных солдат и проходили на посадку пассажиры с детьми, сундучками, узлами, чемоданами. Алеша сидел, ждал мать и так беспокоился, что забыл о куске хлеба, засунутом в карман. Почему никто из знакомых не ответил на ее письма? Наконец мальчик устал ждать и задремал. Очнулся он от легкого толчка. Но потревожил его молодой, болезненного вида солдат, присевший рядом со своими немудреными пожитками.
– Освободили вчистую: чахотка после ранения, – сказал он Алеше и надолго закашлялся. – Вот приехал к своим, а как найти, не знаю.
– Мы тоже приехали, а где будем жить, не знаем, – охотно сообщил Алеша.
Подошел еще один солдат на костыле, бросил на пол вещевой мешок, сел возле и вдруг заплакал.
– Чего ты? – спросил первый, еще не отдышавшись.
– Ходил к родным и не нашел. Уехали. Ну, куда я теперь?
На лице первого мелькнул испуг: а вдруг и его родня исчезла? Война и под Москвой была, могли разбомбить… Оба солдата совсем молодые: им от силы лет по девятнадцать. Оба, как и Алеша, страшатся одиночества. Вот даже плачут!.. Но это настоящие солдаты, обстрелянные, раненые, и все существо мальчика возмутилось против их нового горя: победили фашистов, приехали домой, а никто не встретил!
– Думал: приду сейчас, попрошу маму сварить лапшу. Когда я уходил в армию, она варила лапшу… – перестав плакать, хрипло заговорил солдат без ноги. – А никто даже не знает, куда уехали!
– Я тоже не знаю, где искать, – сказал первый. – Подошел к телефону, хотел спросить у телефонистки квартиру… Брат главным бухгалтером работает. А тут телефоны-автоматы. Надо знать номер.
«Вот так и мама, наверно, ходит сейчас…» – подумал Алеша, но разговор о лапше напомнил ему о другом: он сунул руку в карман, достал хлеб и разделил кусок на три части.
– Берите! – радушно сказал мальчик. – Мы с мамой по карточкам в дороге получили.
Безногий солдат взял хлеб и стал жевать, по-детски блестя мокрыми глазами:
– Проклятая война всю нашу жизнь поломала…
Лариса пришла, когда Алеша уже начал терять надежду на ее возвращение.
– Не нашла? – спросил он, любовно и радостно всматриваясь в измученное лицо матери.
– Нет, нашла. Но там устроиться невозможно: своего народу много. Ездила по второму адресу – и там полно. Придется нам, дружочек, побыть пока здесь.
24
Они ночевали на вокзале с неделю. За это время Лариса приступила к работе в Центральном институте травматологии, и вдруг им дали комнату на шестом этаже громадного дома. Дом стоял на Калужской улице, асфальтовые просторы которой вечером, после дождя, показались Алеше широкой рекой с плывущими разноцветными огоньками.
– Теперь мы будет здесь жить? – Мальчик обошел почти квадратную комнату, оглаживая ладонями стены, грязно-голубые от копоти. – Нам ее насовсем отдали?
– Конечно. – Лариса улыбнулась: все устраивалось как нельзя лучше, – поставила на пол чемодан, положила рюкзак и шинель на подоконник единственного, но очень большого окна – мебели в комнате никакой не было – и засмотрелась: затемнение давным-давно отменено, и целое море огней искрилось кругом.
– Большая она, Москва! – Алеша тоже подошел к окну. – Самый первый город в мире? Да?
– Конечно, – не задумываясь, ответила Лариса. – Только обещай мне, что ты не будешь влезать на подоконник и высовываться из окна.
– Высовываться я не буду, но на подоконник-то можно. Ведь мы еще ни разу не жили так высоко! – Мальчик снова оглядел комнату. – Какая хорошая! Правда? Вот бы еще вернулся папа! Пришел бы, а мы тут… И все бы вместе…
– Алеша! – Лариса обняла его угловатые плечики. – Я говорила тебе… Папа не вернется. Мы будем жить вдвоем. Ты поступишь теперь в музыкальную школу. – Она взяла руку сына, положила ее на свою ладонь, распрямила. – Отвык уже от инструмента: пальцы огрубели, совсем не такие, как три года назад. Но ничего, это еще поправимо.
– Я буду стараться. Выучусь, и тогда… тогда куплю стол, платья тебе, посуду, кровати мы купим и… рояль. А? Я стану дирижером и сочиню свою музыку. Как ты думаешь, смогу я сочинить музыку?
– Если будешь сейчас заниматься по-настоящему. – Лариса огляделась немножко растерянно: с чего начинать на новом месте? Прежде всего надо сделать побелку потолка, стены покрасить… Пока еще не было ни кроватей, ни посуды, а рояль казался несбыточной мечтой.
– Все равно его некуда здесь поставить, – забывшись, сказала она.








