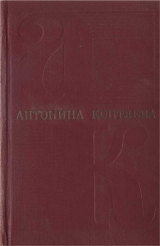
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 49 страниц)
Как богато Евангелие XVI века, с заставками и изображениями святых, покрытыми настоящим растворенным золотом, с золотыми точками и запятыми на каждой строчке, расставленными не как знаки препинания, а для красоты! Есть в этой роскошной древней рукописи простодушная наивность, напоминающая каменного истукана во дворе библиотеки.
Или вот еще «Лицевое житие Сергия Радонежского» с иллюстрациями на каждой странице. Краски, изумительные по яркости цвета и по богатству подобранных оттенков. Сергий представлен в движении: вот он благословляет Дмитрия Донского на битву с татарами в церкви, изображенной в разрезе, на общей панораме монастыря, рядом нарисовано, как он отошел от князя, и князь, на этом же рисунке, выходит из церкви. Так дети рисуют. А текст внизу выписан клином, последние слова разбиты на слоги и даже на отдельные буквы, занимающие целую строку, а где и этого не хватало, до нижнего края страницы подписаны одна под другой запятые и точки.
Кандидат филологических наук Конюшина, работающая в отделе двадцать пять лет, знакомит иностранца с историей отдельных рукописей и архивов, называет имена профессоров, писателей, художников, которые изучали их в библиотеке.
– А сколько стоит этот уникум? – спрашивает иностранец и тычет длинным пальцем в рукопись Саллюстия XV века.
Кандидат филологических наук сбивается на полуслове, недоумевающе и чуть смущенно пожимает плечами:
– Сразу трудно сказать.
«Сколько же все-таки стоит рукопись? – подумала Татьяна, глядя на рабочую тетрадь Джордано Бруно. – Вот это он сам написал, сам делал эти чертежи и вычисления. А потом его сожгли на костре, а тетрадь осталась, как реликвия святая. Можно ли оценить ее?»
– Видели, каков любитель? – шепнула Зина, входя с Татьяной в отдел старопечатной книги. – В уникумах он действительно знает толк.
Татьяна не нашлась что ответить, молча осмотрелась. Древним монастырским духом пахнуло на нее от низкого, хотя и светлого, помещения в первом ярусе книгохранилища, от книг, расставленных и разложенных по столам. Здесь была выставка переплетов. В кожаных и железных покрышках с обрывками цепей, которыми их приковывали к аналоям, староцерковные книги имели внушительный вид. Но теперь Татьяна с интересом присматривалась и к иностранцу. Он знакомился с книгами со страстью коллекционера: трогал бумагу, гладил бархат и сафьян переплетов, разглядывал в лупу тончайший узор из серебра сканой работы. Он даже обнюхивал некоторые книги.
– А сколько стоит этот уникум? – спросил он снова, когда выхоленная его рука точно приклеилась к Библии, напечатанной на первом станке Гутенберга.
Татьяна быстро взглянула на сотрудницу. Главный библиотекарь отдела Марья Александровна Кондратьева, которая четверть века провела среди книг, тоже пожимает плечами:
– Не знаю… наверно, десятки тысяч.
– А сколько стоит этот уникум? – повторяется стандартный вопрос над парижским изданием Пигуше 1490 года – «Часословом», изумляющим богатством орнамента, сделанного от руки, и над двумя книгами «Апостола», напечатанными Иваном Федоровым (один – в Москве, второй – во Львове, с послесловием изгнанного первопечатника о своих мытарствах).
«Что это он? Как будто в лавку пришел, – подумала Татьяна с раздражением. – „Сколько?“ да „сколько?“. Просто даже стыдно!»
Когда иностранец с невозмутимым упорством осведомился о стоимости «Божественной комедии» Данте с рисунками Боттичелли, сделанными специально для этой книги, напечатанной в 1481 году, на сцену выступила Евгения Ивановна Кацпржак – заместитель заведующего отделом.
– У нас при библиотеке есть специальная комиссия, которая знает состояние цен на книжном рынке. Как ценилась та или другая книга до революции, какие цены на заграничных аукционах. Там могут установить… – Евгения Ивановна решительным жестом поправляет очки на тонком темноглазом лице и добавляет: – Мы не знаем цену своих редких книг в деньгах, потому что интересуемся главным образом их культурной ценностью.
– Но это такое… такое богатство, – внушительно произносит иностранец, останавливаясь над кокетливым лионским молитвенником, вытканным на шелку по заказу дамы из королевского дома, и книгой сочинений Сервантеса – испанским шедевром-озорством, напечатанным на листах из пробки такой толщины, как папиросная бумага. – Это уникум, или, как говорят, инкунабула.
– Да, но дело не в том, сколько инкунабул мы имеем, а в том, как преподнести их народу. Полюбить древние книги по-настоящему, понять их значение может только образованный человек. Поэтому все усилия нашей библиотеки, как и наших школ, направлены на воспитание массового читателя.
Но у иностранца было свое устоявшееся мнение: ценно только то, что можно дорого продать. Какое ему дело до массового читателя?
* * *
Снова Татьяна сидит в читальном зале. Она отдыхает и думает о своих новых друзьях – Анохиной и Зине, о таких же энтузиастах этого коллектива Коншиной, Кондратьевой, Наталье Павловне Горбачевской, награжденной орденом Трудового Красного Знамени.
Двадцать семь лет назад Наталья Павловна поступила сюда на маленькую должность библиотечного техника, а стала заместителем директора библиотеки, имеющей около одиннадцати миллионов книг. Уже работая здесь, она окончила историко-философский факультет Московского университета и высшие библиотечные курсы. Вспоминает Татьяна и об «уникумах», о том испытании, которое ей устроила Зина и которое она, кажется, выдержала. С волнением думает она о занятиях в институте, о шумливой молодежи, о студенческом общежитии и путевках в дома отдыха, которые получат летом лучшие из студентов.
Теперь открыты все читальни в новом гигантском корпусе библиотеки, но Татьяна не хочет менять облюбованного, дорогого ей места.
Непрерывное движение свежего воздуха овевает ее лицо. Легкий шум шагов. Шорох перелистываемых страниц. Сколько простора в этом бело-голубом зале, даже не голубом, а зеленоватом, цвета морской волны, с белыми, как пена, лепными украшениями. Книги идут в рейс по своим маршрутам. Тысячи, тысячи, тысячи. Целое море книг. Но уже уверенно отправляется Татьяна в свое большое плавание.
1945–1969
В цехе тепло и шумно. Инструктор, которого называют запросто тетя Дуня, проходит между рядами станков. В черном халате, в красной косынке, худенькая, легкая, она поспевает всюду. Вот она помогает ткачихе «разработать брак»: быстро-быстро выдергивает подрезанные по краям уточные нити из основы. В таких случаях она не корит работницу, но точно сама совесть ткацкого коллектива глядит из ее глубоких глаз, и виновная спешит как можно скорее исправить свою оплошность.
Другая ткачиха жалуется:
– Основа хорошая, а уток плохой: не подает плавно нитку.
Тетя Дуня осматривает деревянный челнок… Планки ремизов двигаются вверх и вниз, перемещая ряды основы – сотни ниток, тянущихся с огромной катушки ткацкого навоя. Это перемещение образует между рядами основы пространство – зев, где всякий раз успевает проскочить челнок с уточной нитью. Он носится справа налево, встречаемый с обеих сторон ударами погонялок. Пролетая с такой быстротой, что кажется, будто мелькает не одна, а две белые шпули, он оставляет след в зеве – уточную нить. Крохотными долями нарабатывается полоса ткани! Но проходят минуты, часы, и снующий челнок образует за смену десятки метров.
Почему же он рвет нити основы?
Старая ткачиха тетя Дуня, поставленная на должность инструктора за свое мастерство, – она же и парторг цеха, – сразу находит причину: обились края челнока, и вот летит он, задевает основу и рвет.
Исправили. Пустили. Дело пошло.
Тут зовет новенькая – просит нитку завесить. А там усложненный обрыв получился – придется ставить специальную отрывщицу. Рядом помеха произошла от неправильного пробора в ремизах. И тетя Дуня ходит от станка к станку в красном платочке, словно в первые годы революции, когда была женорганизатором цеха, или в памятном двадцать четвертом, когда вступила в партию. Она хорошо знает всех работниц, знает ткацкое дело: по одному звуку погонялочки может определить, как работает станок, недаром пятьдесят лет из шестидесяти прожитых провела на этой подмосковной фабрике в Глухове, где работали ее отец, мать и муж, погибший в продотряде в 1920 году.
– Как у тебя дела, Ивановна? – спрашивает она подружку-пенсионерку.
– Процентов сто двадцать дам сегодня, – отвечает грузная седовласая Ивановна, осваивающая образец новой ткани. – Сынок говорит мне вчера: хватит тебе, мамаша, работать, отдохнуть пора. А я не могу дома сидеть. Придешь – тут все знакомо, все свое.
– А ноги-то, чай, гудят к вечеру? – напоминает легонькая тетя Дуня.
– Ну что ж! Дома-то натопчешься, еще пуще гудят. Нет, хоть и тяжело, а на народе будто молодеешь.
Парторг тетя Дуня задумчиво кивает. Ей хорошо известно, что значит труд в жизни настоящего человека. В ткацком цехе фабрики сосредоточены сейчас все ее жизненные интересы.
– Придешь на собрание?
– Неужто нет?
* * *
Тетя Дуня живет в деревянном доме, теплом и светлом. Под окнами садик: подстриженные тополя, серые в зимней голизне.
– Раньше были ой кудрявые! – вспоминает она, быстрым шагом проходя по дорожке. – А теперь остарели. И все-то так!
Вместе с ней живет вдова самого младшего сына, бывшего помощником мастера, слыл он и хорошим футболистом… Трое сыновей убиты на фронте во время Отечественной войны. Все работали на фабрике, учились на вечерних курсах.
– Хотели сдать за среднюю школу. Образовать себя… – говорит мне тетя Дуня, поднимаясь на крылечко.
Глаза ее вспыхивают скорбным огнем и гаснут, мгновенно залитые слезами, но и слезы сразу иссякают – видно, немало пролито их.
Нет, в самом деле, хоть не являйся в свое опустелое гнездо! Сейчас же начнут одолевать воспоминания, от которых раскрывается никогда не заживающая рана в сердце матери. Ведь какая радостная жизнь была!
Входим в дом. Передней нет, сразу уютная кухонька с полами, выскобленными добела, с белой горячей печью, со светлыми шторами на окне. В дальнем углу от двери стоит диван, на котором аккуратно сложена чистая постель тети Дуни. На этажерке книги, на стене портреты сыновей.
Невестка – прядильщица, в свободное от работы время наводит порядок, с бывшей свекровью живут дружно.
Раздеваясь, тетя Дуня смотрит в окно и говорит громко:
– Гаврик! Гаврюша, газеты принесли!
Из комнаты-горницы выходит второй муж снохи, торопливо направляется к выходу.
Тетя Дуня провожает его взглядом. На лице ее снова глубокое раздумье, в голосе добрая грустинка:
– Ничего, славный парень, слесарь хороший. Что же делать? Раз нету, так нету! А невестка молодая, ей жить надо.
Старая ткачиха прислушивается. Все лицо ее вдруг чудесно молодеет, глаза проясняются.
– Дочка наша проснулась – Танечка! – говорит она с живостью и идет в комнату, где из простенькой деревянной кроватки раздается милое лопотание. – Ну, вставай, вставай, ласковая! – И, обращаясь к Гаврику, с улыбкой: – Выходная, что ли, сегодня? Почему не в яслях? Смотри, какая девчушка интересная становится! Ишь как разговаривает. Ведь и то: уже год пять месяцев ей. Теперь, как прихожу, бежит, встречает. Ну, давай, чулочки, башмачки… Кашляешь, говорят? Вот этого не надо. Пусть Шарик за тебя покашляет.
Тетя Дуня берет на руки свою нечаянную отраду и, потрепав, опускает на пол.
– Гуляй помаленьку, только к дверям не подходи. А я сейчас отдохну да на собрание. Сегодня наш женский день.
Ясным взглядом ткачиха окидывает большую, опрятно убранную комнату. Раньше здесь жила она. Теперь уступила эту горницу молодоженам. Ей самой обещали другую жилплощадь, но…
– По правде говоря, не хочется уходить на голое место.
«Что наделала война проклятая! Сколько семей опустошила». Тетя Дуня снова задумывается – стоит, забывшись. Рассеянная она стала. Но Танечка теребит ее за платье. Цепкие ручонки тормошат, тянут:
– Сядь, баба, сядь!
Тетя Дуня, встревожившись, смотрит на поднятую к ней беловолосую головку и произносит сдавленным от волнения голосом:
– Ну, кто ее, такую маленькую, учит!
Гаврик ласково усмехается: он сам уважает и жалеет бывшую свекровь жены.
– Чувствует, что запечалилась. Хоть маленький, а человек.
В клубном зале праздничный гомон. После торжественной части будет концерт, потом вечеринка. Женщины приоделись, шутят, смеются. С детства милый сердцу день – Восьмое марта. Весело от одного сознания, что вместе с тобой отмечают его по всей родной стране, по всему свету.
Собрание проходит с подъемом. Среди участниц его тетя Дуня видит и миловидную младшую невестку.
«Значит, с Танечкой Гаврик остался дома», – отмечает она, прислушиваясь к речи очередного оратора: толстуха Ивановна рассказывает, как она освоила выпуск новых тканей.
Дали слово и тете Дуне. Выйдя на трибуну, она вспыхнула, жарко засветились ее глаза.
– Фашисты опять хотят вытоптать нашу землю.
Они уже забыли, как советские солдаты гнали их до Берлина. А мы этого не забудем. Не забудем и того, сколько горя они нам принесли. Но и горем нас не убили. Когда мой сын Александр погиб под Ленинградом, выполняя особое заданье, я, как и все, еще сильней взялась за работу. Вставали в пять утра и до семи вечера. Не щадили себя, лишь бы одеть армию, лишь бы победить. Тут похоронка за похоронкой: Василий, сынок мой, командир пехоты, отдал жизнь за родину под Калинином, Николай, старший лейтенант, убит под Псковом. Ну, что я могла?! – Вопрос тети Дуни прозвучал сухо, ровно, только руки ее слегка засуетились. – Дома наревусь, а в цех приду – кажется, горы бы своротила. Чем тяжелей на фронте, тем крепче мы стояли у станков. Выдюжили, потому что со всем народом вместе боролись за правое дело. Многие наши родные не вернулись с фронта. Тяжко это! Но вот гляжу я на вас, молодых, и сердцем радуюсь – жизнь снова на полном ходу. Не дадим больше никому рушить наши семьи, проливать кровь детей. Станем стеной, чтобы потемнело в глазах у разных господ, которым охота воевать. Будем бороться за общее народное счастье. Все равно мы победим.
Слегка задохнувшись, тетя Дуня опустилась на свое место за столом президиума, взглянула в зал, шумевший бурей аплодисментов.
Передние ряды поднялись, за ними встали другие, подхватывая припев «Интернационала»:
Это есть наш последний и решительный бой…
Тетя Дуня тоже пела. На лице ее теплился слабый румянец. Она чувствовала себя частью огромного целого и была счастлива.
1950
Прекрасные залы кремлевских дворцов. Как радостно видеть в них во время съездов партии и в дни заседаний Верховного Совета множество женщин: ученых, колхозниц, работниц с производства.
Все великие русские поэты и писатели оставили незабываемые произведения, в которых запечатлен терпеливый, но непокорный характер женщин нашей страны. Сила этого характера закалялась веками. Никакие тяготы не убивали его. Еще за сотни лет до Некрасова миллионы таких, как воспетая им крестьянка Дарья, отдавали последний кусок защитникам родины, несли единственные серьги на народные ополчения в дни тяжких государственных смут и сами выходили с вилами на врага. А когда пришла революция и пробудила все силы народа, сколько героинь фронта и трудового тыла родилось в годы гражданской войны, в период мирного строительства и во время нашествия фашистов.
Мы, советские писатели, в долгу перед нашими замечательными женщинами, так как не создали в полный рост – ни в прозе, ни в поэзии – образа нашей современницы.
Ведь многие за границей полагают, что труд огрубляет женщину, что ее украшает только безделье да модные туалеты. У нас представление да и сама действительность совершенно иные. Не наряды и косметика красят наших женщин, хорошеют они от полноты жизни, манящих ее перспектив, от больших и совершенно реальных надежд на будущее и сознания своей значимости в обществе.
Наша советская труженица – новое явление в новом человеческом коллективе, причем явление массовое. Своей независимостью она сильна и в личной жизни, с ее огорчениями, тревогами, радостями, и смело преодолевает любую трудность не только в мирное время, но и в годы военных потрясений. Сколько у нас таких? Миллионы. Они опора государства и в промышленности, и в сельском хозяйстве, детей растят и сами с каждым днем растут и хорошеют, невзирая на паутинку морщин и серебро седины, для всех нужные и интересные.
Взять, к примеру, колхозницу Надежду Загладу. Много мы были наслышаны о ней. По фотоснимкам запомнили: немолодая, сухощавая, немножко курносенькая, видно, юркая, боевито цепкая в работе, страстная к тому же на слово, берущее людей за душу (иначе нельзя – передовик колхозный). Идет о ней и такая молва, что во время войны приютила она нескольких осиротевших ребят, став им настоящей матерью, хотя самой жилось нелегко. Вот она перед нами на экране телевизора. Сразу чувствуется, в труде жизнь провела: такое спокойствие и собранность даются уверенностью в своих хороших делах. На груди ордена и Золотая Звезда Героя. И юные пионеры, и члены правительства с большой охотой вступают с ней в разговор. А где, в какой стране это видано, чтобы президент или министр с таким интересом беседовали с простой крестьянкой? Разве только в дни выборов, «демократизма» ради!
А Заглада? Говорит без бумажки, смотрит прямо. Видно, уже привыкла выступать. Но вдруг запнулась. Помолчала, посмотрела, не теряясь, а раздумывая, и молвила как-то особенно задушевно:
– Дорогие, что я еще-то хотела вам сказать?!
И сразу стала для тебя не просто уважаемая сельская труженица Надежда Заглада, а близкий человек, болеющий и о твоей судьбе, и о судьбе Советского государства. Вон куда шагнула – государственный деятель!
Или возьмем молодое у нас химическое производство. Только-только мы его развертываем. А сколько женщин, технологов и нефтяниц, уже возглавили работу крупнейших лабораторий и цехов. В цехах этих, почти сплошь автоматизированных, повсюду огнедышащие и взрывоопасные установки. А начальники…
– Если бы мои мальчишки мне не помогали, я бы здесь не работала! – с чудесной улыбкой сказала мне начальник полипропиленовой установки Московского нефтеперерабатывающего завода инженер Лидия Малова, прелестная маленькая женщина с янтарно-желтыми глазами. – У нас тут все внове: метод свой, отечественный, схема получения продукта тоже. План выполняем, строим новый цех, старый реконструируем. Работы по горло. А приду домой, мальчики встречают, ухаживают – пальто снимут, туфли подадут. И обед уже разогрет, и в комнатах прибрано. Двое их у меня, росли организованно: ясельки, детский сад. Сейчас сознательный народ. Купила нынче стиральную машину, с таким торжеством домой доставили! Теперь стирают вовсю. Хотя иногда даже неудобно бывает: дорожат своей работой и порядком в доме и всех моих гостей заставляют переобуваться в тапочки. Старшему восемнадцать лет. Работает на заводе слесарем и вечерний техникум посещает, а младший – подросток, в школу ходит. Учатся хорошо. Дружные, веселые ребята. Любая работа для них как игра. Вместе на лыжах ходим каждый выходной.
На этом же заводе начальником атмосферно-вакуумного цеха Мария Курочкина… Она тоже выглядит малюткой среди своих громоздких сложных установок, синеглазая, смелая до отчаянности, деловая, волевая, а дома нежная мама двух еще маленьких детей, добрая счастливая жена, музыкантша и прекрасная хозяйка. Начальник 3-го газового цеха – Тамара Горнова. Это крупная, сильная женщина с красивыми чертами лица. Тоже волевая, властная. И на работе подкрашивает губы, одета – хоть сейчас в театр, а когда в цехе все в порядке, умеет пошутить и посмеяться. Посмотришь на такого начальника возле щита управления в операторной, окруженную боевым штабом, или на установках, похожих на гигантскую лабораторию под открытым небом: власть, авторитет, полное доверие рабочего коллектива. А рабочие и инженеры все народ серьезный, с большим опытом и трудовой закалкой.
– Я одна женщина в этом цехе. У меня все мужчины, – весело улыбаясь, говорит Горнова. – Мой заместитель – практик, двадцать лет на заводе. Знающий, скромный. Он меня и учил, когда я пришла сюда после института. Тогда меня здесь в штыки встретили – девчонку прислали крашеную, а производство опасное: давление и температура высокие, сырье и продукция взрывчатые. Начальник цеха был огорчен страшно. Собирался меня вытурить. Что я слез пролила дома в подушку! А потом ничего, обошлось, понравилась все-таки моя работа.
Смеется, красивая, озорноватая. Но сразу, смахнув улыбку, начинает она наступательный разговор:
– Ты чувствуешь, зачем я тебя вызвала на пять часов?
Едва протиснувшийся в дверь временной конторки здоровый детина с лицом, обожженным солнцем и ветром, опускает глаза, как девочка:
– Больше не буду. Раз сделал…
– Не делай! Я тебе не советую. К чему на себя брать такие вещи. Учти.
У Горновой хорошая семья. Любимый муж. Дети. В этом году она родила еще дочку. Ко работу не оставила. После декретного отпуска снова в цех. С малышкой возится вся семья и на придачу бабушка – золотой фонд.
Сколько у нас возможностей для женщин пойти на любую работу. Но вот сейчас я пишу роман о нефти, о добыче ее и переработке, о людях, которые занимаются ею. И всюду – не там, где требуется грубая мужская сила (к примеру, на буровых скважинах), а там, где необходима мужская энергия, смелость, беззаветная преданность делу, – орудуют женщины, у которых эта энергия и смелость – само собой, и знания! – сочетаются с женской аккуратностью и дисциплиной.
– Что вас держит на таком отчаянном производстве? – спросила я начальника крупнейшего цеха Дорогомиловского химического завода Ирину Амитрову.
Она вскидывает живые карие глаза. Усмехается:
– Вот вы писатель, значит, инженер человеческих душ. Скажите мне, что такое любовь, и тогда я вам скажу, почему я не могу уйти из цеха.
А ведь могла бы! Отец – профессор. Муж – редактор военного издательства. И сама она, Ирина, не только химик, но и скрипачка. В оркестре играла. Могла бы… Тем более двое детей… Но…
– Дышать не могу без цеха, без людей, с которыми вместе тридцать лет назад начали осваивать это производство. Если я их не увижу, кажется, умру с тоски.
– А еще что вас интересует?
– Еще люблю ездить по стране. Альпинизмом увлекаюсь.
– И поднимались? Куда?
– Ну, на такую крышечку, как Эльбрус. На самой вершине была. Вот еще на Цаннер не успела. Это ледник в Северной Сванетии. Он постоянно меняет цвета: то сиренево-розовый, то голубоватый. Но мы с Митькой туда слазаем. Уже договорились.
– Кто это – Митька?
– Мой внук от младшей дочери.
– Сколько же ему?
– Два месяца.
Амитрова – блондинка с прямым носиком и темно-карими глазами. Сразу видно: редкая красавица была в молодости; но и сейчас стройная, быстрая на ногу, с огневым взглядом.
– Дала она горя мужчинам! – смеясь, говорит другой инженер этого производства, Вера Доронина, тоже хороший работник и интересная женщина, – русская красавица с короной бледно-русой косы и русалочьими глазами, то зеленовато-голубыми, то почти черными.
Не мудрено влюбиться в таких! Я представляю себе Ирину Амитрову над вечными льдами Кавказского хребта, сияющего на солнце своими алмазными гранями. Какое близкое небо, какой головокружительный простор! Белоснежные облака проходят послушными караванами по глубочайшим ущельям, покорно ластятся под ногами, обходя горные пики, отсвечивающие всеми цветами радуги на утренней и вечерней заре. Женщина-химик, глубоко дыша, смотрит вдаль. Как прекрасна земля! А чистейший целебный воздух высокогорных альпийских лугов, убранных роскошным разнотравьем, а ощущение победы над высотой в каждой кровинке, в каждом мускуле, ноющем от усталости!
Я сама большой ходок и любитель лазить по кручам и хорошо понимаю, что манит в горы Ирину Амитрову. Но как представить себе ту радость, с какой она после кристально чистого воздуха нагорий вдыхает неистребимые запахи своего крепко-таки заземленного родного цеха. В чем секрет? Там она наслаждается красотами первозданной природы, здесь вся в работе предприятия, созданного ею и ее товарищами. Может быть, она чувствует себя в цехе творцом, наравне с природой? Пожалуй, ведь химики творят то, чего еще не знала природа. Не это ли влечет к химии, навсегда захватывая самых сильных, самых смелых и цепких.
В добрый час, подруги дорогие! Жаль только, что годы бегут слишком быстро. Вот уж чего нам всем не хватает – так это времени! Скучать некогда.
Завтра корпуса, в которых находится производство Ирины Амитровой, станут грандиозным красивейшим предприятием пластмасс. А Дорогомиловский химический получит путевку на новое место, подальше от жилья. И я верю, что Ирина еще успеет со своим внуком Митькой подняться если не на вершину Ценнера в Сванетии, манящего ее своими загадочными льдами, так, по крайней мере, на альпийские луга Кисловодска, единственного в мире курорта по лечебно-климатическим свойствам.
– Дома у нас проходной двор, и все молодежь, – смеясь говорит она. – Сестра у меня физик, один брат доктор биологических наук, другой геологом в Якутии работает… Мы встречаемся раза два в год и о делах не говорим. Все о детях, о семье. У меня сын палеонтолог, дочка и зять геологи – все бродяги, и друзья у них такие же. Вот спорила с ними нынче о выставке МОСХа. Один сказал мне, что я серая, ну и схватились. Он за новаторство, а я за красоту. Другие и за и против, еще не разобрались. Я согласна с критикой абстракционистов, только надо дать им тоже выступить с защитой своей мазни. Это сразу покажет их бредовость. Но это так, между прочим. А к заводу я, правда, прикипела душой. Могла бы уйти на исследовательскую работу, в институт; приглашений много. Предлагали и в совнархоз старшим инженером химического управления, но из цеха уйти не могу. Тут интересно. Можешь на свой риск и страх провернуть все, что тебя интересует, и это дает большое удовлетворение, хотя и обидно бывает, если не получается. Повезло и с коллективом, сроднилась с ним. Работаем все время вместе. В других цехах большие пополнения инженерами, а у меня свои кадры выросли, держатся крепко и дело свое знают блестяще. Вот ездили за границу… Нам наговорили, что там высокая культура производства и технологии. Я ехала с трепетом, а оказалось, что наша культура в этой области ничуть не ниже.
Хорошо отзываются об Амитровой и рабочие цеха, и дирекция завода. Любят ее и дома, хотя она жалуется полушутя, что молодежь уже повытеснила старых друзей. И когда она заболела нынче, то выхаживали ее подруги сына – девчонки-палеонтологи. Дочь с мужем тоже не хотят уходить от нее.
– Никак не могу их выселить, хотя у них хорошая жилплощадь у родителей зятя.
Легко представить, почему все так льнут к этой женщине. Вот я познакомилась с ней недели две назад, а все думаю и думаю о ней, хотя не могу снова собраться еще раз побывать из-за своей чертовской занятости. А думаю не потому, что Ирина Амитрова какое-то особое исключение из моих наблюдений. Нет, таких у нас сейчас много. Тем и сильна советская власть, что она вырастила преданных дочерей и сыновей, которые льнут к ней, как льнут к Амитровой ее дети.
Невероятно богата и разнообразна жизнь! Как только уместить все в душе и найти слова, чтобы рассказать об этом.
Вот бывший главный геолог крупнейшего Лениногорского нефтеуправления в Татарии Минодора Иванова, теперь лауреат Ленинской премии и работник министерства в Москве. Тоже умница и работяга, нежная мать и заботливая дочь. Она послужила мне прототипом геолога Дины Дроновой в моем романе «Дар земли». Сколько раз наблюдала я за нею в ее ответственнейшей работе на Лениногорских промыслах: во время совещаний, в поездках по скважинам и диспетчерским участкам. Пурга при сорокаградусном морозе, разливы весенних вод, жара и слякоть – ничто не помеха для производственников, работающих под открытым небом. Я видела и то, как Иванова плясала на банкете нефтяников – вся огненная прелесть. Я еще никогда не замечала, чтобы женщина была так мила, будучи навеселе. Доброму человеку все впору, все его красит.
Невозможно забыть женщин: главных архитекторов городов, секретарей горкомов, телятниц и доярок Рязани, Татарии, Куйбышевской и Московской областей, хирургов Казани и Москвы, ленинградских врачей – бывших фронтовичек, ткачих Глуховской мануфактуры и знаменитого города Иванова. Бери любую и только сумей написать, хотя бы так, как оно есть в жизни, и читатель не забудет, как не может забыть и твое собственное сердце, благодарное за человеческую красоту.
1964








