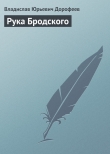Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
<…> Я слышу Музы лепет.
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят
<…>
Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.
(II; 422)
Ассоциации с дантевской «Божественной комедией» порождает строфическая форма стихотворения – трехстишия, хотя рифмовка «Пятой годовщины <…>» отличается от рифмовки трехстиший-терцин «Божественной комедии». Сходство судьбы автора с участью Данте устанавливается благодаря реминисценции из пушкинских «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы». «Музы лепету» и Парке Бродского соответствует «Парки бабье лепетанье» у Пушкина. Поздний Пушкин для Бродского – в частности, автор нескольких стихотворений, написанных в подражание Данте: аллегорического «В начале жизни школу помню я…» и изображающего мучения грешников «И дале мы пошли – и страх обнял меня» (оба стихотворения написаны терцинами); сближение «Данте – Пушкин» основывается и на пушкинских стихотворениях «Зорю бьют… Из рук моих…» («Зорю бьют… из рук моих / Ветхий Данте выпадает») (III; 142) и «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета»). Для Пушкина имя Данте – одно из самых близких имен. Данте – стихотворец, стоявший у истоков европейской поэзии нового времени. В сходной роли выступает Пушкин для последующей русской поэтической традиции – как ее основатель и автор образцовых текстов. Бродский не мог не уловить этого сходства.
Интертекстуальная цепь «Данте – Пушкин» – один из отличительных для Бродского случаев цитации, когда реминисценции из одного автора появляются в устойчивом сочетании с аллюзиями на тексты другого стихотворца [159]159
Еще один случай такого рода прослежен в главе «„Скрипи, мое перо…“: реминисценции из Пушкина и Ходасевича в поэзии Бродского».
[Закрыть].
Интертекстуальный ряд «Данте – Пушкин» устойчив у Бродского. Пример – не только реминисценции из «Божественной комедии» и из «Я вас любил…» («Я вас любил. Любовь еще (возможно, / что просто боль) сверлит мои мозги» [II; 339]) в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт», но и дантовский подтекст и почти буквальная цитата из пушкинского «…Вновь я посетил…» в стихотворении «1972 год» («Здравствуй, младое и незнакомое / племя!» [II; 290]). Еще один поэт, стихотворения и судьба которого вплетены в ткань единого подтекста стихотворений Бродского вместе с произведениями и судьбой Данте и Пушкина, – Анна Ахматова. Она явственно, подчеркнуто уподобляла себя великому флорентийцу:
Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
Муза и «Парки нитка» в «Пятой годовщине <…>» – несомненно, аллюзии не только на пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», но и на ахматовскую «Музу». Такая полигенетичность цитат у Бродского, отсылающих одновременно к нескольким произведениям разных авторов, не случайна. Творчество Анны Ахматовой глубоко, нерасторжимо связано с пушкинской поэзией. В частности, ахматовская «Муза» восходит к одноименному стихотворению Пушкина (1821). Совпадает ключевая деталь: семиствольная цевница Музы у Пушкина – дудочка в ахматовском стихотворении (замена поэтизма «цевница» «дудочкой» характерна для Ахматовой, во многом ориентировавшейся на простоту стиля).
Ахматова, как известно, видела в поэзии Бродского свидетельство, что «ниточка поэтической традиции не прервалась», и высоко ценила его произведения [161]161
Мандельштам Н.Вторая книга. М., 1990. С. 90.
[Закрыть]. Знакомство с Анной Ахматовой не только сыграло чрезвычайно большую роль в становлении Бродского-поэта, как он сам вспоминал [162]162
См., в частности: Бродский об Ахматовой. Диалоги с Соломоном Волковым. М., 1992; ср.: Волков С.Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 223–256.
[Закрыть], но и было осознано им как встреча с последним великим поэтом – хранителем традиции, прошедшим через муки более страшные, нежели дантовский ад. Изгнание Бродского, почти достигшего к этому времени возраста Данте – героя «Божественной комедии», проецируется им на судьбу великого флорентийца и включается в общий контекст с поэзией зрелого Пушкина (Пушкин стал автором «Сонета» и подражаний Данте, также перейдя тридцатилетний рубеж) и Анны Ахматовой. Изгнание предстает в поэзии Бродского переходом в иной мир, жизнью после смерти, ассоциируется с путешествием героя и автора «Божественной комедии» в потустороннюю реальность. События собственной жизни Бродский вплетает в ткань судьбы Данте и великих русских поэтов. Реминисценции из поэзии Данте, Пушкина, Анны Ахматовой образуют единый, целостный пласт в творчестве Бродского. Итак, казалось, «случайные» и даже полупародийные реминисценции из Пушкина и Данте в «Двадцати сонетах <…>» таят в себе глубокий смысл.
Бродский переиначивает лейтмотив «Божественной комедии»: встречу героя-автора с его хранительницей и «путеводительницей», с любимой им Беатриче. Лирический герой Бродского «встречает» в Люксембургском саду не оставленную на родине М. Б. и не Марию Стюарт, но статую шотландской королевы. Антитеза «статуя – человек» у Бродского восходит, по-видимому, к Пушкину – автору «Каменного гостя», «Медного Всадника» и других произведений [163]163
О семантике образа статуи в пушкинском творчестве см.: Якобсон Р.Работы по поэтике. М., 1987. С. 145–180.
[Закрыть]. В поэзии Бродского этот мотив приобретает новый смысл: не «статуя», некая внешняя сила разрушает счастье лирического героя; сама его возлюбленная как бы превращается в бездушный камень.
Реминисценции у Бродского – лишь вершина айсберга, подтекста его стихотворений. Они образуют нить, ведущую от одного цитируемого произведения к другим, прямо в стихотворениях Бродского не отразившимся. Цитата у автора «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» и «1972 года» – сигнал интертекстуальной природы стихотворения, свидетельство, что в нем скрыты переклички с различными произведениями.
Наряду с дантевским, пушкинским и ахматовским подтекстами в поэзии Бродского прослеживаются многочисленные отсылки к стихотворениям Осипа Мандельштама, также являющиеся ключами к семантике текстов автора «Части речи» и «Урании». При этом мандельштамовский, дантевский и пушкинский пласты в поэзии Бродского тесно сплетены между собою [164]164
Об интертекстуальных связях между «Медным Всадником» Пушкина, «Петербургскими строфами» Мандельштама и поэзией Бродского рассказывается в главе «„Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…“: поэзия Бродского и „Медный Всадник“ Пушкина».
[Закрыть].
Соединение реминисценций и биографий двух разных поэтов у Бродского воссоздает исконную внутреннюю связь их творчества. Так сплетает он темы Данте и Мандельштама. Стихотворение «Декабрь во Флоренции» (1976) посвящено памяти великого флорентийца, изгнанного из родного города. Но строки «и щегол разливается в центре проволочной Равенны» (II; 384), изображающие птицу в клетке, напоминают не только о Данте, окончившем жизнь в Равенне [165]165
Собственно, это поэтическое высказывание Бродского в строгом смысле слова может быть названо реминисценцией только из Мандельштама: у Данте нет образа щегла в соединении с мотивом «заточения» в принявшей поэта-изгнанника Равенне. «Цитируется» здесь не текст Данте, а его биография; это пример «реминисценции»-аллюзии, отсылающей к событиям реальной жизни.
[Закрыть], но и об авторе «Разговора о Данте» – Мандельштаме, бесприютном скитальце, сравнившем себя со щеглом в стихотворениях «Мой щегол, я голову закину…» [166]166
Щегленком Мандельштам также называет Андрея Белого в поминальном стихотворении «Голубые глаза и горячая лобная кость…», а Воронеж, в который сам был сослан и уроженцем которого был Кольцов, – «родиной щегла» (Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 233, 256).
[Закрыть]и «Когда щегол в воздушной сдобе…» [167]167
Вариация мандельштамовских стихотворений о щегле – стихи Бродского «Свистеть щеглом и честно жить, / а также лезть в ярмо, / потом и то и то сложить / и получить дерьмо» («Шествие», 1961 [I; 118]).
[Закрыть]. Эпиграфом к своему тексту Бродский выбирает строку «этот, уходя, не оглянулся» из стихотворения Анны Ахматовой «Данте», в равной мере посвященного и создателю «Божественной комедии», и Мандельштаму. Как заметил американский литературовед Дэвид Бетеа, «изгнание Данте соединено с мандельштамовским, которое, в свою очередь, соединено с изгнанием самого Бродского. <…> Уникальность трактовки Бродского в том, что она предполагает не двойное, а тройное видение: читатель должен знать как о Данте, так и о Мандельштаме, и об отношениях Ахматовой к обоим Иосифам (к Иосифу Бродскому и к Осипу Мандельштаму, близким знакомым Анны Ахматовой. – А.Р.). Щегол в клетке – это Данте <…>. С другой стороны, проволока, огораживающая место для пойманной птицы, может легко в русском контексте быть понята как „колючая“: это указание и на „колючий“ зимний день в стихотворении Мандельштама, и на действительное ограждение последнего места, где жил Мандельштам (на концентрационный лагерь. – А.Р.) [168]168
Bethea D.Joseph Brodsky and the Creation of Exile. P. 70. Об уподоблении поэтом собственной судьбы участи Данте и Мандельштама в стихотворении «Декабрь во Флоренции» см. также: Kline G. L.Variations on the Theme of Exile // Brodsky’s Poetics and Aesthetics. P. 70–73.
[Закрыть].
Дантовский и мандельштамовский пласты соединились также и в стихотворении „Пятая годовщина <…>“. Строки, посвященные оставленной родине – Советскому Союзу: „Уйдя из точки „А““, там поезд на равнине / стремится в точку „Б“. Которой нет в помине» (II; 419), – реминисценция из стихотворения Мандельштама «Нет, не спрятаться мне от великой муры», проникнутого ощущением наступившей и наступающей в его родной стране всеобщей гибели: «Мы с тобою поедем на „А“ и на „Б“ / Посмотреть, кто скорее умрет…».
Бродский привержен комбинированным цитатам в их обеих разновидностях [169]169
Случай Бродского как будто бы подтверждает суждение И. П. Смирнова, что каждому стихотворению должны предшествовать как минимум два претекста ( Смирнов И. П.Порождение интертекста: Опыт интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака. Wien, 1985 (Wiener Slawistischer Almanach. Sondetfeand 17). Однако доказать обязательность этого правила для литературы вообще (как полагает И. П. Смирнов) все-таки невозможно: из частных случаев не выводится правило.
[Закрыть]. С одной стороны, он сцепляет вместе в своих произведениях генетически не связанные между собой фрагменты из разных претекстов, создает гиперцитаты, как, например, строку о бредущем дожде в «Памяти Геннадия Шмакова», отсылающую одновременно к стихам Маяковского и Анны Ахматовой. С другой стороны, он также цитирует поэтические высказывания, которые уже были прежде процитированы другими авторами. При этом в стихотворениях Бродского выстраивается цепочка: «претекст – цитация 1 – цитация 2 – …цитация N – итоговый текст, сохраняющий все смыслы, которыми обрастает, обволакивается, в которые оказывается „укутана“, как в кокон, реминисценция». Замечательный пример – судьба строк «И уста, в которых тает / Пурпуровый виноград» [170]170
Батюшков К. Н.Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 229.
[Закрыть]из «Вакханки» К. Н. Батюшкова. Батюшковское описание вакханки не предметно, доминируют эмоциональные, ценностные и метафорические оттенки слов. «Огонь и яд страсти – это лейтмотив стихотворения, его эмоциональный фон и сущность его. Поэтому хмель, венец, пылающий, яркий, багрец, пурпуровый и т. д. – слова-ноты определенной мелодии, слова, крепко связанные с ассоциацией не предметной, а душевной, психологической тональности. <…> И попробуйте <…> реализовать стихи: „И уста, в которых тает Пурпуровый виноград…“ Ведь не ест же она на бегу виноград! И ведь не похожи же ее губы на виноград (это было бы ужасно). А может быть, и то, и другое, и некие отсветы изображений вакханок с гроздью винограда в руках, и яркие губы. У Парни, из стихов которого <…> Батюшков заимствовал мотивы этого стихотворения, все проще и рациональнее <…>. А стихи Батюшкова – превосходные. <…> Но реализовать предметно его образы не нужно. Виноград, пурпур, тает – это у Батюшкова не предмет, цвет и действие, а мысли и чувства, привычно сопряженные и с этим предметом, цветом и действием, и именно со словами, обозначающими их. Ведь пурпур– это не то что просто ярко-красный цвет <…>. Но пурпур – это цвет роскошных одежд условной древности, цвет ярких наслаждений и расцвета жизненных сил, цвет торжества, цвет царственных одежд» – так писал о строках «Вакханки» Г. А. Гуковский [171]171
Гуковский Г. А.Пушкин и русские романтики. [Изд. 3-е]. М., 1995. С. 85.
[Закрыть].
У Бродского батюшковский образ пляшущей вакханки переиначен, «перелицован» так:
Пылай, полыхай, греши,
захлебывайся собой.
Как менада пляши
с закушенною губой.
(«Горение», 1981 [III; 30])
Условный поэтический образ батюшковской вакханки материализован: «закушенная губа» соответствует виноградным пурпуровым губамкак овеществление метафорического оборота. Закушеннаяот страсти губа – окровавленная (аллюзия на фразеологический оборот «закусить до крови губы»). Также поэтизму «уста» соответствует у Бродского прозаически-обыденное «губа».
Но сходные метаморфозы виноградные пурпуровые устапретерпели еще раньше в стихах Мандельштама. В строках «И маленький вишневый рот / Сухого просит винограда» из стихотворения «Мне жалко, что теперь зима…» [172]172
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 157.
[Закрыть]поэтические коннотации батюшковского образа сужены, сведены к одному цвету губ. Предвещающий строки Бродского искусанный рот —выражение из другого стихотворения Мандельштама: «Искусанный в смятеньи / Вишневый нежный рот» («Я наравне с другими…») [173]173
Там же. С. 160.
[Закрыть].
Так, в «Горении» Бродский процитировал Мандельштама, который дважды процитировал Батюшкова.
Соединение в одном знаке-цитате аллюзий на два и более претекста – прием цитации, очень частый у Бродского. При этом «второй» план цитаты порой скрыт от читателя. Так, в стихотворении «Друг, тяготея к скрытым формам лести…» (1970) строки «Я снова убедился, что природа / верна себе, и, обалдев от гуда, / я бросил Север и бежал на Юг / в зеленое, родное время года» (II; 227–228) представляют собой вариацию мотивов бегства на Юг, к «земли полуденной волшебным краям» из элегии Пушкина «Погасло дневное светило…» (II; 7). Но между стихотворениями Пушкина и Бродского – текст-посредник: мандельштамовское «С миром державным я был лишь младенчески связан…», в котором есть такие строки: «Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных / Я убежал к нереидам на Черное море» [174]174
Там же. С. 199.
В 1991 г. Бродский посвятил этому стихотворению доклад, прочитанный на Мандельштамовской конференции в Лондоне: Бродский И.«С миром державным…» // Бродский И.Письмо Горацию. М., 1998. С. CXI–CXVII. О процитированных строках здесь сказано так: они «тот самый лирический и дидактический взрыв. „Чуя грядущие казни…“ – это уже дикция, в новом социуме неприемлемая, выдающая автора с головой, а также – полное им забвение существующей опасности <…>. До известной степени это, конечно, еще ответ на вопрос: „Где вы были в 1917 году?“, но ответ действительно младенческий, безответственный, сознательно фривольный, произнесенный почти гимназистом <…> На самом деле это признание и есть то, ради чего и написано все стихотворение» (Там же. С. CXI-СXII).
[Закрыть]. При параллельном прочтении вместе со стихотворением Мандельштама слово «гуд» обретает весомый и мрачный политический смысл, переставая восприниматься только как обозначение суеты, шума цивилизации, города.
Пристрастие к комбинированным цитатам , отличающее Бродского, проявляется и в построении своеобразных гипертекстов сплетении цитат из разных произведений одного автора, рождающее представление о том, что эти реминисценции восходят к одному источнику, к одному инвариантному тексту. Пример – строки «То ли тот, кто здесь бродит с сумою, / ищет ос, а находит стрекоз / даже осенью, даже зимою» («Полевая эклога», 1963 (?) [I; 296]). Герой Бродского, отождествленный с персонажем пушкинского «Странника» ( бродящий с сумою), ищет ос,которые, вероятно, символизируют время, преемственность времен. Стрекозы,противопоставленные осам,приобретают в этом контексте пейоративные коннотации. Такая поэтическая семантика этих лексем присуща поэзии Мандельштама. Ключевой текст Мандельштама, посвященный осам, – «Вооруженный зреньем узких ос…». «В нем осы приобрели метафорическое значение. <…> Не следует принижать значение стихотворения „Вооруженный зреньем…“ и истолковывать его исключительно как отражение определенного политического момента. Значение образа ос в этом стихотворении гораздо шире: могучие, хитрые осы – это сильные сего мира вообще. Эти осы сосут не тяжелую розу, а саму земную ось, на которой держится и вокруг которой вертится наш мир. Поэт не отождествляет себя с хищными осами, он только завидует им, хотя и научился смотреть их глазами. Стихотворение говорит о большом жизненном опыте поэта, о его ощущении всех явлений, которым он был свидетелем. И все же – поэт только мечтает о том, чтобы понять и осмыслить суть явлений: чтобы услышать „ось земную, ось земную“ – так интерпретирует стихотворение К. Ф. Тарановский [175]175
Тарановский К.О поэзии и поэтике. С. 151–153; ср.: Taranovsky К.Essays on Mandelstam. P. 113–114.
[Закрыть]. Ассоциации между осамии временем значимы и для Бродского: они прояснены в стихотворении „1972 год“ (1972): „Жужжащее, как насекомое, / время нашло наконец искомое / лакомство в твердом моем затылке“ (II; 290) [176]176
Это пример достаточно частого у Бродского случая, когда одни поэтические тексты являются автокомментарием к другим. В этом его поэзия удивительно похожа на мандельштамовскую (эта черта поэзии Мандельштама была прослежена К. Ф. Тарановским).
Унаследован Бродским и другой мандельштамовский образ, связанный с временем и преемственностью эпох, – метафора времени – позвоночника («Век» Мандельштама). У автора «Части речи» и «Урании» это высказывание «позвоночник чтит вечность» («Стихи о зимней кампании 1980 года», 1980 [III; 11]).
[Закрыть]. Стрекозы же у Мандельштама ассоциируются со смертью и небытием, они пугающи: „Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши, / Налетели на мертвого жирные карандаши“ („Голубые глаза и горячая лобная кость…“); „О боже, как жирны и синеглазы / Стрекозы смерти, как лазурь черна…“ („Меня преследуют две-три случайных фразы…“) [177]177
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 224. Первый из этих текстов – поэтическая эпитафия Андрею Белому.
Другие примеры из произведений Мандельштама, упоминающих стрекоз, и соображения о генезисе этого образа см. в кн.: Амелин Г. Г., Мордерер В. Я.Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. С. 23–25.
[Закрыть].
Мандельштамовский подтекст „Полевой эклоги“ высветлен еще одной цитатой. Строки „Только срубы колодцев торчат, / как дома на татарских могилах“ (I; 296) – вариация „переписанных“ Бродским строк „Обещаю построить такие дремучие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье“ из стихотворения Мандельштама „Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…“, также посвященного времени и стремлению найти в нем свое место и собственную, пусть и чреватую гибелью, роль [178]178
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 203. Эти же строки слабо отозвались в стихах Бродского «Узнаю этот ветер, падающий на траву, / под него ложащуюся, точно под татарву. / Узнаю этот лист, в придорожную грязь / падающий, как обагренный князь» (II; 399) из цикла «Часть речи» (1975–1976). К интерпретации стихотворения Мандельштама см.: Гаспаров М. Л.Поэт и культура: Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 44.
[Закрыть].
Между тем срубы колодцев, осыи стрекозыне встречаются вместе ни в одном поэтическом тексте Мандельштама; они соседствуют только в „гипертексте“, выстроенном Бродским.
Одновременно стрекозы, не умирающие зимой, напоминают по контрасту о стрекозах, умирающих к зиме,из ахматовского „После ветра и мороза было…“:
Признак „гипертекста“ присущ и „центонным“ стихотворениям Бродского, реализующим установку на воссоздание некоего условного классического образа поэзии. Таково стихотворение „Одной поэтессе“ (1965), в котором декларирована, хотя и не без иронии, преемственность по отношению к классике: „Я заражен нормальным классицизмом“; „Я эпигон и попугай“ (I; 431). В строках „Сапожник строит сапоги. Пирожник / сооружает крендель. Чернокнижник / листает толстый фолиант. А грешник / усугубляет, что ни день, грехи. / Влекут дельфины по волнам треножник, / и Аполлон обозревает ближних – / <…> / Шумят леса, и глухи небеса“ (I; 432) – рассеяны аллюзии на пушкинскую притчу „Сапожник“ („Суди, дружок, не свыше сапога!“), на крыловскую басню „Щука и кот“ (из нее взялись и сапожник,и пирожник),на „Незнакомку“ Блока (оттуда крендель булочный),на „Фауста“ Гете и „Сцену из Фауста“ Пушкина (оттуда пришел чернокнижник),на пушкинских „Ариона“ ( дельфиныпервоначально обитали там), „Поэту“ (из него позаимствован треножник),„Поэта“ (леса– „широкошумные дубровы“) и „Не дай мне Бог сойти с ума…“ (леса /леси глухие / пустые небеса).
Другой случай использования центонного приема – строки стихотворения „На 22-е декабря 1970 года Якову Гордину от Иосифа Бродского“ (1970): „Другой мечтает жить в глуши, / бродить в полях и все такое“ (II; 220), – в которых склеено не меньше трех цитат из пушкинских произведений: „Ты гений свой воспитывал в тиши“ („19 октября“ 1825 г. [II; 246]), „В глуши, во мраке заточенья“ („Я помню чудное мгновенье…“ [II; 238]), „Цветы, любовь, деревня, праздность, / Поля! я предан вам душой“ („Евгений Онегин“, гл. I, строфа LVI [V; 28]). Кроме того, это автоцитата из стихотворения „Ничем, Певец, твой юбилей…“, написанного осенью 1970 года: „Представь, имение в глуши“ (II; 216).
Совершенно особый случай, проявление „поэтики самоотрицания“ – цитата, в которой „план выражения“ вступает в конфликт с „планом содержания“. Таковы строки „Ни ты, читатель, ни ультрамарин / за шторой, ни коричневая мебель, / ни сдача с лучшей пачки балерин [180]180
Пример игры слов: «пачка денег – пачка-балетное платье». – А.Р.
[Закрыть], / ни лампы хищно вывернутый стебель / как уголь, шахтой данный на-гора, / и железнодорожное крушенье / – к тому, что у меня из-под пера / стремится, не имеет отношенья“ („Посвящение“, 1987 (?) [III; 148]). Повторяется неизменный и вполне серьезный для Бродского мотив „безадресности“ поэтического слова, и перечень примеров призван разъяснить это утверждение. Но если читатель и голубое небо [181]181
Впрочем, не реминисценция ли это из ахматовскою четверостишия «О, есть неповторимые слова…», завершающегося строками: «Неистощима только синева / Небесная и милосердье Бога» (Ахматова Анна.Стихотворения и поэмы. С. 129).
[Закрыть]за шторой действительно не являются предметами поэтических описаний у автора „Примечаний папоротника“ и „Пейзажа с наводнением“, то мебель как раз упоминается в его стихотворениях очень часто. А лампа, угольи крушение поезда– не реалии внешнего мира (в таковом качестве они и вправду никак не связаны со стихотворством), а цитаты из стихотворений трех русских поэтов. Лампы-луны на изогнутых тонких стеблях —причудливый образ из урбанистических „Сумерек“ В. Я. Брюсова („Горят электричеством луны / На выгнутых тонких стеблях“ [182]182
Брюсов В. Я.Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 220.
[Закрыть]); уголь– аллюзия на пастернаковское „Нас мало. Нас, может быть, трое / Донецких, горючих и адских“ [183]183
Пастернак Б.Стихотворения и поэмы. С. 179.
[Закрыть]; железнодорожное крушенье —парафраз ахматовских строк „А я иду – за мной беда, / Не прямо и не косо, / А в никуда и в никогда, / Как поезда с откоса“ („Один идет прямым путем…“ [184]184
Ахматова Анна.Стихотворения и поэмы. С. 244.
[Закрыть]). Лампа, угольи железнодорожное крушеньеоказываются на самом деле не вещами, посторонними поэзии, а ее неотторжимыми приметами, ее тайными именами.
Впрочем, возможно и другое понимание этих трех „отрицаний“: Бродский утверждает непричастность своей поэзии трем художественным системам Серебряного века – символизму (который олицетворяет Брюсов), футуризму (к которому принадлежал ранний Пастернак) [185]185
Похожий образ, уподобление творчества добыче полезных ископаемых (руды), встречается у самого известного и «громкого» из русских футуристов – Владимира Маяковского в «Разговоре с фининспектором о поэзии»: «Поэзия – / та же добыча радия. // В грамм добыча, / в год труды, // Изводишь / единого слова ради / тысячи тонн словесной руды»; «Пуд, / как говорится, / сопи столовой // съешь / и сотней папирос клуби, // чтобы / добыть / драгоценное слово // из артезианских / людских глубин» (Маяковский В. В.Сочинения. Т. 1. С. 360, 361). Строительство города – «угольного гиганта» – тема «Рассказа Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» Маяковского.
[Закрыть]и акмеизму (представленному лирикой Анны Ахматовой [186]186
Совершенно иное толкование этих строк предложил С. Н. Зотов: «<…> „лампы… стебель“ символизирует свет разума, взыскивающего истины, „хищно вывернутый“ – изощренность современного сознания, „как уголь, данный шахтой на-гора“ – по-видимому, свидетельство предельной глубинности разумной деятельности, выход сознания из „подполья“, разработка всех уровней культурно-психической деятельности; наконец, „железнодорожное крушение“ – примета социальных катаклизмов, символ общественного неблагополучия, предельное выражение катастрофичности состояния мира. Все перечисленное выше представляет собою тематизацию Времени,существования („экзистенции“), посредством которого обнаруживается Бытие» ( Зотов С.Литературная позиция Иосифа Бродского: К постановке проблемы // Иосиф Бродский и мир. С. 119).
Мне такое прочтение представляется сомнительным и чужеродным тексту. И не только потому, что не замечены аллюзии: в этой интерпретации поэзия Бродского выглядит «слишком» похожей на философскую аллегорию.
[Закрыть]).
Цитаты в узком смысле слова у Бродского можно весьма условно разделить на два вида в соответствии с их функциями в тексте. Часто встречаются цитаты „проходные“, как бы случайные. Такова, по-видимому, реминисценция из блоковского „О доблестях, о подвигах, о славе…“ (у Блока: „Ты в синий плащ печально завернулась“ – у Бродского в „Двадцати сонетах <…>“ сниженно-прозаическое и едва ли не пародическое: „Она ушла куда-то в макинтоше“ [II; 338]). Именно иронические реминисценции обычно точны: „спустить бы с лестницы их всех, задернуть шторы, снять рубашку, / достать перо и промокашку, / расположиться без помех // и так начать без суеты, / не дожидаясь вдохновенья: / я помню чудное мгновенье, / передо мной явилась ты“» («Ничем, Певец, твой юбилей…» [II; 218]).
Неиронические точные цитаты у Бродского значимы как указание на претекст, на «присвоение» «чужого слова». Примеры такого рода: стих «На пустырях уже пылали елки» («На смерть Т. С. Элиота», 1965 [I; 411]) – повторение начальных строк «Сусальным золотом горят / В лесах рождественские елки» из неозаглавленного стихотворения Мандельштама [187]187
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 89.
[Закрыть](исходный мотив «искусственности» мира, природы Бродский отбрасывает); стихи из этого же текста Бродского «Уже не Бог, а только Время, Время / зовет его. И молодое племя / огромных волн его движенья бремя / на самый край цветущей бахромы / легко возносит и, простившись, бьется / о край земли, в избытке сил смеется» – реминисценция из пушкинского «…Вновь я посетил…» (племя младое); строка «Когда ты вспомнишь обо мне» («Пенье без музыки», 1970 [II; 232]) – «переписанное» пушкинское «И обо мне вспомянет» («…Вновь я посетил…» [III; 314]), у Пушкина сказано о внуке лирического героя, у Бродского – о возлюбленной, с которой лирический герой расстался; «спой мне песню о том, как шумит портьера» («Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной…», 1978 [II; 444]) – вариация строк «Спой мне песню, как синица / Тихо за морем жила» из пушкинского «Зимнего вечера» (II; 258).
Эти реминисценции не включают произведения – источники цитат в смысловое поле произведений Бродского. То же самое может происходить и в случае, когда цитируемый фрагмент точно воспроизводится и сохраняет в новом контексте исходную семантику. Пример – реминисценция из «Доктрины» Гейне в «1972 годе»: «Бей в барабан <…>/ Бей в барабан, пока держишь палочки» (II; 293). Цитата просто сигнализирует о своей вторичности. Многие цитируемые Бродским стихотворения других поэтов не образуют подтекст его собственных сочинений. Они не более чем «чужое слово», сигнализирующее о вхождении творчества Бродского в мировую традицию. По своей функции такие цитаты мало чем отличаются от часто цитируемых Бродским пословиц и поговорок – они обезличены. Они стали всеобщим достоянием, частью русского словаря, оторвались от исходного контекста. Такого рода цитаты реализуют, выражают характерное для Бродского представление о языке как стоящем над поэтом, автономном творящем начале. Особая разновидность цитат такою рода – реминисценции, приобретающие в новом контексте семантику, не имеющую почти ничего общего с исходной. Таковы аллюзии на басню Крылова «Ворона и лисица» в стихотворениях «Воронья песня» (1964) и «Послесловие к басне» (1993), построенных на идентификациях «лирический герой – ворона» и «любимая им женщина – лисица». Соотнесенность с крыловской басней здесь значима прежде всего для придания лирической ситуации повторяемости и некоего обобщенного смысла – иными словами, притчевости [188]188
Встречаются у Бродского и переклички с текстами малоизвестными. Так, в «1972 годе» это образный ряд «птица – форточка – девица – кофточка», вероятно, восходящий к стих. Чурилина «Один».
[Закрыть].
Но очень часто цитаты «подключают» к смысловому пространству стихотворений Бродского энергию текстов-источников. Выстраиваются длинные анфилады цитат, мотивы и образы из «чужих» текстов оказываются ключом к пониманию произведений Бродского. Именно таковы случаи реминисценций из «Божественной комедии» Данте, из «Медного Всадника» Пушкина, из стихотворений Мандельштама и Анны Ахматовой. Такие цитаты у Бродского, как правило, повторяющиеся; часто без их узнавания в тексте его семантика будет не просто обеднена: текст (или его фрагмент) не будет понят вообще. Пример – приведенная аллюзия на Данте и Мандельштама в «Декабре во Флоренции»; если не заметить цитатной природы этого фрагмента, метафорическое сближение «клетка – Равенна» покажется необъяснимым поэтическим произволом.
Поэтика этих цитат напоминает «механизм» цитации у акмеистов – прежде всего у столь ценимых и дорогих для Бродского Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама. У акмеистов также обнаруживаются целые ряды-«плетенки» реминисценций, их произведения существуют в смысловом поле поэтической традиции. Как заметил В. Н. Топоров, у акмеистов «образ апеллирует (часто) не к какому-либо конкретному месту текста-источника, а <…> к тому, что можно было бы назвать „сборной цитатой“ (т. е. к некоторой совокупности примеров из данного поэта (или нескольких поэтов), объединенных наличием общей темы)…» [189]189
Топоров В. Н.Две главы из истории русской поэзии начала века: I. В. А. Комаровский; II. В. К. Шилейко (К соотношению поэтики символизма и акмеизма) // Russian Literature. 1979. Vol. VIII. N 3. P. 292.
[Закрыть]. Для Мандельштама, как и для Бродского, в высшей мере характерны цитирование собственных стихотворений, автоцитация [190]190
Ср. наблюдения К. Ф. Тарановского над произведениями Мандельштама: Taranovsky К.Essays on Mandel’stam. P. 18–19; ср.: Тарановский К.О поэзии и поэтике. С. 32–33.
Ср. в связи с темой «Бродский и Мандельштам» замечание С. Ю. Кузнецова: «Попадая в стихи Бродского, образы Мандельштама становятся там „своими“, зачастую теряя связь с первоисточником» ( Кузнецов С. Ю.Осип Мандельштам и Иосиф Бродский. Мотивы пустоты и молчания // Осип Мандельштам: Поэтика и текстология. М., 1991. С. 33). Впрочем, присвоение «чужого текста» происходит у Бродского, конечно, не только в случае с Мандельштамом.
[Закрыть]. Сходство установки естественно – для Бродского, как и для акмеистов, несомненна включенность собственной лирики в поэтическую традицию. Бродский выступает в роли «последнего поэта», «посла поэтической державы», наследующего трагическую участь прежних стихотворцев: «Потому что искусство поэзии требует слов, / я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов / второсортной державы, связавшейся с этой…»; «Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора / да зеленого лавра» («Конец прекрасной эпохи», 1969 [II; 161–162]).
Однако есть и принципиальная разница – в поэзии Бродского, в отличие от поэзии акмеистов, мы не встретим личностного диалога, разговора с другими поэтами. Нет прямых обращений, интимно-доверительного отношения к ним, как у Мандельштама; посвящения Бродского адресованы лишь умершим стихотворцам. Преемственность поэзии сохранилась, но личные связи оборваны безжалостной и непоэтической эпохой.
Описание этого парадокса – механизма цитаты у Бродского – стихи самого поэта:
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.
(«Похороны Бобо», 1972 [II; 309])
Современный поэт – «новый Дант», и пишет он поверх текстов, созданных стихотворцами прежних лет. Но, дописывая их творения, вставляет слова на пустые места – не искажая чужих стихов и не смешивая с ними свои собственные.