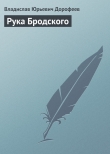Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.
В двояком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.
(С. 303–304)
В стихотворении Бродского парение в поднебесье изображается не как свободный полет, дарующий бессмертие, но как выталкивание птицы воздухом в небо, – выталкивание, приводящее к гибели:
<…> Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть помесь гнева
с ужасом. Он опять
низвергается. Но как стенка – мяч,
как паденье грешника снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород <…>
(II; 378)
Оба поэта упоминают об оперенье птиц. В обоих стихотворениях земля внизу увидена взглядом высоко взмывшей в небо птицы. У Державина:
Лечу, парю – и под собою
Моря, леса, мир вижу весь;
Как холм, он высится главою,
Чтобы услышать богу песнь.
(С. 304)
У Бродского:
<…> Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из
труб поднимается дым. Но как раз число
труб показывает одинокой
птице, как поднялась она.
(II; 378)
Державинскому небесному, гармоническому пениюлебедя:
Но, будто некая цевница,
С небес раздамся в голосах —
(С. 304)
противопоставлен у Бродского механический предсмертный крикястреба:
И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий:
механический, ибо не
предназначенный ни для чьих ушей.
<…>
…Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
(II; 379)
Строки горациевско-державинских стихов о бессмертии и славе поэта претерпели под пером Бродского разительную метаморфозу, стали описанием гибели птицы (и стихотворца) в лишенном воздуха космосе.
Неоднократно в стихотворениях Бродского встречаются отдельные реминисценции и образы из державинских текстов. Таков травестийный образ Борея-пахаря:
И видит каждый ворон,
как сам Борей впрягся в хрустальный плуг,
вослед норд-ост влечет упряжку борон.
(«Пришла зима, и все, кто мог лететь…» [I; 407])
Эти строки напоминают о шутливом изображении Борея – седого старика, сковывающего цепями воды,в стихотворении «На рождение в Севере порфирородного отрока» и Борея – богатыря, спущенного с чугунных цепей,в «Осени во время осады Очакова» Державина. Борей-пахарьБродского напоминает также Осень-крестьянкув «Осени во время осады Очакова». Норд-осту Бродского отсылает к еще одному стихотворению Державина, написанному на воцарение Александра I, – «Умолк рев норда сиповатый…».
В стихотворении Бродского «Время года – зима. На границах спокойствие. Сны…» необычно переосмыслен державинский образ рыбы, лежащей на столе(«шекснинска стерлядь золотая» из «Приглашения к обеду» – с. 223; «с голубым пером / <…> щука пестрая» из «Евгению. Жизнь Званская» – с. 329), соединенный с образом «похоронного» столаиз державинского стихотворения «На смерть князя Мещерского» («Где стол был яств, там гроб стоит» – с. 86). У Державина рыба, лежащая на столе, описывается с любованием, она воплощает великолепие жизни, довольство, пиршественную радость. В поэзии Бродского рыба – манифестация лирического «Я», а также символ Христа. Столв стихотворении «Время года – зима. На границах спокойствие. Сны…» оказывается «похоронным»,а не пиршественным [337]337
Столв этом стихотворении соотнесен не только с державинским столомиз стихотворения «На смерть князя Мещерского», но и с « похоронным», погребальным столомв поэзии Марины Цветаевой. Сталв одноименном цветаевском цикле – символ и творчества, и смерти: «Мой письменный верный стол!»; «Вас положат – на обеденный, / А меня – на письменный» ( Цветаева М.Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 312, 318). Зубчатая пастьи крюк,возможно, навеяны цветаевским сравнением, относящимся к столу:«Испытанный – как пила / В грудь въевшийся – край стола!» (Там же. С. 313). Зазубриныи зубецу Цветаевой ассоциируются со смертью также в «Поэме горы»: «Персефона, зерном загубленная! / Губ упорствующий багрец, / И ресницы твои – зазубринами, / И звезды золотой зубец» (Там же. С. 368).
«Спрятанная» отсылка к этим же строкам Цветаевой – лексема «зерно» – содержится в стихотворении Бродского «В горах»: «В этом мире страшных форм / наше дело – сторона. / Мы для них – подножный корм, / многоточье, два зерна» (III; 86). Тексты Бродского и Цветаевой сближают также и заглавие, и сходные персонажи, «Я» и «Ты». Впрочем, цветаевская религиозная символика и мотив «завета» любви (см. об этом: Венцлова Т. Поэма горыи Поэма концаМарины Цветаевой как Ветхий Завет и Новый Завет // Венцлова Т.Собеседники на пиру: Статьи о русской литературе. Vilnius, 1997. С. 212–225) Бродским отсечены; их вытеснил инвариантный мотив не-бытия, не-существования.
Образ рыбы на крюкесоотнесен также со стихотворением Н. А. Заболоцкого «Рыбная лавка»: «Тут тело розовой севрюги, / Прекраснейшей из всех севрюг, / Висело, вытянувши руки, / Хвостом прицеплено на крюк» ( Заболоцкий Н. А.Стихотворения. Поэмы. С. 42). У Заболоцкого восходящий к Державину мотив «великолепия яств» соединен с трагическим мотивом убиения живых существ человеком.
[Закрыть], и лежать на нем лирическому герою, уподобленному рыбе:
Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе,
то не все ли равно ошибиться крюком или морем.
(II; 62)
Вариацией державинского описания лунного света, проникающего в комнату и играющего на паркете («Видение мурзы»), является аналогичное описание солнечных лучей, освещающих паркет, в стихотворении Бродского «Полдень в комнате» [338]338
На темно-голубом эфиреЗлатая плавала луна;В серебряной своей порфиреБлистаючи с высот, онаСквозь окна дом мой освещалаИ палевым своим лучомЗлатые стекла рисовалаНа лаковом полу моем.(«Видение мурзы» – с. 109)Солнце, войдя в зенит,луч кладет на паркет, себя этим деревенит.(«Полдень в комнате» – I; 447)
[Закрыть]. Оба фрагмента объединяет их композиционная роль: они открывают тексты. Но если Державин изображает великолепную картину,пленяющую своей живописностью, то Бродский описывает омертвениесвета, превращение солнечных лучей в дерево. Инвариантная державинская тема – великолепие бытия – преломляется в инвариантную тему Бродского – мертвенность вещественного мира.
Как заметил Дэвид Бетеа, Бродский осмысляет себя как «последнего поэта», поэта «железного века», Державин же занимает в истории русской словесности зеркально симметричное место – предшественника великих поэтов [339]339
Bethea D.Joseph Brodsky and the Creation of Exile. P. 77–78.
[Закрыть]. Обращение к творчеству Кантемира и Державина, по-видимому, осознается Бродским как своеобразное преодоление необратимого потока времени. Бродский усваивает строки и образы Державина через посредство поэзии Осипа Мандельштама. Поэзия Мандельштама чрезвычайно важна для Бродского. В эссе «The child of civilization» Бродский характеризует мандельштамовскую «тоску по мировой культуре» теми же словами, которыми в «Нобелевской лекции» он выразил культурные устремления собственного поколения [340]340
Brodsky J.Less than One: Selected Essays. [Б. м.] «Viking», 1986. P. 130–131; ср.: «Сын цивилизации» ([V (2); 96–97], пер. Д. Чекалова).
О Бродском и Мандельштаме см.: Knox J.Iosif Brodskij’s Affinity with Osip Mandel’stam. Cultural Links with the Past. Dissertation <…> for the Degree of Doctor of Philology. The University of Texas at Austin. August 1978; Burnett L.The Complicity of the Real: Affinities in Poetics of Brodsky and Mandelstam // Brodsky’s Poetics and Aesthetics. P. 12–33.
[Закрыть]. Но в отличие от акмеистов вне пределов поэтических текстов автора «Части речи» и «Урании» как бы ничего не существует, есть лишь пустота. Личностного диалога с поэтами прошлого у Бродского, как правило, нет, их сочинения представлены как внеличное достояние, допускающее кардинальные трансформации, переосмысления.
Бродский и Пушкин
Творчество Иосифа Бродского и Пушкина уже не раз сопоставлялось в многочисленных литературно-критических статьях и исследованиях [341]341
См.: Д. С. [В. Сайтанов].Пушкин и Бродский // Поэтика Бродского: Сб. статей / Под ред. Л. В. Лосева. N. Y., Tenafly, 1986. С. 207, 211,217; Полухина В.Бродский глазами современников: Сб. интервью. СПб., 1997. С. 67, 79, 95–96, 113, 128–130, 160–161, 251 (текст книги расширен по сравнению с ее английским вариантом: Brodsky through the Eyes of His Contemporaries. The Macmillan, 1992); Лосев Лев.Or переводчика. [Вступит, заметка к публикации: Иосиф Бродский: труды и дни. О Пушкине и его эпохе] // Знамя. 1996. № 6 С. 144–145; Стрижевская Н.Письмена перспективы: О поэзии Иосифа Бродского. М., 1997. С. 8. Наиболее подробный обзор работ по этой теме и развернутое сопоставление поэтики Бродского и Пушкина принадлежат В. П. Полухиной: Polukhina V. Pushkin and Brodsky: the Art of Self-deprecation // Pushkin’s Secret. Ed. by J. Andrew and R. Reid. Vol. 1. London, 2001 (forthcoming).
Сводка реминисценций из Пушкина у Бродского составлена О. А Лекмановым и А. Ю. Сергеевой-Клятис в заметке «АСПушкин» ( Лекманов О. А.Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. С. 338–342). Однако вывод авторов, что Бродский «с почти неправдоподобной частотой» цитирует «расхожие пушкинские строки» и что они «воспринимаются читателем уже не как факт русской культуры, но как факт быта», и мысль, что такая цитация отражает судьбу пушкинских строк, ставших достоянием языка, «стертых в пятачок самим временем» (Там же. С. 342), представляется мне поспешной. Бродский любит цитировать хрестоматийные тексты и других поэтов – например Крылова, Лермонтова, Тютчева и Блока. При этом и их строки, и стихи других поэтов, подобно пушкинским, часто превращаются в собственность самого русского языка Случай Пушкина, может быть, наиболее показательный, но не принципиально иной.
[Закрыть]. Эти сближения вызвали ироническую реплику Александра Кушнера, подметившего необязательность и некоторую претенциозность рассуждений на тему «Бродский и Пушкин» [342]342
Кушнер А.Здесь, на земле // Знамя. 1996. № 7. С. 147. Ср.: Иосиф Бродский: труды и дни / Ред. – сост. П. Вайль и Лев Лосев. М., 1998. С. 157.
[Закрыть]. Язвительно отреагировал на эти рассуждения и Анатолий Найман: «<…> не Пушкин как таковой был целью проведения параллелей, а чертеж того, что в представлении людей есть великий поэт, – чертеж, на который в России раз навсегда перенесены грубо контуры Пушкина» [343]343
Найман А.Рассказы об Анне Ахматовой [Изд. 2-е, доп.]. М., 1999. С. 357–358.
[Закрыть]. Несомненно, поэтический мир Пушкина безмерно удален от поэзии Бродского. Как отмечал М. О. Гершензон, «основной догмат Пушкина <…> есть уверенность, что бытие является в двух видах: как полнота и как <…> ущербность»; причем полнота у Пушкина, «как внутренне насыщенная, пребывает в невозмутимом покое»; в его поэзии «есть покой глубокий, полный силы, чуждый всякого движения вовне <…>. Он изображал совершенство <…> бесстрастным, пассивным, неподвижным <…>» [344]344
Гершензон М. О.Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 14, 16,39.
[Закрыть]. Устоявшееся мнение о природе пушкинского творчества отчетливо отразил А. И. Солженицын: «Самое высокое достижение и наследие нам от Пушкина – не какое отдельное его произведение, ни даже лёгкость его поэзии непревзойденная, ни даже глубина его народности, так поразившая Достоевского. Но – его способность <…> всё сказать, всё показываемое видеть, осветляяего. Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, – и читатель возвышается до ощущения того, чт о глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств. Емкость его мироощущения, гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведанные им, живо ощущаемые толщи мирового трагизма – всплытие в слой покоя, примирённости и света. Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением» [345]345
Солженицын А. И.«…Колеблет твой треножник» // Солженицын А. И.Публицистика: В 3 т. Т. 3. Ярославль, 1997. С. 247. Выделено Солженицыным.
[Закрыть].
Поэтический мир Бродского строится на совершенно иных основах. Его инвариантная тема – отчуждение «Я» от мира, от вещного бытия и от самого себя, от своего дара, от слова. Неизменные атрибуты этой темы – время и пространство как модусы бытия и постоянный предмет рефлексии лирического «Я» [346]346
См. характеристику поэтического мира Бродского в кн.: Polukhina V.Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge; New York; Port Chester; Melbourne; Sydney, 1989. P. 169–181 (гл. «Man-word-spirit»), О самоотчуждении как об инвариантном мотиве поэзии Бродского см. также: Крепс М.О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor, 1984.
[Закрыть]. Бродскому чужды такие характерные для поэзии Пушкина инвариантные темы, как изменчивость бытия, бегство из мира бытия в мир «вечности», мотивы безумия/вдохновения [347]347
См. об этих темах и мотивах: Гаспаров Б., Паперно И.К описанию мотивной структуры лирики Пушкина // Russian Romanticism: Studies in the Poetic Codes. Ed. N. A Nilsson. Stockholm, 1979. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Russian Literature. Vol. 10) P. 9–44.
[Закрыть], «превосходительного покоя» [348]348
См.: Жолковский А. К.«Превосходительный покой»: об одном инвариантном мотиве Пушкина // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М., 1996. С. 240–260.
[Закрыть]. Ему не свойственно романтическое двоемирие, значимое для Пушкина, бытие в стихах Бродского нимало не напоминает пушкинский гармонический космос, а вечность почти всегда обладает устойчивыми пейоративными коннотациями. Деталь, вещь у Бродского сохраняют свою предметность, одновременно приобретая метафизическое измерение, становясь вещью вообще, знаком материи, воплощением времени и т. д. Вопреки утверждениям В. А. Сайтанова, предметный мир Бродского (близкий к поэтике детали у акмеистов и у Цветаевой) в целом максимально далек от пушкинского.
Лев Лосев справедливо напомнил, что и Пушкин, и Бродский подводят итог поэтической традиции, переосмысляют ее. И одновременно оба как бы намечают ее новые пут. Творчество Пушкина как квинтэссенция русской поэзии не может не быть ориентиром для Бродского, не может не быть интертекстуальным фоном его поэзии. Бродский, осознающий себя «последним поэтом» и хранителем культурной традиции, а свое поколение – последним поколением, живущим культурными ценностями [349]349
Ср. слова Бродского из французского телефильма Виктора Лупана и Кристофа де Понфили «Poete russe – citoyen american»: «Это последнее поколение, для которого культура представляла и представляет главную ценность из тех, какие вообще находятся в распоряжении человека. Это люди, которым христианская цивилизация дороже всего на свете. Они приложили немало сил, чтобы эти ценности сохранить, пренебрегая ценностями того мира, который возникает у них на глазах» (цит. по: Лопухина В.Бродский глазами современников. С. 99, прим. 18).
[Закрыть], естественно, не может не вступить в диалог с первым русским поэтом. Его роднит с Пушкиным и своеобразный протеизм, способность осваивать, перевоплощаясь, самые разные поэтические формы. У обоих поэтов подчинение правилам жанра и риторики приобретает значение свободного выбора, перестает быть простым следованием заданным канонам. Эта близость к Пушкину, общность поэтических установок ни в коей мере не противоречат ориентированности поэзии Бродского на других блистательных стихотворцев пушкинского времени, например на Баратынского. Преемственность по отношению к Пушкину проявляется у Бродского в интертекстуальных связях, в цитатах. Она интенсивна лишь в нескольких стихотворениях, имеющих метаописательный характер [350]350
Автор этих строк ни в коей мере не стремился учесть по возможности все реминисценции из пушкинских текстов в поэзии Бродского; между прочим, автор «Части речи» и «Примечаний папоротника» порою цитирует произведения Пушкина, только сигнализируя о цитатности своего сочинения. Такова, например, реминисценция из «Сказки о рыбаке и рыбке» во «Втором Рождестве на берегу…», отмеченная П. Фастом: Fast P.Spotkania z Brodskim (dawne i nowe). Katowice, 2000 (= Biblioteka Przegląda Rusycystycznego). S. 36.
[Закрыть].
Мотив предназначения поэта и места поэзии в мире у Бродского облечен в словесные формулы, восходящие к текстам Пушкина Функции цитат из пушкинских текстов различны, порой противоположны исконным. В 1960-е – начале 1970-х гг. Бродский следует романтическому мифу о гонимом поэте, избранном к высокой и жертвенной участи, в поэзии второй половины 1970-х – 1990-е гг. романтическая модель отвергается. Но и в ранней, и в поздней поэзии сходно трансформируется образ памятника – величественного монумента поэзии, восходящий к горациевской оде «К Мельпомене» и к пушкинскому «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» [351]351
Ср. замечание И. И. Ковалевой и А. В. Нестерова о реминисценциях из оды Горация и из подражающего ей пушкинского стихотворения: в книге и в цикле Бродского «Часть речи» «тема „Памятника“ – творчество, поэзия в их отношениях к жизни/смерти – едва ли не основная тема»; к Горацию и Пушкину восходит и название книги, и строки «От всего человека вам остается часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи» ( Ковалева И. И., Нестеров А. В.О некоторых пушкинских реминисценциях у И. А. Бродского // Вестник Московскою ун-та. Серия 9. Филология. 1999. № 4. С. 13–14).
К числу указанных в этой статье реминисценций из Пушкина в книге и цикле «Часть речи» добавлю еще одну. В стихотворении из цикла «Часть речи» (1975–1976) «Север крошит металл, но щадит стекло…» Бродский переиначивает строки из «Полтавы»: «Так тяжкий млат, / Дробя стекло, кует булат» (IV; 184). Здесь и полемика с Пушкиным – певцом империи, оправдывающим деспотизм ее создателя – Петра. Но не только. Свое стихотворение Бродский строит как переписывание —в буквальном смысле слова – чужого текста: новый смысл появляется благодаря перестановке заимствованных строк и выражений.
[Закрыть].
Первоначально Бродский ищет в пушкинских стихах о поэте и поэзии свидетельства неизбежной гибели, обреченности каждого истинного стихотворца [352]352
Такому самовосприятию соответствовал взгляд на судьбу Бродского как на воплощение или частный случай участи всякого истинного поэта – гонимого страдальца. Показательно замечание Анны Ахматовой по поводу ареста и ссылки Бродского: «Неблагополучие – необходимая компонента судьбы поэта, во всяком случае поэта нового времени. Ахматова считала, что настоящему артисту,да и вообще стоящему человеку, не годится жить в роскоши. <…> Когда Бродского судили и отправили в ссылку на север, она сказала: „Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял“. А на вопрос о поэтической судьбе Мандельштама, не заслонена ли она гражданской, ответила: „Идеальная“» ( Найман А.Рассказы об Анне Ахматовой [Изд. 2-е, доп.]. М., 1999. С. 17).
[Закрыть]. Этот мотив декларирован в завершении стихотворения «Конец прекрасной эпохи» (1969):
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.
(II; 162)
«Зеленый лавр» напоминает о совете музе в пушкинском «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»:
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца…
(III; 340)
При сходстве на уровне означающих, создающем иллюзию синонимии ( зеленый лавркак синоним венца), означаемые у этих слов и выражений различны. Пушкин обозначает словом «венец» лавровый венок – знак славы поэта, который в русской поэзии 1810–1830-х гг. чаще всего именовался именно «венком» [353]353
<…> «В поэтическом словоупотреблении „венец“, как правило, окрашивается негативной эмоцией, а „венок“ – позитивной. Бывает и так, что в произведении дается лишь один из антонимов, но он незримо соотнесен с антонимом в другом произведении. И понять происхождение противоположных эмоциональных окрасок можно, лишь соотнося „венец“ и „венок“ как крайние звенья одной цепи»; «Венец – атрибут славы, чаще всего военной; венок – знак отказа от громкой славы ради жизни неприметной, но исполненной естественных чувств, искренней приязни и любви. И вместе с противопоставлением „венка“ „венцу“ второй, так сказать, образ жизни ставится выше первого» ( Манн Ю. В.Динамика русского романтизма. М., 1995. С. 16–18; здесь же примеры из текстов). О семантике слов «венок» и «венец» в русской поэзии, в том числе и у поэтов XX века, и в некоторых текстах Бродского, см.: Левинтон Г. А.Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 197.0 понимании предназначения поэзии Пушкиным и Бродским см., напр.: Разумовская А. Г.Пушкин – Ахматова – Бродский // Материалы Международной пушкинской конференции. 1–4 октября 1966 года. Псков, 1996. С. 135.
[Закрыть]. Выбор автором стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» означающего «венец» не случаен: в пушкинском тексте поэту приписывается атрибут «царственности» (его мысленный памятник «вознесся выше <…> главою непокорной / Александрийского столпа» [III; 340] – колонны – памятника императору Александру I [354]354
Новейший подробный свод различных толкований выражения «Александрийский столп» (Александровская колонна или Александрийский маяк) приведен в кн.: Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 275–300. Автор – сторонник мнения, что «Александрийский столп» – это именно и только Александровская колонна. Мне представляется, что это выражение полисемантично и указывает также и на Александрийский маяк как на одно из чудес света, в этом отношении, а также по географическому положению эквивалентное пирамидам в оде Горация – первоисточнике пушкинского текста. Впрочем, это особая тема. «Глава непокорная» у Пушкина также содержит коннотации «царственность» (ср. «царскую главу» в «Вольности» [1; 283] и мотив отсечения головы поэта якобинцами, обезглавившими также короля, в «Андрее Шенье»); «царем» стихотворец именуется в «Поэте» Пушкина.
[Закрыть]). Таким образом, «венец», означая «лавровый венок» [355]355
У Горация упомянут просто «лавр», но подразумевается, естественно, венок: «mihi Delphica / Lauro cinge volens, Melpomene, comam». Формально к Горацию ближе не Пушкин, а Бродский в «Конце прекрасной эпохи», пишущий о «зеленом лавре».
[Закрыть], наделен коннотациями «царский венец».
Отказ от венка/венца у Пушкина – это отвержение жажды к славе, жест, демонстрирующий независимость: пушкинский поэт представлен, в отличие от горациевского, хранителем и ценителем личной свободы – высшей ценности бытия. В отличие от пушкинской музы, поэту Бродского лавровый венок обеспечен – вместе с плахой. Но «зеленый лавр» – выражение многозначное, обозначающее не только «венок», но и «венец». «Зеленый лавр» – награда поэту Бродского за стихи, оплаченные ценою смерти; но, поставленное в один семантический ряд с «топором», это выражение указывает также и на венец как знак мученичества ( венец мученический) и на его первообраз – терновый венецХриста [356]356
В стихотворении Бродского «Приходит март…» (1961) о горестной участи поэта в холодном мире свидетельствует образ «лаврового заснеженного венка» (I; 51). Мотив поэта, готового к смерти в северном краю, содержится также в стихотворении Бродского «Отрывок» («Назо к смерти не готов…», 196) (I; 396). Он, конечно, восходит как к «Tristia» Овидия, так и к пушкинскому стихотворению «К Овидию». Пушкин осуждает Овидия за слабость, проявившуюся в «слезах» и молениях, обращенных к Августу. Бродский же пишет о бессмысленности всяких надежд, ибо стихотворец уже в ссылке и ждет его смерть: «Потому что в смерти быть, в Риме не бывать» (I; 396). О теме Овидия у Бродского см.: Ичин К.Бродский и Овидий // Новое литературное обозрение. 1996. № 19. С. 227–249.
[Закрыть]. Выражение «зеленый лавр» восходит не только к Горацию и Пушкину, но и к лермонтовскому стихотворению «Смерть Поэта», в котором венецсовмещает признаки венка(в обманчивом внешнем виде) и венца(по своей сути):
И прежний сняв венок – они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело… [357]357
В начале лермонтовского стихотворения увядший венок иносказательно обозначает гибель поэта: «Угас как светоч дивный гений, / Увял торжественный венок» (Там же. С. 255).
[Закрыть]
(I, 257)
Под пером Бродского пушкинские строки о долгой славе поэта в поколениях превращаются в стихи о неизбежной гибели [358]358
Название стихотворения Бродского – аллюзия на дельвиговское «Конец золотого века. Идиллия», завершающееся печальными строками: «Ах, путешественник, горько! ты плачешь! беги же отсюда! / В землях иных ищи ты веселья и счастья! Ужели / В мире их нет, и от нас от последних их позвали бот!» ( Дельвиг А. А.Призвание: Стихотворения. М., 1997. С. 279).
[Закрыть].
«Топор» палача из стихотворения «Конец прекрасной эпохи» – такое же орудие казни, как «секира палача», пасть от удара которой суждено поэту, герою другого пушкинского стихотворения – «Андрей Шенье»:
Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов: задумчивая лира
В последний раз ему поет.
(II; 231)
Образ лаврового венца,вызывающий ассоциации с югом, с солнечным миром античности, у Бродского соединен с зимойи снегом: венец поэта – «лавровый заснеженный венец»:
Хвала развязке. Занавес. Конец.
Конец. Разъезд. Галантность провожатых
у светлых лестниц, к зеркалам прижатых,
и лавровый заснеженный венец.
(«Приходит март. Я сызнова служу», 1961 [I; 55])
Концовка стихотворения Бродского может быть истолкована как эвфемистическое описание ареста (провожатые кем-то прижаты к зеркалам).Но она также проецируется и на финальную сцену комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», и на описание Онегина в первой главе пушкинского романа в стихах (снегом, «морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник» (V; 13]). Сцена разъезда также восходит к «Евгению Онегину» (Онегин, покидающий театр, – гл. 1, строфа 16). Но кроме того, текст Бродского соотнесен со стихотворением Мандельштама «Летают валькирии, поют смычки» [359]359
Ироническая реплика – реминисценция этого же мандельштамовского стихотворения у Бродского: «пляшут сильфиды, мелькают гузки» («В окрестностях Александрии», 1982 [III; 57]). Одновременно это, вероятно, аллюзия на пьесу В. В. Маяковского «Баня», в которой пародируется банальное, «мещанское» восприятие театра: «Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и… сифилиды» ( Маяковский В. В.Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 603). О подтексте из Маяковского в стихотворении «В окрестностях Александрии» см. подробнее в главе «„…Крылышкуя скорописью ляжек“: авангардистский подтекст в поэзии Бродского».
[Закрыть], представляющим собой инвариант грибоедовского и пушкинского сочинений:
Летают валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец [360]360
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 116.
[Закрыть].
Стихотворение Мандельштама воплощает «тему конца русского символизма» [361]361
Лекманов О.Вечер символизма: О стихотворении «Валкирии» // Лекманов О. А.Опыты о Мандельштаме (Ученые записки Московского культурологического лицея № 1310. Вып. 1). Винницкий И. Ю.Утехи меланхолии (Ученые записки Московского культурологического лицея № 1310. Вып. 2). М, 1997. С. 50.
[Закрыть], стихотворение Бродского – тему конца высокого искусства вообще. Знаком интертекстуальной преемственности по отношению к поэтической традиции избран лавровый венец.
Бродского 1960-х – начала 1970-х гг. привлекает к себе прежде всего Пушкин, разочарованный в ценностях бытия, Пушкин – изгнанник, узник и певец свободы. В стихотворении «Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе» (1969–1970?) уподобление героя автору стихотворения «К морю» откровенно прямолинейно:
И ощутил я, как сапог – дресва,
как марширующий раз-два,
тоску родства.
Поди, и он
здесь ждал того, чего нельзя не ждать
от жизни: воли. Эту благодать,
волнам доступную, бог русских нив
сокрыл от нас, всем прочим осенив,
зане – ревнив.
<…>
Наш нежный Юг,
где сердце сбрасывало прежде вьюк,
есть инструмент державы, главный звук
чей в мироздании – не сорок сороков,
рассчитанный на череду веков,
но лязг оков.
И отлит был
из их отходов тот, кто не уплыл,
тот, чей, давясь, проговорил
«Прощай, свободная стихия» рот,
чтоб раствориться навсегда в тюрьме широт,
где нет ворот.
Нет в нашем языке грустней строки
отчаянней и больше вопреки
себе написанной, и после от руки
сто лет копируемой. Так набегает на
пляж в Ланжероне за волной волна,
земле верна.
(IV [1]; 8–9)
Герой Бродского как бы упрекает Пушкина за верность «земле», за отказ от романтического побега за далекой свободой; он ощущает в прощании поэта с морем – символом воли – мучительнейшее, физически явственное насилие над самим собой. Пушкин Бродского произносит слова прощания, «давясь». Между тем в пушкинском «К морю» выбор поэта, не внявшего призывам моря и оставшегося, очарованного «могучей страстью», на земле, не безнадежно трагичен. Для пушкинского героя бегство невозможно и ненужно:
О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
<…>
Мир опустел… Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
(II; 181)
Пушкинский герой, оставшийся «у берегов», верен памяти о море и не винит себя в измене «свободной стихии»:
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
(II; 181)
«Прощаясь с морем, Пушкин прощался с югом, со всеми впечатлениями последних лет, со всеми поэтическими замыслами, родившимися на юге, с завершенным периодом жизни, со своей поэтической молодостью, с романтизмом» – писал о стихотворении «К морю» Б. В. Томашевский [362]362
Томашевский Б. В.Пушкин. Изд. 2-е. М., 1990. Т. 2. С. 272.
[Закрыть]. Для пушкинского героя жизнь не закончена; для героя Бродского возможно лишь тягостное существование. Пушкинский герой – уроженец берега, сын земли; герой Бродского – житель моря, выброшенный на берег: он сравнивает себя с рыбой. А волны, символизирующие у Пушкина (не только в этом стихотворении, но и, например, в стихотворении «Кто, волны, вас остановил…») свободу, в тексте Бродского ассоциируются с противоположным началом – с монотонной повторяемостью и «верностью земле» [363]363
В такой трактовке морской стихии Бродский, однако же, тоже следует Пушкину – но не создателю стихотворения «К морю», а автору строк «Так море, древний душегубец…»: «<…> В наш гнусный век / Седой Нептун земли союзник. / На всех стихиях человек – / Тиран, предатель или узник» (II; 298). Аллюзия на этот пушкинский текст содержится в стихотворении Бродского «К Евгению» из цикла «Мексиканский дивертисмент» (1976).
Принимает Бродский и другой пушкинский образ – «глубину сибирских руд», символизирующий несвободу. В стихотворении «Представление» (1986) подобие этого образа – пещера «гражданина» Российской империи и советской страны: «Дверь в пещеру гражданина не нуждается в „сезаме“. / То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катет <…>» (III; 118).
[Закрыть].
«Превращение» поэта в статую трактовано в стихотворении «Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе» как лишение свободы: памятник «отлит» из «отходов» металла, пошедшего на оковы. Воображаемому грандиозному памятнику из пушкинского «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Бродский противопоставляет реальныйпамятник Пушкину, но он символизирует не почитание поэта «народом», а насилие над стихотворцем.
Упоминание о звоне кандалов в стихотворении «Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе» соотносится со строками Пушкина «Как раз тебя запрут, / Посадят на цепь дурака» («Не дай мне Бог сойти с ума» [III; 249]). Пушкинскому романтическому мотиву безумия поэта, прозревающему высшие тайны и отторгнутого и мучимого людьми, Бродский придает новый, глубоко личностный смысл. Канонизированный литературный мотив становится у Бродского средством самоописания «Я» и приобретает биографическую достоверность. Так «литература» становится «жизнью», а единичное событие запечатлевается в «вечной» словесной формуле. Строки из стихотворения Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума» – может быть, самого «темного» из произведений поэта:
Да вот беда: сойти с ума,
<…>
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверька,
Дразнить тебя придут —
(III; 249)
превратились у Бродского в свидетельство о собственной судьбе – о судьбе узника. Романтический флер, обволакивающий образы у Пушкина, сорван: в тюрьме не безумец, а здравомыслящий человек, и травят его наяву – «Я входил вместо дикого зверя в клетку, / выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке…» (1980 [III; 7]).
Цитируется в стихотворении «Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе» и пушкинское «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…»: «И он, видать, / здесь ждал того, чего нельзя не ждать / от жизни: юли. Эту благодать, / волнам доступную, бог русских нив / сокрыл от нас, всем прочим осенив, / зане – ревнив» (IV (1); 8). Двум противоположным и нераздельным ценностям Пушкина – покою и воле– Бродский противопоставляет одну только юлю – свободу [364]364
Другие пушкинские претексты в «Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе», в частности «Евгений Онегин» и «Медный Всадник», были отмечены А. Маймескулов: Mqjmieskulow А.Пушкинский текст как метатекст Бродского (стихотворение «Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе»)// Studia Kussica Budapestinensia-VI. Budapest (forthcoming).
А. Маймескулов показывает, что в тексте Бродского фрагменты, элементы из пушкинских сочинений подвергнуты инверсии;автор статьи рассматривает инверсию традиционных мотивов как черту неоавангарда, следуя за И. Р. Дёринг-Смирновой и И. П. Смирновым (см.: Дёринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П.Очерки исторической типологии культуры: … → Реализм → /…/ → Постсимволизм (Авангард) → Salzbuig, 1982. С. 124–126.
[Закрыть].
Реминисценции из пушкинского «…Вновь я посетил…» – стилистические формулы для описания судьбы поэта-изгнанника в стихотворении Бродского «1972 год» (1972). Стихотворение посвящено вынужденной разлуке поэта с родиной, отъезд уподоблен дантовскому переходу в загробный мир. Изгнание описано как возмездие за служение «речи родной, словесности».
Приход в потусторонний мир у Бродского, однако, не только поэтический образ, навеянный «Божественной комедией» флорентийского изгнанника. Мысли о смерти неизменно посещают героя Бродского:
Старение! Здравствуй, мое старение!
<…>
<…> Речь о саване
еще не вдет. Но уже те самые,
кто тебя вынесет, входят в двери.
(II; 290)
Стихотворение, написанное Бродским в возрасте тридцати двух лет, напоминает не только о Данте, оказавшемся в Аду, Чистилище и Раю, «земную жизнь пройдя до середины». Напоминает оно и о Пушкине, который, подойдя к тридцатилетнему рубежу и перейдя его, обратился к мыслям о грядущей кончине: в стихотворениях «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «…Вновь я посетил…». И вправду в тексте Бродского есть реминисценция из «…Вновь я посетил…»:
Здравствуй, младое и незнакомое
племя! Жужжащее, как насекомое,
время нашло, наконец, искомое
лакомство в твердом моем затылке.
В мыслях разброд и разгром на темени.
Точно царица – Ивана в тереме,
чую дыхание смертной темени
фибрами всеми и жмусь к подстилке.
(II; 290)
В пушкинском тексте нет трагических мотивов, а об изгнании вспоминается как о событии давнем и уже не вызывающем горечи. Герой Пушкина – это прежде всего человек,размышляющий о неизбежной смене поколений. Герой Бродского – именно поэт,дорого заплативший за свой дар. Бродский подчиняет самоописание романтическому канону – ибо в его случае поэтическая мифология совпала с жизнью.
«Было бы упрощением связывать постоянную для Бродского тему ухода, исчезновения автора из „пейзажа“, вытеснения его окружающим пространством только с биографическими обстоятельствами: преследованиями на родине, ссылкой, изгнанием, эмиграцией. Поэтическое изгнанничество предшествовало биографическому, и биография как бы заняла место, уже приготовленное для нее поэзией. Но то, что без биографии было бы литературным общим местом, то есть и начиналось бы и кончалось в рамках текста, „благодаря“ реальности переживаний, „вырвалось“ за пределы страницы стихов, заполнив пространство „автор – текст – читатель“. Только в этих условиях автор трагических стихов превращается в трагическую личность» [365]365
Лотман М. Ю., Лотман Ю. М.Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания») // Лотман Ю. М.Избранные статьи: В 3 т. Т. III. Таллинн, 1993. С. 303–304.
[Закрыть].
В «1972 годе» тотально отчуждение «Я» от других. У Пушкина «младое и незнакомое племя» – семья разросшихся молодых деревьев; лирический герой приветствует их «поздний возраст» (III; 315), пусть и не он сам, а лишь его внук увидит эти деревья взрослыми и могучими. Смерть осознана как неизбежный закон жизни и принята.
Иное у Бродского – «племя младое и незнакомое» у него – младшее поколение, будущие могильщики (в буквальном смысле слова) поэта; незнакомые не только потому, что моложе, но и потому, что они – иностранцы, жители тех земель, где отныне поселился изгнанник [366]366
Мотив «племени младого, незнакомого» также переиначен в стихотворении «Сидя в тени» (1983): одинокий лирический герой («отец»), уподобленный дереву (живому началу), противопоставлен бессердечным и жестоким детям – создателям грядущей цивилизации (они соотнесены с множеством деревьев, с садом):
Прижавшееся к стенедерево и его тень.И тень интересней мне.<…>Я смотрю на детей,бегающих в саду.IIСвирепость их резвых игр,их безутешный плачсмутили б грядущий мир,если бы он был зряч.<…>Дети вытеснят нас в пригородные садыпамяти – тешить глазформами пустоты<…>Эта песнь без концаесть результат родства,серенада отца,ария меньшинства,петая сумме тел,в просторечьи толпе <…>(III; 71. 75–76). Пушкинская антитеза – «старые сосны, символизирующие старшее поколение, – молодые деревья (поросль), олицетворяющие поколения будущие» – зашифрована в «Эклоге 5-й (летней)» (1980): «И внезапная мысль о себе подростка: / „выше кустарника, ниже ели“ / оглушает его на всю жизнь» (III; 38). Вечнозеленым соснам соответствует вечнозеленая ель. Пушкинское выражение «племя младое» превращено в метафору волн, обозначающих время, в стихотворении «На смерть Т. С. Элиота» (1965): «Уже не Бог, а только Время, Время / зовет его. И молодое племя / огромных волн его движенья бремя <…> легко возносит» (I; 411–412). Своеобразная вариация «…Вновь я посетил…» – стихотворение Бродского «От окраины к центру» (1962): «Вот я вновь посетил / эту местность любви, полуостров заводов, / парадиз мастерских и аркадию фабрик / <…> я опять прошептал: вот я снова в младенческих ларах» (I; 217). Пушкинский текст трансформируется в этом стихотворении в «текст Бродского» благодаря серьезно-ироническому «идиллическому коду», которого нет во «…Вновь я посетил…». Возможно, на такое переосмысление пушкинского стихотворения Бродского побудила «Деревня», в которой, как и во «…Вновь я посетил…», отражены приметы окрестностей Михайловского – но на сей раз именно в идиллическом ореоле. Реминисценция из «…Вновь я посетил…» открывает также стихотворение «Пенье без музыки» (1970): «обо мне / вспомянешь все-таки в то Лето / Господне и вздохнешь <…>» (II; 232); семантика исходного текста при этом «вывернута наизнанку»: у Пушкина говорится о преемственности поколений, у Бродского – о разлуке с любимой, которая непреодолима даже в воспоминании.
[Закрыть]. Пушкинским метафорам в тексте Бродского возвращен исконный, предметный смысл. Пушкин пишет о возвращении в родные места, в Михайловское, которое было для него не только «мраком заточенья», но и поэтическим «приютом». Бродский говорит об изгнании, о впервые увиденной «незнакомой местности» (II; 292). Здесь его герою суждено умереть, «теряя / волосы, зубы, глаголы, суффиксы» (II; 292). Пока что, в «1972 годе», он роняет цитаты – из «…Вновь я посетил…», из «Слова о полку Игореве», из «Доктрины» Г. Гейне [367]367
«Роняемые» («теряемые») цитаты – как бы иконический знак теряемых «частей речи» (демонстративная цитатность, почти центонность выделяет это стихотворение среди других текстов Бродского, хотя «1972 год» и не уникален в этом отношении: ср. «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» [1974]).
[Закрыть]… Из Евангелия от Луки:
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
а ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
ныне стою в незнакомой местности.
(II; 292)
Слова о «докторе» – прозрачная аллюзия на речение Христа из Евангелия от Луки (гл. 4, ст. 23): «Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме».
Бродский уподобляет себя Христу. Скрытое уподобление «Я» Богу есть и в других стихотворениях, например в «Рождественской звезде» (1987): одиночество в бытии, отчужденность от людей заставляют Бродского сравнить свое место в бытии с земной жизнью Богочеловека. В рождественском стихотворении 1991 г. «Presepio» ( ит.«Ясли») «Ты» – одновременно и лирический герой, и Бог-сын.
Но у евангельской цитаты в «1972 годе» есть и другой смысл. Она окружена аллюзиями на пушкинскую поэзию. Именование стихотворства «жречеством» ведет к стихотворениям Пушкина «Поэт и толпа» и «Поэту», в которых служитель Муз и Аполлона наделен чертами языческого священнослужителя – жреца [368]368
Пушкинские образы, воплощающие мотив поэта и поэзии, стали у Бродского идеальными словесными формулами: тема поэзии неразрывно связана для автора «Урании» и «Пейзажа с наводнением» именно с Пушкиным.
<…> Я слышу Музы лепет.Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:мой углекислый вздох пока что в вышних терпят, — пишет Бродский в стихотворении «Пятая годовщина ( 4 июня 1977) »(II; 422). Реминисценция из Пушкина обманчива, «зеркальна»: в пушкинских «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» лепечет не Муза, но Парка: «Парки бабье лепетанье» (III; 186). Но для Бродского Муза и Парка – сестры:
Две молодых брюнетки в библиотеке мужатой из них, что прекрасней. Два молодых оваласталкиваются над книгой в сумерках, точно Музаобъясняет Судьбе то, что надиктовала.(«Римские элегии», 1981 [III; 44]) Поэзия и время для Бродского – два родственных начала (ср. высказывания поэта об этом, собранные в кн.: Стрижевская Н.Письмена перспективы: О поэзии Иосифа Бродского, М., 1997. С. 290–291). Поэтому Парка и Муза в его стихах напоминают друг друга и нередко появляются вместе.
[Закрыть]. И слово «доктор», может быть, также указывает на Пушкина. В статье Льва Шестова «А. С. Пушкин» русский поэт сравнивается с врачевателем: его поэзия – «это победа врача – над больным и его болезнью. И где тот больной, который не благословит своего исцелителя, нашего гениального поэта – Пушкина?» [369]369
Пушкин в русской философской критике: Конец XIX – первая половина XX в. М., 1990. С. 206.
[Закрыть]. Лев Шестов – один из наиболее близких Бродскому философов; об этом поэт говорил неоднократно. Но не содержится ли в «1972 годе» скрытый спор не только с Пушкиным (жизнь поэта для Бродского – изгнание и одиночество, а смерть страшна, и ее не заклясть стихами), но и с Львом Шестовым (исцелителя нет, и ни Христос, ни поэт – Пушкин – не уврачуют душевных язв)?
Описывая свою судьбу изгнанника, Бродский прибегает к реминисценции из мандельштамовского стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…», ставшего как бы предсказанием трагической судьбы автора. Строка Бродского «чаши лишившись в пиру Отечества» (II; 292) – точная цитата мандельштамовского стиха «Я лишился и чаши на пире отцов» [370]370
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 198.
[Закрыть]. Мандельштамовский текст, как и «1972 год» Бродского, соотнесен с пушкинским «…Вновь я посетил…» [371]371
Это наблюдение, относящееся к стихотворению Мандельштама, принадлежит Е. Г. Эткинду ( Эткинд Е. Г.Там, внутри. О русской поэзии XX века: Очерки. СПб., 1997. С. 229). Строку «Я лишился и чаши на пире отцов» исследователь возводит к упоминанию о пирах предков и о ковшах в «Руслане и Людмиле» Пушкина и к стихам «Увы, минутный гость я на земном пиру, / Испивши горькую отраву» из стихотворения Н. И. Гнедича «К Провидению» – перевода «Оды. Подражания нескольким псалмам» Н. Жильбера (Там же. С. 217, 239). Мне представляется, что мандельштамовский стих восходит прежде всего к образу «пира на празднике чужом» (I; 273) и к мотиву разрыва нынешнего поколения с поколением отцов (и одновременно детей) в «Думе» Лермонтова; другой вероятный претекст, который оспаривается Мандельштамом, – тютчевское «Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые! / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир. / <…> / Он в их совет допущен был – / И заживо, как небожитель, / Из чаши их бессмертье пил!» («Цицерон». – Тютчев Ф. И.Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 62). Слово «отцы» может рассматриваться как окказиональный синоним к тютчевскому «всеблагие» (бога – как отцы для людей). Именно соотнесенность с произведениями Лермонтова и Тютчева может объяснить употребление слова «отцы» в случае, когда контекст диктует выбор другой лексемы – «дети». Для Бродского – автора «1972 года» соотнесенность с этими текстами Лермонтова и Тютчева также, вероятно, значима.
[Закрыть].
В поэзии Бродского, созданной после эмиграции на Запад, романтический мотив гонимого за слово и стойко принимающего страдания поэта вытесняется новым инвариантным мотивом эфемерности, не-существования лирического «Я» [372]372
В психологическом отношении показательно нежелание Бродского в эмиграции как-либо упоминать о своем аресте, заключении в психиатрическую больницу, ссылке. Более того, вынужденный отвечать на вопросы об этих событиях, он рисовал картину несоизмеримо более благостную, чем она была на самом деле. См. об этом: Штерн Л.Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. М., 2001. С. 121–123. «Бродский категорически не желал ни быть, ни считаться жертвой. Ему была невыносима сама мысль, что травля, суды, психушки, ссылка – именно эти гонения на родине способствовали его взлету на недосягаемые вершины мировой славы» (Там же. С. 122).
[Закрыть]. Намеченный еще в стихотворениях, написанных через год после отъезда, – «Лагуне» (1973) и «На смерть друга» (1973) – он будет развернут в текстах, вошедших в книгу «Урания» (1987). Романтический мотив одиночества поэта сохраняет значение для Бродского, рефлектирующего над вопросом об отношениях стихотворца и публики [373]373
Ср. высказывания из интервью Дж. Глэду, в которых, однако, содержится неслучайная оговорка по поводу «романтической дикции»: «Что касается реакции аудитории и публики, то, конечно, приятнее, когда вам аплодируют, чем когда вас освистывают, но я думаю, что в обоих случаях – эта реакция неадекватна, и считаться с ней или, скажем, горевать по поводу ее отсутствия бессмысленно. У Александра Сергеевича есть такая фраза: „Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум“. В общем, при всей ее романтической дикции, в этой фразе есть колоссальное здоровое зерно. Действительно, в конечном счете ты сам по себе, единственный тет-а-тет, который есть у литератора, а тем более у поэта, это тет-а-тет с его языком, с тем, как он этом язык слышит» (Настигнуть утраченное время: интервью Джона Глэда с лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским. Из цикла «Беседы в изгнании: мозаика русской эмигрантской литературы» у/ Время и мы: Альманах литературы и общественных проблем. М.; Нью-Йорк, 1990. С. 287).
[Закрыть]. Но превосходство поэта над другими уже не декларируется в стихотворных текстах, а мотив изгнанничества и страданий за слово сохраняется только в стихотворных ретроспективах, как в стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980). Действительность перестала следовать литературной модели, поэзия больше не опережала жизнь, не выступала в креативной роли. «Роли» знаменитого поэта и уважаемого университетского профессора славистики не соответствовало амплуа романтического героя, и пушкинского поэта в том числе. Бродский обратился к новым формам саморепрезентации.
Горациевско-пушкинский образ воображаемого памятника, символизирующего долговечную славу стихотворца, в поэзии Бродского сохраняется [374]374
Примеры из ранней поэзии Бродского, в которых образ памятника наделен пейоративными коннотациями, – «Памятник», «Я памятник воздвиг себе иной…». К этой теме горациевского памятникасм. работы В. П. Полухиной: Polukhina V.«Exegi monumentum» // Joseph Brodsky: The Art of a Poem. Ed. by V. Polukhina and Lev Loseff. Houndmills, 1999. P. 68–91; Polukhina V.Pushkin and Brodsky: The Art of Self-deprecation // Pushkin’s Secret. Ed. by J. Andrew and R, Reid. London, 2001 (forthcoming). См. также: Славянский H.Твердая вещь // Новый мир. 1997. № 9; Кулагин А.Пушкинский «Памятник» и современные поэты (И. Бродский – А. Кушнер) // Бодцинские чтения. Н.-Новгород, 1998; Разумовская А.Пушкин – Ахматова – Бродский: взгляд на поэзию // Материалы Международной пушкинской конференции. 1–4октября 1996 года. С. 135.
[Закрыть]. Сама возможность существования такого монумента Бродским отрицается:
Я не воздвиг уходящей к тучам
каменной вещи для их острастки.
(«Римские мети», V [III; 45])
Полемически соотнесены с горациевской одой строки:
Памятник самому
себе, одному,
не всадник с копьем,
не обелиск —
вверх острием
диск.
(«Маятник о двух ногах…», 1965 [I; 424])
Обелиск соотнесен с горациевскими царственными пирамидами, которые переживет слава поэта: обелиск и пирамиды сходны по своему облику. «Всадник с копьем» ассоциируется прежде всего со святым Георгием – самым известным всадником с копьем.Отрицание сходства со святым Георгием означает отказ от притязаний на роль поэта – победителя Зла («дракона»-змея, убитого святым Георгием). Но это отрицание возможно лишь при некотором сходстве святого Георгия и стихотворца. Такое уподобление основано на визуальном подобии поэт, макающий перо в чернильницу, – святой Георгий, поражающий дракона.В более позднем стихотворении Бродского этот образ воплощается в тексте:
И макает в горло дракона златой Егорий,
как в чернила, перо.
(«Венецианские строфы (2)», 1982 [III; 55])
Если же он представлен как существующий наяву, то это существование полуэфемерно и, может быть, недолговечно. Монумент воздвигнут «впопыхах», это обелиск, сходящиеся линии которого ассоциируются с утратой перспективы, с несвободой и агрессией, устремленной к небу [375]375
Этот образ «обелиска» контрастирует с образом «вертикали»-колокольни, пронзающей «пустое» небо, утверждающей существование культуры, смысла в мире: «Здравствуй, мой давний бред – / Башни стрельчатой рост! // Кружевом, камень, будь, / И паутиной стань: / Неба пустую грудь / Тонкой иглою рань!» («Я ненавижу свет…»); «И колокольни я люблю полет» («Пешеход») ( Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 101, 102).
[Закрыть]:
Воздвигнутый впопыхах,
обелиск кончается нехотя в облаках,
как улар по Эвклиду, как след кометы.
(«Квинтет» [II; 424])
Воображаемый монумент предстает у Бродского не мысленным, но физически ощутимым. Это не более чем громоздкая «вещь», ничем не отличающаяся от других вещей; сходным образом горациевско-пушкинский памятник превращается в «твердую вещь» и «камень-кость» («Aere perennius» [IV (2); 202]). Вертикаль, в том числе и вертикаль памятника поэзии, у Бродского обладает пейоративными коннотациями, являясь атрибутом тоталитарного государства и тоталитарной культуры:
…полумесяц плывет в запыленном оконном стекле
над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.
Куполов, что готов, да и шпилей – что задранных ног.
Как за смертным порогом, где встречу друг другу назначим,
где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог,
где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим.
(«Время года – зима. На границах спокойствие. Сны…» [II; 62])
Сходные оттенки смысла присущи вертикально устремленным строениям – минаретам и колоннам – и в эссе Бродского «Путешествие в Стамбул» (1985) [376]376
«Только минареты, более всего напоминающие – пророчески, боюсь, – установки класса земля-воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа»; «восемнадцать белых колонн», уцелевшие от античного храма, – «Идея порядка? Принцип симметрии? Чувство ритма? Идолопоклонство?» (V (2); 306–312).
[Закрыть]. Символ тоталитарной власти – грандиозная Башня-темница в пьесе Бродского «Мрамор» (1982) (IV [1]; 247–308).
Жизнь поэта не мыслится как исполненная особенного смысла, которого лишено существование прочих людей: «памятника» не удостоится, в него не превратится ни лирический герой – стихотворец, ни его мать – домохозяйка: «Видимо, никому из / нас не сделаться памятником» («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…», 1987 [III; 142]).
Бродский не только придает новую семантику горациевско-пушкинскому «памятнику», но и оспаривает представление создателя стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» о природе долгой жизни поэта в памяти потомков. Ответ Пушкину – стихотворение «На столетие Анны Ахматовой» (1989):
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
<…>
Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
(III; 178)
Элементы бытия представлены в тексте через пары контрастирующих вещей, через оппозиции «вещь – орудие ее уничтожения»: «страница – [сжигающий ее] огонь», «зерно – [перемалывающие его] жернова», «волос – [рассекающая его] секира». Лишь элементы четвертой пары, относящиеся не к физической, а к духовной сфере – «прощенье и любовь», – синонимы, а не оппозиция. «Слова прощенья и любви» – отголосок, эхо пушкинских слов «в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал», в которых названы основания для благодарной памяти народа о поэте. Бродский солидаризируется с пушкинским пониманием заслуг поэта (у Горация такими заслугами были новаторские черты стихотворной формы – перенесение в римскую литературу греческих размеров) [377]377
Впрочем, М. О. Гершензоном было высказано «особое мнение», что призыв к милосердию и воспевание свободы являются главными заслугами не для самого поэта, а для «народа». Автор же ценит превыше всего художественные достоинства своих творений, а не свои нравственные заслуги ( Гершензон М. О.Мудрость Пушкина. Томск, 1997. С. 37–52).
[Закрыть].