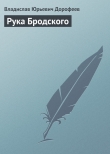Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
На прощанье – ни звука.
Граммофон за стеной.
В этом мире разлука —
лишь прообраз иной.
Ибо врозь, а не подле
мало веки смежать
вплоть до смерти.
И после
нам не вместе лежать.
<…>
И, чтоб гончим не выдал
– ни моим, ни твоим
адрес мой – храпоидол
или твой – херувим…
(«Строфы» («На прощанье – ни звука…»), 1968 [II; 94, 96])
Бедность сих строк – от жажды
что-то спрятать, сберечь;
обернуться. Но дважды
в ту же постель не лечь.
Даже если прислуга
Не меняет белье.
Здесь – не Сатурн, и с круга
Не соскочить в нее.
<…>
В общем, песня сатира
вторит шелесту крыл.
(«Строфы» («Наподобье стакана…»), 1978 [II; 459])
Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимаешь внезапно в постели, что это – брак;
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навык
наготы. Но при этом – не встать вдвоем.
Потому что пока там – светло, в твоем
полушарье темно. <…>
Поэтическая формула невозможность вместе лечьповторена и в одном из последних стихотворений Бродского – «Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос» (1993):
Я рад был бы лечь рядом с тобою, но это – роскошь.
Если я лягу – то с дерном заподлицо.
(III;266)
Знак разделенности, отчужденности в поэтическом мире Бродского – неуслышанность, невозможность коммуникации, а соответствующая поэтическая формула – невозможный телефонный разговор / звонок.
Я говорю с тобой, и не моя вина,
если не слышно.
(«Послесловие», 1987 [III; 150])
<…> И палец, вращая диск
зимней луны, обретает бесцветный писк
«занято»; и это звук во много
раз неизбежней, чем голос Бога.
(«Темза в Челси», 1974 [II; 352])
<…> покамест палец
набирает свой номер, рука опускает трубку.
(«В Англии», VI «Йорк», 1977 [II; 439])
<…> Мы – только части
крупного целого, из коего вьется нить
к нам, как шнур телефона, от динозавра
оставляя простой позвоночник. Но позвонить
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,
где откликнется лишь инвалид – зане
потерявший конечность, подругу, душу
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне
как выползти из воды на сушу.
(«До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу…», 1982 [III; 68]) [31]31
Контрастный вариант этого же повторяющегося образа – звонящий телефон: «В том конце коридора / дребезжал телефон, с трудом оживая после / недавно кончившейся войны» («Мы жили в городе цвета окаменевшей водки», 1994 [IV (2); 174]).
[Закрыть]
Но ничего не набрать, чтоб звонком извлечь
Одушевленную вещь из недр каменоломни.
(«Корнелию Долабелле», 1995 [IV (2); 199])
Один из вероятных источников этой поэтической формулы – строки из повести Осипа Мандельштама «Египетская марка», в которых говорится о главном герое: «С таким же успехом он мог бы позвонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен» [32]32
Мандельштам О.Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Стихи и проза. 1921–1929. М., 1993. С. 478.
[Закрыть]. У Мандельштама упоминается о невозможном телефонном звонке в царство мертвых, у Бродского – о звонке в отдаленное прошлое (то есть тоже в мир мертвых, в мир каменоломни / археологии) или в будущее, тождественное ископаемому прошлому (ассоциация-рифма «динозавра – послезавтра»).
Когда у Бродского встречается телефон как средство коммуникации (телефон, по которому звонят), этот образ наделен парадоксальной семантикой, построенной на самоотрицании: телефон – средство коммуникации, не связывающее лирического героя с другими, а приносящее нежеланное сообщение, субъект которого (говорящий) отсутствует: им как бы является сам телефонный аппарат. Телефон сообщает о невозможности коммуникации, о разрыве связей героя с миром:
Я трубку снял и тут же услыхал:
– Не будет больше праздников для вас
не будет собутыльников и ваз
не будет вам на родине жилья
не будет поцелуев и белья
<…>
не будет вам рыдания и слез
не будет вам ни памяти ни грез
не будет вам надежного письма
не будет больше прежнего ума
Со временем утонете во тьме.
Ослепнете. Умрете вы в тюрьме.
Былое оборотится спиной,
подернется реальность пеленой. —
Я трубку опустил на телефон,
но говорил, разъединенный, он.
(«Зофья», 1962 [I; 171–172])
Одиночество и не-существование присущи не только лирическому герою, но и Земле («в мирозданье потерян, / кружится шар» – «Я был только тем, чего…», 1981 [III; 42]), бытию в целом («Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже / одиночество» – «Колыбельная Трескового мыса», 1975 [II; 356]; «<…> жизнь – синоним // небытия <…>» – «Муха», 1985 [III; 104]) и воплощены в поэтической формуле безадресность бытия:
…вся вера есть не более, чем почта
в один конец.
(«Разговор с небожителем», 1970 [II; 210])
Рассчитанный на прочный быт,
он [дом. – А.Р.] из безадресности плюс
необитаемости сбит.
(«Взгляни на деревянный дом…», 1993 [III; 223])
…безымянность, безадресность, форму небытия
мы повторяем в сумерках – вяз и я?
(«В кафе», 1988 [III; 174])
<…> волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.
(«Голландия есть плоская страна…», 1993 [III; 225])
Мы здесь втроем, и, держу пари,
то, что вместе мы видим, в три
раза безадресней и синей,
чем то, на что смотрел Эней.
(«Иския в октябре», 1993 [III; 228])
Похожая поэтическая формула– невозможность написать письмо, тексти отсутствие адресата: «А как лампу зажжешь, хоть строчи донос / на себя в никуда, и перо – улика» («Полонез: Вариация», 1982 [III; 65]); «А письмо писать – вид бумаги пыл / остужает, как дверь, что прикрыть забыл» («Метель в Массачусетсе», 1990 [IV (2); 93]).
Выражение и воплощение «одиночества» бытия – пустота как кардинальное свойство пространства:
Пустота раздвигается, как портьера.
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела?
(«К Урании», 1982 [III; 64])
…помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.
(«Назидание», 1987 [III; 133])
Одиночество лирического героя выражено еще в ранней лирике, например в стихотворении «Глаголы» (1960). Программное в выражении этого мотива произведение – поэма «Зофья»:
Не чувствуя ни времени, ни дат,
всеобщим Solitude и Soledad,
прекрасною рукой и головой
нащупывая корень мировой,
нащупывать в снегу и на часах,
прекрасной головою в небесах,
устами и коленями – везде
нащупывать безмерные О, Д —
<…>
нащупывать свой выхОД в никогДА.
(I; 175)
В поэзии Бродского 1960-х – начала 1970-х гг. одиночество лирического героя имеет романтический ореол [33]33
Ср. замечание Я. А. Гордина о молодом Бродском и его поэзии: «Иосиф отрицал целесообразность и справедливость мира – именно мира, а не какой-то там политической системы, – с такой страстью и непреклонностью, что хотелось защитить этот бедный мир» ( Гордин Я.Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000. С. 136).
[Закрыть]. Герой – «певец», гонимый неправедной властью и готовый принять не только «зеленый лавр», но и «топор» («Конец прекрасной эпохи», 1969 [II; 162]); упоминание о топоре, занесенном над главою поэта, отсылает к пушкинскому «Андрею Шенье», посвященному «певцу», убиенному коллективной тиранией якобинцев. Лирический герой уподобляет себя Пушкину – автору стихотворения «К морю», говоря о своем узничестве в державе, «главный звук / чей в мироздании – не сорок сороков, / <…> / но лязг оков» («Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе», 1969 (?), 1970 (?) [IV; (1) 8–9]). Позиция героя Бродского – стоическое противостояние Власти и Судьбе и готовность принять смертный жребий:
Не купись на басах, не сорвись на глухой фистуле.
Коль не подлую власть, то самих мы себя переборем.
Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе,
о не все ли равно ошибиться крюком или морем.
(«Время года – зима. На границах спокойствие. Сны…», 1967–1970 [II; 62])
Лирический герой Бродского – поэт, служитель высшей истины, расплачивающийся за нее; хранитель Слова и поэтического Огня; изгнанник, подобный лермонтовскому поэту, символизирующему поэта отверженного:
Сжимающий пайку изгнанья
в обнимку с гремучим замком,
прибыв на места умиранья,
опять шевелю языком.
Сияние русского ямба
упорней – и жарче огня,
как самая лучшая лампа,
в ночи освещает меня.
Перо поднимаю насилу,
и сердце пугливо стучит.
Но тень за спиной на Россию,
как птица на рощу, кричит
<…>
Сжигаемый кашлем надсадным,
все ниже склоняясь в ночи,
почти обжигаюсь. Тем самым
от смерти подобье свечи
собой закрываю упрямо,
как самой последней стеной.
И это великое пламя
колеблется вместе со мной.
(«Сжимающий пайку изгнанья…», 1964 [I; 319])
Возвышенный ореол лирического героя создается не только благодаря мотиву охранения поэтического Огня, но и благодаря перекличкам со стихами поэтов XX столетия – хранителей классической традиции. С трудом шевелящийся язык стихотворца – узника – аллюзия на строку Мандельштама «Губ шевелящихся отнять вы не могли» («Лишив меня морей, разбега и разлета…») [34]34
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 241.
[Закрыть]; такая параллель устанавливает сходство судеб Мандельштама, убиенного за Слово, и узника Бродского, вступающего вслед за ним на тот же гибельный и великий путь. А упоминание о «русском ямбе» ведет к строкам Ходасевича о русском четырехстопном ямбе:
Изгнание лирического героя также интерпретируется как расплата за дар поэзии:
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество [36]36
Прозрачная отсылка к пушкинскому образу поэта – жреца Аполлона («Поэт и толпа», «Поэт»).
[Закрыть]
<…>
чаши лишившись в пиру Отечества,
ныне стою в незнакомой местности.
(«1972 год», 1972 [II; 292])
Показательно у Бродского 1960-х – начала 1970-х гг. и уподобление лирического героя распинаемому Христу («Разговор с небожителем», 1970), воскрешающее романтический миф о поэте-страдальце (ср. этот мотив хотя бы в «Смерти Поэта» Лермонтова).
Лирический герой раннего Бродского совершает тотальный «отказ» («Речь о пролитом молоке», 1967), вступает в прение с самим Богом («Разговор с небожителем»).
В поэзии Бродского середины 1970–1990-х гг. (условно – эмигрантского периода) мотив одиночества сохраняется [37]37
Мотив изгнанничества у Бродского проанализирован П. Зееманом (Zeeman Р.Notes on the Theme of Love and Separation in Iosif Brodskij’s Poetry // Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14–22,1988: Literature. Ed. A van In Holk. Amsterdam, Rodopi, 1988 = Slavic Literature and Poetics. P. 337–348), В. П. Полухиной ( Polukhina V.The Self in Exile // Writing in Exile. Renaissance and Modem Studies. 1991. Vol. 34. P. 9–18) и Д. Бетеа ( Bethea D.Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton, New Jersey, 1994).
[Закрыть], но романтическая оппозиция «Я – другие» переосмыслена. У лирического героя теперь отнимается право на уникальность, исключительность. Исчезают параллели с Христом или пушкинским и лермонтовским пророком. Мотив изгнанничества сохраняется, но герой Бродского теперь переадресует другому право «лучшего певца» [38]38
Сам Бродский расшифровывал это выражение так: «лучший певец» – Евгений Рейн ( Рейн Е.Мой экземпляр «Урании» // Иосиф Бродский: труды и дни. Редакторы-составители Петр Вайль и Лев Лосев. М., 1998. С. 144).
[Закрыть]и видит в себе скорее не страдальца за Слово, а жертву обстоятельств:
Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
(«Пятая годовщина (4 июня 1977)», 1977 [II; 421])
Отныне роль героя, добровольно идущего на смерть, отвергается, а такой герой иронически именуется «бараном», что знаменует глупость жертвенного поступка:
Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
Дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,
Паясничать. <…>
(Там же [II; 421–422])
Иронически лирический герой именует себя бараном также в первом из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт». Семантики жертвы это самонаименование здесь лишено. Слово «баран» – часть переиначенного фразеологизма «смотреть (уставиться) как баран на новые ворота»; такие переписанные фразеологизмы – один из отличительных приемов Бродского: «Сюды / забрел я как-то после ресторана / взглянуть глазами старого барана / на новые ворога и пруды» (II; 337).
Баран – жертва тирана – один из повторяющихся образов Бродского; в «Пятой годовщине <…>» он также может быть интерпретирован как автоцитата из стихотворения «Я не то что схожу с ума, но устал за лето…», входящего в цикл «Часть речи» (1975–1976):
Свобода —
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.
(II; 416)
В этом стихотворении ряд ассоциаций «Я – жертва (баран)» лишен пейоративных коннотаций, которые он приобретает в «Пятой годовщине <…>».
Восходящая к Данте поэтическая формула [39]39
Одновременно ее можно трактовать и как цитату из Данте («горек хлеб изгнанника»), ставшую автоцитатой (из «Сжимающий пайку изгнанья…») Бродского. Но скорее это именно поэтическая формула : она не вносит при повторении в новый контекст семантику контекста исходного. Впрочем, как уже было сказано, разграничение цитат и поэтических формул в случае Бродского весьма условно. – А.Р.
[Закрыть]«хлеб изгнанья», первый раз употребленная в «Сжимающий пайку изгнанья…», повторяется в стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980): «жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок» (III; 7). Но в раннем стихотворении она окружена романтическим контекстом, изображающим горестную судьбу поэта – страдальца за Слово. А в тексте сорокалетнего Бродского поэтическая формула изгнанничества обрамлена такими «прозаическими» деталями, как «жил у моря, играл в рулетку, / обедал черт знает с кем во фраке» или «надевал на себя что сызнова входит в моду» (III; 7).
Амбивалентный, серьезно-саркастический мотив благодарности за страдания ( повторяющийся мотив ) из «Разговора с небожителем» приобретает в этом же тексте 1980 года утвердительный смысл, далекий от романтической позиции, которая теперь, видимо, воспринимается как поза:
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
(III; 7)
С середины 1970-х гг. в поэзии Бродского утверждается инвариантный мотив не-существования, не-бытия «Я», облекающийся в слегка варьирующуюся поэтическую формулу.Один из первых примеров – в стихотворении «На смерть друга» (1973): «Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд / из-под камня тебя раздобыть, – от меня, анонима / <…> / Посылаю тебе безымянный прощальный поклон / с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно» (II; 332).
Найденная тогда же поэтическая формула – «совершенный никто»:
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.
(«Лагуна», 1973 [II; 318])
Ее вариация:
Ты, в коричневом пальто,
я, исчадье распродаж.
Ты – никто, и я – никто.
Вместе мы – почти пейзаж.
(«В горах», 1984 [III; 83])
Ее вариант, отсылающий к исходному контексту – к «Одиссее» Гомера:
И если кто-нибудь спросит: «кто ты?» – ответь: «кто я,
я – никто», как Улисс некогда Полифему.
(«Новая жизнь», 1988 [III; 169])
Другой вариант этого же мотива – мотив отчуждения поэта от читателя и от собственного текста :
Ты для меня не существуешь; я
в глазах твоих – кириллица, названья…
Но сходство двух систем небытия [40]40
Здесь содержится один из излюбленных приемов Бродского – игра, основанная на сдвиге границ слов: слово «небытия» может быть прочтено как склеенное «не быти(ь) я [мне]», то есть как свернутый лейтмотив целого стихотворения. Поэт как бы приоткрывает смыслы, которыми слова уже чреваты. – А.Р.
[Закрыть]
сильнее, чем двух форм существованья.
Листай меня поэтому – пока
не грянет текст полуночного гимна.
Ты – все или никто, и языка
безадресная искренность взаимна.
(«Посвящение», 1987 [III; 148])
Этот же мотив автономности текста от автора («автора») выражен, хотя и не столь явно, в стихотворении «Тихотворение мое, мое немое…» из цикла «Часть речи»: (с)тихотворение в нем именуется тяглым,то есть оно влечет, тянет за собой поэта, и ломтем отрезанным,то есть вещью, живущей независимо от того, кого считают ее творцом (II; 408). Первая строка содержит прием игры, построенной на сдвиге границ слов: «Тихотворение мое, мое немое» (II; 408) = «(С)тихотворение мое, мое немое».
Мотив отчуждения поэта от текста содержится и в «Эклоге 4-й (зимней)» (1980), хотя здесь он лишен трагического оттенка:
Так родится эклога. Взамен светила
загорается ламла: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.
(III; 18)
В этих строках варьируется пушкинский образ из «Осени»: перо, просящееся к бумаге.Перу у Пушкина, которое записывает текст как бы независимо от воли поэта, у Бродского соответствуют язык, алфавит («кириллица»), буквы, которые словно сами складываются в строки. У Пушкина в «Осени» грамматические субъекты – пальцыи перо, стихи,а не «Я», и строение фраз передает мотив спонтанности вдохновения, неподвластности разуму. Но «лирическое волненье» испытывает всё же душа поэта. У Бродского «Я» поэта просто отсутствует, стихи рождаются из алфавита, из Языка [41]41
В финальных строках «Эклоги 4-й <…>» скрыта также аллюзия на последнюю строфу 7-й главы «Евгения Онегина»: выражение «вкривь ли вкось ли» – соответствует пушкинскому стиху «Не дай блуждать мне вкось и вкрив» (V; 141). Но при сходстве на фразеологическом уровне и при похожем месте в структуре текста (конец стихотворения – конец главы) сохраняются значимые различия: у Пушкина творец – Автор романа в стихах, у Бродского – «кириллица». (Между прочим, концовка 7-й главы «Евгения Онегина» цитируется и в «Пятой годовщине <…>.»: «Скрипи, скрипи, перо, мой коготок, мой посох» (II; 422); у Пушкина: «И верный посох мне вручив, / Не дай блуждать мне вкось и вкрив» [V; 141]). В «Эклоге 4-й <…>» есть и еще сана отсылка к роману в стихах Пушкина: «время, упавшее сильно ниже / нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик / шалуна из русского стихотворенья» (III; 15). Это намек на описание крестьянского мальчика, посадившего в салазки жучку: «Шалун уж отморозил пальчик» (глава пятая, строфа XXXIII – [V; 87]). Такое настойчивое цитирование Пушкина в «Эклоге 4-й <…>» придает тексту Бродского подчеркнутую вторичность и как бы дополнительно и окончательно лишает автора прав на это произведение.
Повторяющийся образ скользящего пера, восходящий к финальным строкам «Осени» Пушкина, встречается в стихотворении Бродского «Бабочка» (1972): «Так делает перо, / скользя по глади / расчерченной тетради, / не зная про / судьбу своей строки» (II; 297). Этот же образ и поэтическая формула черные буквы, рассыпавшиеся по белому листусодержатся в «Строфах» 1978 г.: «Право, чем гуще россыпь / черного на листе, / тем безразличней особь / к прошлому, к пустоте / в будущем. Их соседство, / мало суля добра, / лишь ускоряет бегство / по бумаге пера» (II; 458).
[Закрыть].
Мотив не-существования, не-бытия «Я» появляется в поэзии Бродского примерно в одно время с мотивом отчуждения «Я» поэта от своих текстов, и это не случайно. Идея, что поэт – не творец своих текстов, а лишь орудие Языка, лишает жизнь «Я» – стихотворца экзистенциального оправдания, смысла. Наполнения. Воплощаясь в тексте, «Я» превращается в факт языка, в «местоимение», отчуждается от себя самого. Знаком «Я» становится «пустая» геометрическая фигура, обреченная на уничтожение:
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него – и потом сотри.
(«То не Муза воды набирает в рот», 1980 [III; 12])
«Исторический» вариант мотива одиночества – отчуждение героя от нового поколения, вступающего в жизнь. По-видимому, он сформулирован впервые в стихотворении «1972 год»:
Смрадно дыша и треща суставами,
пачкаю зеркало. Речь о саване
еще не вдет. Но уже те самые,
кто тебя вынесет, входят в двери.
Здравствуй, младое и незнакомое
племя! Жужжащее, как насекомое,
время нашло наконец искомое
лакомство в твердом моем затылке.
(II; 290)
Пушкинское выражение «Здравствуй, племя, младое, незнакомое!» («…Вновь я посетил…») приобретает в новом контексте горько-иронический смысл: Пушкин говорил о преемственности поколений (их символизируют старые и молодые деревья) и приветствовал их смену как неизбежный и справедливый закон бытия; Бродский пишет о новом поколении как о могильщикахлирического героя.
Оппозиция «мир ценностей лирического героя – „варварские“ ценности нового поколения, культивирующего жестокость и презирающего человеческую личность» организует стихотворение «Сидя в тени» (1983):
Я смотрю на детей,
бегающих в сапу.
II
Свирепость их резвых игр,
их безутешный плач
смутили б грядущий мир,
если бы он был зряч.
<…>
VII
После нас – не потоп,
где довольно весла,
но наважденье толп,
множественного числа.
<…>
VIII
Ветреный летний день.
Запахи нечистот
затмевают сирень.
Брюзжа, я брюзжу как тот,
кому застать повезло
уходящий во тьму
мир, где, делая зло,
мы знали еще – кому.
(III; 71–73)
Дети изображены как «враги» уходящего поколения, как те, кто вытесняет старших из жизни, убивает их:
XIII
<…>
Как бы беря взаймы,
дети уже сейчас
видят не то, что мы;
безусловно не нас.
(Там же [III; 74]) [42]42
Одна из примет тоталитарного государства для Бродского – именно вражда «детей» к «отцам»:
Входят строем пионеры, кто – с моделью из фанеры,кто – с написанным вручную содержательным доносом.С того света, как химеры, палачи-пенсионерыодобрительно кивают им, задорным и курносым,что врубают «Русский бальный» и вбегают в избу к тятевыгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати.(«Представление», 1986 [III; 118]) Будущее в поэтической интерпретации Бродского – повторение «варварского» прошлого: «То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит» (Там же [III; 118]).
В «Представлении», как и в других текстах Бродского, мотив «племени младого, незнакомого» выражен посредством цитат из Пушкина, приобретающих в новом контексте иронический смысл: таковы реминисценции из «Утопленника» («Тятя! тятя! наши сети / притащили мертвеца» – [III; 70]) и из «Во глубине сибирских руд…» (Пушкин обещает друзьям-узникам близкое освобождение, Бродский предрекает «темное прошлое»).
[Закрыть]
Загорелый подросток, выбежавший в переднюю,
у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах.
(«Август», 1996 [IV (2); 204])
В противоположность Пушкину, уподобляющему новое поколение молодым деревьям, Бродский противопоставляет «подростков» деревьям; их существование ассоциируется с гибелью, с вырубкой деревьев:
Теперь всюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев.
(«Fin de siècle», 1989 [III; 191])
Оппозиция «лирический герой (его поколение) – новое поколение» имеет у Бродского глубокий культурный смысл. Сверстники лирического героя – последнее поколение, живущее ценностями высокой культуры. «…Нынешнее дело – дело нашего поколения; никто его больше делать не станет, понятие „цивилизация“ существует только для нас. Следующему поколению будет, судя по всему, не до этого: только до себя, и именно в смысле шкуры, а не индивидуальности. Вот это-то последнее и надо дать им какие-то средства сохранить; и дать их можем только мы, еще вчера такие невежественные. <…> Уже сегодня, перефразируя основоположника, самым главным искусством для них является видео. За этим, как и за тем, стоит страх письменности, принцип массовости, сиречь анти-личности. И у массовости, конечно, есть свои доводы: она как бы глас будущего, когда этих самых себе подобных станет действительно навалом – муравейник и т. п., и вся эта электронная вещь – будущая китайская грамота, наскальные – верней, настенные живые картинки. Изящная словесность, возможно, единственная палка в этом набирающем скорость колесе, так что дело наше – почти антропологическое: если не остановить, то хоть притормозить подводу, дать кому-нибудь возможность с нее соскочить» (из письма Я. А. Гордину, июль 1988 г.) [43]43
Цит. по кн.: Гордин Я.Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. С. 224.
[Закрыть].
Мотив изоморфности мира и текста (языка)
Сходство структуры бытия, космоса, и текста (языка) – инвариантный мотив Бродского, родственный представлениям барокко о мире как о совершенном творении – произведении Бога – непревзойденного художника. Этот мотив объясняет поэтику неразличения знаков и вещей у Бродского, но эксплицирован лишь в нескольких поэтических текстах: «Воздух – вещь языка. / Небосвод – хор согласных и гласных молекул, / в просторечии – душ» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» [II; 330]); «Всё – только пир согласных / на их ножках кривых» («Строфы», 1978 [II; 457]). Слово, человек и вещь у Бродского одновременно и противопоставлены, и сходны. Они взаимообратимы. Этот мотив был подробно проанализирован В. П. Полухиной, и я позволю себе на нем более не останавливаться [44]44
Polukhina V.Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge; New York; Port Chester; Melbourne; Sydney, 1989. P. 169–181 (гл. «Man – word – spirit»).
[Закрыть].
Мотив мира – театра.
Этот «барочный» мотив, родственный представлению о мире-тексте, развернут в нескольких стихотворениях Бродского 1990-х гг. В «Храме Мельпомены» (1994) он принимает форму представления о жизни как игре, о существовании человека как роли:
Мишель улыбается и, превозмогая боль,
рукою делает к публике, как бы прося взаймы:
«Если бы не театр, никто бы не знал, что мы
существовали. И наоборот!» <…>
(IV (2); 165)
Представление о природном мире, космосе как о театре, оперном зале воплощено в поэтике сравнений стихотворения «Я проснулся от крика чаек в Дублине» (1990):
Облака шли над морем в четыре яруса,
точно театр навстречу драме
<…>
Крики дублинских чаек! <…>
<…>
раздирали клювами слух, как занавес.
(IV (2); 77)
В «Театральном» (1994–1995) театр, драматическое действо – материализованная метафора Истории [45]45
Ср. ранее в «Каппадокии» (1993): местность, поле сражения воинов Суллы и Митридата как «гордый бесстрастный задник истории» (III; 233).
[Закрыть]; в стихотворении «Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию…» (1995) овеществленной метафорой бытия является цирк. Еще один вариант: мир театр кукол, небожитель (Бог или ангел) именуется «одной из кукол, // пересекающих полночный купол» («Разговор с небожителем», 1970 [II; 214]); жизнь людей – кукольной драмой: «они [вещи. – А.Р.] наслаждаются в паузах драмой из жизни кукол, / чем мы и были, собственно, в нашу эру» («Кентавры I», 1988 [III; 163]); «Потому что у куклы лицо в улыбке, / мы, смеясь, свои совершим ошибки» («Песня невинности, она же – опыта», 1972 [II; 304]) [46]46
Этот мотив воплощен и в образе распотрошенной и повешенной сушиться после склеивания куклы («Однажды во дворе на Моховой…», 1960-е гг.); образ подвергаемой мучениям куклы как знак жестокости людей и абсурдности существования восходит к стихотворению Иннокентия Анненского «То было на Валлен-Коски» (этот же мотив варьируется в стихотворении Бродского «Феликс» (1965).
[Закрыть].
Мотив мира – театра реализован также в сравнениях и в метафорах занавеса, партера, кулисы и шапито: «Вверх взвивается занавес в местном театре» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» [II; 323]); «Пустота раздвигается, как портьера» («К Урании», 1982 [III; 64]); «И когда тебя ищут в партере» («Памяти Геннадия Шмакова» [III; 180]); «Льдина не тает, точно пятно луча, / дрейфуя в черной кулисе, где спрятан полюс» («Памяти Клиффорда Брауна», 1993 [III; 216]); «Сворачивая шапито, / грустно думать <…>» (= приближаясь к смерти) («Тритон», 1994 [IV (2); 191]).
Мотив мира – театра и жизни человека – роли объясняется у Бродского представлением об отчуждении «Я» от самого себя, когда жизнь воспринимается как некая пьеса, а твое предназначение – как игра актера, усвоение заданного амплуа.
Мотив воды (моря) – колыбели жизни.
Этот мотив развернут в стихотворениях Бродского «Прилив» (1981) и «Тритон» (1994). В других текстах сохраняются его знаки – уподобление или самоотождествление лирического героя с рыбой, отождествление человека вообще с рыбой («как здесь били хвостом» – метафора венецианской жизни и угорь и камбала как метафоры улиц и площадей в «Венецианских строфах (1)», 1982 [III; 52]); наделение земного существования атрибутами моря: «<…> фиш, а не вол в изголовье встает ночами, / и звезда морская в окне лучами / штору шевелит, покуда спишь» («Лагуна», 1973 [II; 318]) [47]47
Образ восходит к мандельштамовскому стихотворению «Сохрани мою речь навсегда та привкус несчастья и дыма…», в котором также обыграна полисемия слова «звезда»: «Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, / Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда» ( Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 203). И у Бродского, и у Мандельштама звезды – рождественские. Но у Бродского звезда видна в окне (морское, водное, созерцаемое на земле), а у Мандельштама звезда отражается в воде (небесное, отражаемое в водном).
Начальную строку этого стихотворения Мандельштама Бродский цитирует также в «Колыбельной Трескового мыса» (1975): «Сохрани на холодные времена / эти слова, на времена тревоги!» (II; 361).
[Закрыть].
Мотив будущего как далекого прошлого.
Грядущее интерпретируется Бродским как наступление доисторического прошлого, как наступление эры варварства, оледенения, ископаемых чудовищ или времени, когда земля была покрыта водой и ее обитателями были моллюски:
<…> Дымят
ихтиозавры грязные на рейде.
(«Зимним вечером в Ялте», 1969 [II; 141])
Грядущее настало <…>
<…>
Когда-нибудь оно, а не – увы —
мы, захлестнет решетку променада
и двинется под возгласы «не надо»,
вздымая гребни выше головы,
туда, где ты пила свое вино,
спала в саду, просушивала блузку,
– круша столы, грядущему моллюску
готовя дно.
(«Второе Рождество на берегу…», 1971 [II; 264])
Пахнет, я бы добавил, неолитом и палеолитом.
В просторечии – будущим. Ибо оледенень
есть категория будущего <…>
(«Вертумн», 1990 [III; 203])
В соответствии с представлением о движении мира к первобытному, доисторическому состоянию технические достижения, в частности военные машины, метафорически описываются как схватка допотопных чудовищ:
Атака птеродактилей на стадо
ихтиозавров.
Вниз на супостата
пикирует огнедышащий ящер —
скорей потомок, нежели наш пращур.
Какой-то год от Рождества Христова.
<…>
Гостиница.
И сотрясает люстру
начало возвращения к моллюску.
(«Морские маневры», 1967 [II; 40]) [48]48
Образ военных машин – ископаемых чудовищ перекликается с перифрастическим описанием танка как «ящера до потопа» в поэме Велимира Хлебникова «Ночь в окопе» ( Хлебников Велимир.Творения. М., 1986. С. 277). Впрочем, близок к этому образу и образ ледоколов в стихотворении Н. А. Заболоцкого «Север», которые «Как бронтозавры каменного века, / <…> прошли созданья человека» ( Заболоцкий Н. А.Стихотворения. Поэмы. Тула, 1989. С. 169).
[Закрыть]
Ископаемые чудовища в поэтическом мире Бродского ассоциируются именно с будущим, а не с прошлым: не случайна повторяющаяся (или автоцитатная) рифма «динозавра – завтра / послезавтра» («Строфы», 1978 [II; 460]; «Элегия», 1982 [III; 68]), «ихтиозавра – завтра» («Кентавры И», 1988 [III; 164]), парадоксально связывающая друг с другом слово с коннотациями «далекое прошлое» и слово, означающее «то, что произойдет в будущем» [49]49
Ср. повторяющийся образ ихтиозавра в «Элегии» (1988): «Эволюция – не приспособлена вида к незнакомой среде, но победа воспоминаний // над действительностью. Зависть ихтиозавра к амебе» (III; 173).
[Закрыть].
Будущее лирического героя и его современников представлено у Бродского как превращение в экспонаты, в достояние археологии, в «перегной» и «культурный пласт», то есть изображается не с позиции настоящего, а с позиции стороннего наблюдателя, для которого лирический герой и его время – далекая древность (двойчатка «Торс», 1972 – «Бюст Тиберия», 1985, и двойчатка «Только пепел знает, что значит сгореть дотла», 1986, и «Византийское», 1994).
Поэтический словарь.
Основу поэтического словаря Бродского образуют инвариантные, повторяющиеся образы, устойчивыми реализациями которых могут быть поэтические формулы. Число повторяющихся образов в поэзии Бродского очень велико. Вот перечень некоторых из них [50]50
Устойчивый словарь автора, по-видимому, не исключение, а закономерность. Современные структурально-семиотические исследования свидетельствуют о несомненной плодотворности изучения и описания творчества одного писателя как единого инвариантного текста; на материале русской литературы это работы А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова, Б. М. Гаспарова и Ю. К. Щеглова (при всех существенных отличиях). Блестящий пример анализа инвариантов – статья Ю. И. Левина «Инвариантный сюжет лирики Тютчева» в кн.: Тютчевский сборник: Статьи о жизни и творчестве Федора Ивановича Тютчева. Таллинн, 1990. С. 142–206. Повторение поэтом одних и тех же выражений, словесных формул – черта также не уникальная, хотя, кажется, и намного более редкая. Еще в 1920-х гг. В. Ф. Ходасевич заметил о Пушкине: «Он был до мелочей бережлив и памятлив в своем поэтическом хозяйстве. Один стих, эпитет, рифму порою берег подолгу и умел, наконец, использовать. Примеров этой экономии можно бы привести очень много» ( Ходасевич В. Ф.Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 418–419). Примерно в то же время Л. В. Пумпянский указал на повторяющиеся словесные формулы у Ф. И. Тютчева (Поэзия Ф. И. Тютчева // Пумпянский Л. В.Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 220–227).
Тем не менее повторяемость образов и поэтических формул выделяет поэзию Бродского на фоне произведений других стихотворцев. Во-первых, доля повторяющихся образов у Бродского очень высока и они часто воплощаются в одних и тех же поэтических формулах (что совершенно не обязательно для других поэтов). Во-вторых, поэтические формулы Бродского достаточно сложны и резко индивидуальны и одновременно очень устойчивы. Ниже приводятся лишь наиболее частотные повторяющиеся образы и только те поэтические формулы, в которых реализуются эти инвариантные образы. Число поэтических формул у Бродского, конечно, намного больше.
[Закрыть].
Средства обозначения, описания лирического «Я», его существования в бытии. [51]51
Об автоописании у Бродского см. также: Полухина В.1) Поэтический автопортрет Бродского // Russian Literature. 1992. Vol. XXXI–III. P. 375–392 (ср. в изд.: Иосиф Бродский: Творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 145–153); 2) Ландшафт лирической личности в поэзии Иосифа Бродского // Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Amsterdam, 1993. P. 229–245; 3) «Метаморфозы „Я“ в поэзии постмодернизма: двойники в поэтическом мире Бродского» // Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре (= Slavica Helsingiensia. Т. 16). Helsinki, 1996; Кузнецов С.Иосиф Бродский: тело в пространстве // Начало: Сборник статей. Вып. 3. М., 1995.
[Закрыть]
Телесная сфера: ВОЛОСЫ (коннотации: выпадение, седина – старение),БРОВЬ (коннотации: удивление),ГОРТАНЬ (коннотации: дыхание, жизнь, говорение, поэзия, слово) [52]52
Гортань – рот у Бродского также поэтическая формула,описывающая подворотню и подъезд, гортань которого воспалена: «Двери вдыхают воздух и выдыхают пар <…>»; «Тело в плаще, ныряя в сырую полость / рта подворотни, по ломаным, обветшалым, / плоским зубам поднимается мелким шагом»; «к воспаленному нёбу <…>»; «Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери / хлопают во Флоренции» (все примеры из стихотворения «Декабрь во Флоренции», 1976 [II; 383, 384]); «Там и сям слезающая штукатурка / обнажает красную, воспаленную кладку» («Сан-Пьетро», 1977 [II; 428]); «и подъезды, чье нёбо воспалено ангиной / лампочки, произносят „а“» («Венецианские строфы (1)», 1982 [III; 52]);. «<…> верней, из воспалившихся гортаней / туннель в психологическую даль» («На выставке Карла Вейлинка», 1984 [III; 90–91]). Вариация этой поэтической формулы – щитовидка и сыпь подъезда: «<…>помню штукатурку / в подъезде, вздувшуюся щитовидку / труб отопленья вперемежку с сыпью / звонков <…>» («Памяти Н. Н.», 1993 [III; 245]); «Кнопка дверного замка – всего лишь кратер / в миниатюре, <…> и подъезды усыпаны этой потусторонней оспой» («На виа Фунари», 1995 [IV (2); 198]). Среди источников образа гортани – поэзия Мандельштама: «Пою, когда гортань сыра, душа суха…» ( Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 268).
[Закрыть], ЗРАЧОК, СЕТЧАТКА. Пример поэтических формул. Гортань, благодарящая судьбу:«гортань… того… благодарит судьбу» («Двадцать сонетов к Марии Стюарт», 1974 [II; 338]) – благодарность амбивалентна, сорное словечко «того» (восходящее к косноязычной речи Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели») передает затрудненность речи, благодарность выговаривается с усилием и с насилием говорящего над собой; «Но пока мне рот не забили глиной, // из него раздаваться будет лишь благодарность» («Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 1980 [III; 7]) – благодарение лишено явной иронии. Слюна во рту.Ее коннотации – жизнь (водная стихия), поэзия, свобода.«Свобода – / это когда забываешь отчество у тирана, / а слюна во рту слаще халвы Шираза» («Я не то что схожу с ума, но устал за лето…» [II; 416]); «сорвись все звезды с небосклона, / исчезни местность, / все ж не оставлена свобода, / чья дочь – словесность. / Она, пока есть в горле влага, / не без приюта» («Пьяцца Маттеи», 1981 [III; 28]). В несвободном мире «<…> слюну леденит во рту» («Лагуна», [II; 319]). Одновременно, в соответствии с поэтикой самоотрицания и семантической амбивалентности, слюна ассоциируется и со смертью, с ощущением от медной монеты – обола, вкладываемой в рот умершему как плата Харону, перевозчику в царство мертвых: «и слюна, как полтина, // обжигает язык» («Эклога 4-я (зимняя)» [III; 18]). Рот – развалины /кариес:«В полости рта не уступит кариес / Греции Древней, по крайней мере» («1972 год», 1972 [II; 290]); «Мой рот оскален / от радости: ему знакома / судьба развалин» («Пьяцца Маттеи», 1981 [III; 27]). Эта же формула применена и по отношению к героине стихотворения «Э. Ларионова» (цикл «Из школьной антологии», 1969): «Она любила целоваться. Рот / напоминал мне о пещерах Карса» (II; 105) – Карсздесь окказиональный синоним, замена фонетически почти тождественного кариеса.
Одежда: КАБЛУК [53]53
Источник строки Бродского «Как давно я топчу, видно по каблуку…» (III; 141) – мандельштамовские стихи «Еще он помнит башмаков износ – / Моих подметок стертое величье» (Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 270). С. Кузнецов обратил внимание на другую перекличку в текстах Бродского и Мандельштама: исследователь замечает, что мандельштамовский образ «И меня срезает время, как скосило твой каблук» – это образ, «возможно, служащий подтекстом для „Как давно я топчу, видно по каблуку…“» ( Кузнецов С.Распадающаяся амальгама (О поэтике Бродского) // Вопросы литературы. 1997. № 5/6. С. 41).
[Закрыть], ПАЛЬТО.
Символы лирического героя (человека); образы «Я» в тексте.
Я – МАЯТНИК / ЧАСЫ (вариант: ЧЕЛОВЕК – МАЯТНИК / ЧАСЫ, ВЗГЛЯД – ЦИФЕРБЛАТ). Инвариантное уподобление, присущее поэзии Бродского от 1960-х и до конца 1980-х гг. Коннотации: ощущение времени человеком, страх времени и смерти, несвобода.Сложная, «двойная» метафора в стиле барочного консептизма: человек (Я) – часы – кузнечик.«Часы стрекочут» («Загадка ангелу», 1962 [I; 208]), «И в потемках стрекочет огромный нагой кузнечик, / которого не накрыть ладонью» («Восходящее желтое солнце следит косыми…», 1980 [III; 19]). Механизм метафоризации: часы=кузнечик (метафора, восходящая к мандельштамовскому стихотворению «Что поют часы-кузнечик…», в свою очередь варьирующему образ часов – стальной цикады из «Стальной цикады» Иннокентия Анненского) + человек=часы (метафора, соотнесенная с метафорами сердца-часов в «Будильнике» и «Стальной цикаде» Анненского. Основа уподобления – сердце, бьющееся подобно часам и отмеряющее время (образ, перекликающийся с образами из романа Роберта Музиля «Человек без свойств» [54]54
<…> «в следующие мгновенья Ульриху казалось, что он чувствует в груди у себя два сердца; так в мастерской часовщика тикают, перебивая друг друга, часы» (часть 2, гл. 63). – Музиль Р.Человек без свойств: Роман / Пер. с нем. С. Апта. Кн. 1. М., 1994. С. 305.
[Закрыть]и романа М. Пруста «У Германтов» [55]55
<…> «Предвестник пробуждения, тикающий в нас внутренний будильник» – сердце ( Пруст М.В поисках утраченного времени. Т. 3. У Германтов / Пер. с фр. Н. М. Любимова. М., 1992. С. 70).
[Закрыть]). Итоговая метафора – человек=кузнечик=часы. Примеры метафоры / сравнения «человек-часы (маятник)»: «Ты маятник <…> от яслей до креста <…> твоя душа прекрасный циферблат» («Зофья», 1962 [I; 182]), «Маятник о двух ногах…» (одноименное стихотворение, 1965 [I; 424]), «как маятником, колотясь / о стенку головой жильца» («Взгляни на деревянный дом», 1991 [III; 223]). Первоисточник этого образа – вероятно, стихотворение Анненского «Тоска маятника», в котором маятник уподоблен сумасшедшему.
Я – МЫШЬ. Коннотации: принадлежность к иному, отличному от человеческого, миру, изгойство, мизерность, незначительность, поэтический дар. Поэтическая формула, грызун словаря.«<…> жил, в чужих воспоминаньях греясь, / как мышь в золе, / где хуже мыши / глодал петит родного словаря» («Разговор с небожителем», 1970 [II; 208]); «Ябыл не лишним ртом, но лишним языком, / подспудным грызуном словарного запаса» («Письмо в оазис», 1991 [IV (2); 110]). Вариация этой поэтической формулы: язык (буква) – крыса.«Язык, что крыса, копошится в соре» [56]56
Эта строка содержит аллюзию на ахматовские стихи о рождении поэзии: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи <…>» («Мне ни к чему одические рати…». – Ахматова Анна.Стихотворения и поэмы. Л., 1977. С. 202).
[Закрыть](«Двадцать сонетов к Марии Стюарт», 1974 [II; 344]); «хвост дописанной буквы – точно мелькнула крыса» («Римские элегии», 1981 [III; 47]). Литературные истоки: образ мыши в античной мифологии, в поэзии Пушкина и Ходасевича [57]57
Подробнее об этом – в главе «„Скрипи, мое перо…“: реминисценции из стихотворений Пушкина и Ходасевича в поэзии Бродского».
[Закрыть].
Я – ПТИЦА (варианты: Я – ВОРОНА ГРАЧ, ГУСЬ, КОЧЕТ, ЯСТРЕБ). Инвариантное уподобление, присущее поэзии Бродского от 1960-х гг. и до последних лет. Коннотации: свобода, панорамный, отрешенный взгляд на мир, поэзия, жертва (времени, женщины).Одновременно, в соответствии с поэтикой самоотрицания и семантической амбивалентности, ПТИЦА может быть противопоставлена Я (ЧЕЛОВЕКУ): «Садовник в ватнике, как дрозд…» (1964), «Что ты делаешь, птичка, на черной ветке…» (1993).
Я – ПЧЕЛА (вариант: ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ПЧЕЛА). Инвариантное уподобление, присущее поэзии Бродского 1990-х гг. (В стихотворении «На смерть друга», 1973, вариант «Понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке» [II; 332] – адресат здесь подобен Я.) «И если бывает на свете пчела без улья / с лишней пыльцой на лапках, то это ты» («О если бы птицы пели и облака скучали…» [IV (2); 166]); «Вообще, герой / отступает в трагедии на второй / план. Не пчела, а рой / главное!» («Театральное» [IV (2); 184]) [58]58
Образ пчелы имеет у Бродского пейоративные коннотации, когда пчела ассоциируется с роем, обозначает коллективное начало, подавляющее личность (этот образ – трансформация «роевой жизни» из «Войны и мира» Льва Толстого: «Жужжание пчелы там [в Советской деспотии. – А.Р.] главный принцип звука» («Пятая годовщина (4 июня 1977)»[II; 419]).
[Закрыть]; «Где-то гудит пчела» [в городе-улье] («Август», 1996 [IV (2); 204]). Вариация: «пчел, позабывших расположена ульев / и улетевших к морю покрыться медом» («Римские элегии», 1981 [III; 43]) [59]59
«Перевернутый» вариант этой поэтической формулы содержится в первой строке стихотворения «Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне…» (1989). Но здесь «пчелы» отсылают к особенному означаемому – пчелам на гербе рядом с кафе «Яникулум»: «Совершенно верно, „пчелы“ – из герба Барберини на этой арке ворот Сан Панкрацио, а „всадник“ – Гарибальди из соседнего парка. Там вообще много зашифровано и завуалировано <…>» ( Бродский И. А.Комментарии // Бродский И.Пересеченная местность: Путешествия с комментариями / Сост. и автор послесл. П. Вайль. М., 1995. С. 179).
[Закрыть]. Коннотации: одиночество, поэтический дар, отвергнутый, ненужный поэтический дар.Литературные истоки: уподобление поэта пчеле – диалог Платона «Ион», ода Горация (IV; 2), Бальмонт («Вязь, 1», «Вязь, 2», «Сохраненный янтарь…»), Вячеслав Иванов, Мандельштам («На каменных отрогах Пиэрии…» [60]60
См. об этом образе в мировой литературе и в русской поэзии Серебряного века: Nilsson. N. A.Osip Mandel’stam and his Poetry // Scando-Slavica. 1963. Т. IX. P. 48; Тарановский К.Очерки о поэзии О. Мандельштама. С. 125–126 и прим. 23 на с. 156.
[Закрыть]).