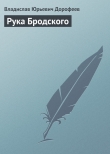Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Следуя пушкинскому пониманию права поэта на благодарность потомков, Бродский совсем иначе представляет посмертную жизнь стихотворца. И у Горация, и у Пушкина тленной «части» поэта противопоставляется «часть», которая должна избежать уничтожения: «Non omnis moriar, multaque pars mei / Vitabit Libitinam»; «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит <…>» (III; 340). Пушкинская формула бессмертия «не находит себе соответствия в многовековой традиции, стоящей за „Памятником“, она индивидуально-пушкинская и несомненно главная для стихотворения, составляет его смысловой центр. <…> Здесь найден ответ на самый мучительный вопрос последних лет: каков „спасенья верный путь“, какспасется душа, если спасется. Судьба у поэта „необщая“, душа его неотделима от лиры и именно в лире переживет его прах» [378]378
Сурат И. 3.Жизнь и лира. О Пушкине: статьи. М., 1995. С. 153–154.
[Закрыть]. Пушкин впервые ввел в стихотворение, принадлежащее традиции Горациевой оды «К Мельпомене», слово «душа» [379]379
Отмечено С. Г. Бочаровым. См.: Бочаров С. Г.О художественных мирах. М., 1985. С 74.
[Закрыть]. С этим словом он ввел также и «тему личного бессмертия, не какого-то особого, метафорического бессмертия поэта, а истинного бессмертия в его религиозном смысле. Также он первым ввел сюда и тему „веления Божия“ <…>» [380]380
Сурат И. 3.Жизнь и лира. С. 156.
[Закрыть]. Образ поэта у Пушкина сакрализован, и поэтическое бессмертие мыслится как отражение и подобие бессмертия Христа: «„Нерукотворный“ это ведь не просто „духовный“, „нематериальный“; этим словом определяется в Новом Завете лишь то, что сотворено Богом, а Пушкин претворяет евангельский мотив в лирическое высказывание от первого лица <…>. Тут сразу задана та царственная надмирность поэта („вознесся выше он“), которая ощущается и дальше, в каждой строфе „Памятника“. Прав Дэвид Хантли, что уже само это особое, лишь однажды употребленное Пушкиным слово „устанавливает связь между делом поэта и делом Христа“» [381]381
Там же. С. 152; цитируется статья: Huntly D.-G.On the Source of Pushkin’s nerukotvornyj…// Die Welt der Slaven. 1970. Jg. 15. Heft. 4. S. 362. Ср. замечания О. А. Проскурина: «Творчество как нерукотворный памятник – в контексте поздней пушкинской поэзии логическое развитие темы Imitatio Christi»; «<…> постисторический финал имплицитно подразумевается в „Памятнике“. Формула „всяк сущий в ней язык“ – резкий, как бы курсивный библеизм – отсылает, помимо прочего, к пасхальному песнопению: „Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав“. Грядущая слава поэта должна соединиться с грядущей Славой Христовой, а путь „подражания Христу“ – завершиться в эсхатологической вечности» ( Проскурин О. А.Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 290, 300).
[Закрыть].
Христианские коннотации пушкинского образа памятника и стремление вписать вариацию античного, горациевского текста в христианскую традицию привели, однако, к идее, не соответствующей ортодоксальному пониманию спасения и оправдания: основанием для бессмертия оказывались не христианские добродетели, а поэтическое призвание. Бессмертие связывалось с «лирой», и потому у читателей могло зародиться представление, что вне «заветной лиры», не для «пиита» бессмертие проблематично.
Бродский противопоставляет пушкинскому мотиву ортодоксальную трактовку темы оправдания. «Душа» живет и после смерти поэта, но не потому, что это именно душа поэта.Творческий дар покойной Анны Ахматовой ценит и прославляет младший поэт – Бродский, но текст нигде не утверждает связь бессмертия и стихотворства. Пушкин, вслед за Горацием, противопоставлял смертную и бессмертную «части». Бродский обращается к привычной христианской антитезе «душа – тело (часть тленная)»: душа едина и неразделима, она не именуется частью, «часть» – тело, бренное и, когда его оставляет душа, лишенное божественного начала.
Отстраняясь от самовозвеличивающей горациевско-пушкинской традиции, Бродский прославляет не себя, но умершего старшего поэта. Как тот «пиит», который, как утверждал Пушкин, будет хранить память о нем «в подлунном мире».
* * *
В поэтической памяти Бродского Пушкин – другое имя самой словесности. Показательны именования в «Эклоге 4-й (зимней)» (1980) «Евгения Онегина» (Бродский цитирует строку «Шалун уж заморозил пальчик» из второй строфы пятой главы) просто «русским стихотвореньем» ([II; 15]; завершающие эклогу строки напоминают заключительные стихи пушкинской «Осени»), а самого Пушкина в стихотворении «К Евгению» – просто «поэтом». Пушкинская поэзия для Бродского – это сущность русской поэзии вообще, ее квинтэссенция, а имя Пушкина – другое имя самой словесности. Если память находит книгу, то это будет книга Пушкина:
память бродит по комнатам в сумерках,
точно вор, шаря в шкафах, роняя на пол роман…
(«Келломяки» [III; 61])
Память ищет прожитую жизнь и находит роман – вероятно, пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин»: ведь именно его автор завершил свое сочинение метафорой «роман жизни».
Пушкинская поэзия для Бродского – классический фон, высшая форма поэтического языка как такового. Поэтому неизменно и повторяющееся обращение Бродского к пушкинским стихам, и их «переписывание». Пушкин сказал главное, наметил, пусть вчерне, основы и образец для русского стихотворства. И Бродский пишет поверх пушкинских «черновиков», борясь с их автором, оспаривая его и именно этим признавая его заслуги и место в русской поэзии.
2. «На манер серафима…»: реминисценции из «Пророка» Пушкина в поэзии БродскогоВ большинстве случаев реминисценции из пушкинских текстов у Бродского указывают на темы и мотивы, общие для обоих поэтов, но иногда различно ими трактуемые. Одна из таких тем – тема творчества, выраженная в нескольких мотивах, в том числе в мотиве поэта-пророка. Реминисценции, «оформляющие» этот мотив, отсылают к «Пророку» Пушкина Цитируются два наиболее сильно маркированных фрагмента в пушкинском стихотворении: преображение, физическое мучительное «пересоздание» героя стихотворения серафимом как условие пророческого призвания («И шестикрылый серафим / На перепутье мне явился»; «И он к устам моим приник, / И вырвал грешный мой язык, / И празднословный, и лукавый» [II; 304]) и призыв Бога к пророку («Глаголом жги сердца людей» [II; 304]). Дважды «Пророк» цитируется в стихотворении «Разговор с небожителем» (1970):
уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги
<…>
тебе твой дар
я возвращаю – не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.
Не стану жечь
тебя глаголом, исповедью, просьбой<…>.
(II; 209)
Реминисценции из «Пророка» в «Разговоре с небожителем» закономерны: так же как и пушкинский текст, стихотворение Бродского соотнесено с Ветхим Заветом. Но если Пушкин создает поэтическое переложение Книги пророка Исайи, то Бродский обращается к форме прения с Богом, представленной в Книге Иова. Однако, в отличие от ситуации в этом библейском тексте, слова, которыми лирический герой «Разговора с небожителем» взывает к Господу, остаются без ответа. Сама повествовательная форма произведения выражает мотив, в нем содержащийся: «вся вера есть не более, чем почта / в один конец» (II; 210). Пушкин пишет о встречебудущего пророка с божественным вестником, Бродский – о невозможности такой встречи. Более того, само существование божественного вестника и Бога поставлено под сомнение:
<…> И, кажется, уже
не помню толком
о чем с тобой
витийствовал – верней, с одной из кукол,
пересекающих небесный купол.
(II; 214)
Пророк Пушкина испытывает преображение, обретая новый орган речи ( жало мудрыя змеи); его речь ( глагол)призвана наставить людей. Лирический герой Бродского испытывает затруднения, произнося слова («не владея горлом»), и эти слова он обращает не к другим людям. Они этой речи не поймут, а герой Бродского не ощущает себя истинным пророком. «Уже ни в ком / не видя места, коего глаголом / коснуться мог бы» – эти строки отсылают не к пушкинскому, а к лермонтовскому «Пророку» («Провозглашать я стал любви / И правды чистые ученья: / В меня все ближние мои / Бросали бешено каменья» [I; 333]). Герой «Разговора с небожителем» обращается к самому Богу, лишь его он хотел бы «глаголом коснуться». Но и этого не дано.
Образ сжимающегося горла, комка в горлеповторяется у Бродского многократно: «Горло болевое» («Друг, тяготея к скрытым формам лести…» (1970) [II; 226]); «Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую» («Эклога 4-я (зимняя)» (1980) [III; 14]); «И в горле уже не комок, но стопроцентный еж» («Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел…» (1987) [III; 128]). Горлоу Бродского – орудие поэзии:
Здесь, в ремесле стихотворства
как в состязаньи на дальность
бега, – бушует притворство,
так как велит натуральность
то, от чего уж не деться, —
взгляды, подобные сверлам,
радовать правдой, что сердце
в страхе живет перед горлом.
(«Другу-стихотворцу», 1963 [I; 253]) [382]382
Само название этого стихотворения – цитата из пушкинской поэзии; у Пушкина есть стихотворение «Другу-стихотворцу», однако оно – содержащее шутливое требование отказаться от поэзии – не похоже на эти стихи Бродского. Строки Бродского «дальние горы и эхо каждое слово повторят», «вот и певец возвышает / голос на час, на мгновенье, / криком своим заглушает / собственный ужас забвенья» (I; 253) ведут к другому стихотворению Пушкина – «Эхо».
[Закрыть]
Гортаньявляется метонимией лирического «Я»: «гортань… того… благодарит судьбу» («Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974) [II; 338]) – затрудненная, косноязычная речь в духе гоголевского Акакия Акакиевича в этой строке указывает на инвариантный мотив слова, застревающего в горле.Мотивы затрудненной речи (замерзающего в гортани слова)и разрывавыражены также в стихотворении «Север крошит металл, но щадит стекло…» из цикла «Часть речи» (1975–1976): «И в гортани моей, где положен смех, / или речь, или горячий чай, / все отчетливей раздается снег / и чернеет, что твой Седов, „прощай“» (II; 398). Он варьируется в более позднем стихотворении «Первый день нечетного года. Колокола…»: «Я валяюсь в пустой, сырой, / желтой комнате, заливая в себя Бертани. Эта вещь, согреваясь в моей гортани, / произносит в конце концов: „Закрой окно“» (III; 79). Закрывание окнаозначает отказ от контакта с внешним миром. Напомню также образ рта,изрекающего слова благодарности,из стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980): «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность» (III; 7). О «горловом напоре» голоса говорится в стихотворении «Похож на голос головной убор» (1960-е гг.) (II; 199). Рифма «глаголом – горлом» из «Разговора с небожителем» относится к повторяющимся, ключевым рифмам Бродского. Она встречается в написанном, возможно, ранее стихотворении «Памяти Т. Б.» (1968): «Имя твое расстается с горлом / сдавленным. Пользуясь впредь глаголом, / созданным смертью, <…> сам я считать не начну едва ли, / будто тебя „умерла“ и звали» (II; 83).
Образ замерзающей гортани у Бродского ассоциируется с болью (как и в «Пророке» Пушкина), но также и с самоубийством, с перерезанным горлом – по-видимому, под воздействием строки Владимира Маяковского «горло бредит бритвою» (поэма «Человек») [383]383
Маяковский В. В.Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 72.
[Закрыть]. Так, в стихотворении «В окрестностях Александрии» (1982) разрезанное горло– метафора реки: «Помесь лезвия и сырой гортани, не произнося ни звука, / речная поблескивает излука, / подернутая ледяной корою» (III; 57). Образ перегрызаемого горласодержится в стихотворении «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою» (1980): «простая лиса, перегрызая горло, / не разбирает, где кровь, где тенор» (III; 20) и в подтексте поэмы «Зофья» (1962) (III; 183): «Что будет поразительней для глаз, / чем чувства, настигающие нас / с намереньем до горла нас достать?» (I; 183). Эти строки восходят также к пастернаковскому образу «строчки <…> / Нахлынут горлом и убьют» («О, знал бы я, что так бывает…») [384]384
О, знал бы я, что так бывает,Когда пускался на дебют,Что строчки с кровью – убивают,Нахлынут горлом и убьют!(Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. С. 371)
[Закрыть].
Слово («глагол») в «Разговоре с небожителем», в отличие от «глагола» в пушкинском «Пророке», наделено вещественными, материальными признаками: «глаголом» можно касаться «места». Овеществление слова, приравнивание смысла к означаемому – инвариантный мотив поэзии Бродского [385]385
Приведу лишь два выразительных примера. «Все – только пир согласных / на их ножках кривых»; «Но мы живы, покамест /есть прощенье и шрифт» («Строфы» («Наподобье стакана…») (1978) [II; 457,459]) – шрифтсинонимичен прощениюи, несомненно, метонимически означает Евангелие. «Так родится эклога. <…> кириллица, грешным делом, / разбредясь по прописи вкривь ли, вкось ли, /знает больше, чем та сивилла, / о грядущем» («Эклога 4-я (зимняя)» (1980) [III; 18]) – создание стихотворения изображается как разбредающиеся по бумаге буквы.
[Закрыть]. В «Разговоре с небожителем» этот прием приобретает дополнительный смысл испытания существования Бога сомневающимся человеком. Лирический герой не может коснуться «глаголом» «никого вокруг». Эти слова отнесены к людям, но для героя стихотворения невозможна и встреча с Богом [386]386
Уже после завершения этой работы я познакомился со статьей Сергея Кузнецова «Пушкинские контексты в поэзии Иосифа Бродского» (Studia Russiса Budapestinensia. II–III. Материалы III и IV Пушкинологического коллоквиума в Будапеште 1991, 1993. Budapest, 1995. Р. 223–230), в которой содержатся некоторые наблюдения, сходные с моими выводами: «<…> Происходит как бы инверсия: Бродский говорит, что он (поэт) ни в ком не видит тою, чего бы он мог коснуться, – и тут идет, скорее, отсылка к „Пророку“, то есть не видит сердца, и посему обращается к небожителю, а не к людям; с другой стороны, особо оговаривает, что не собирается „жечь глаголом“ и самого небожителя, – само подобное допущение совершенно нелепо в пушкинской эстетической системе» (Р. 228). В статье также отмечена ироническая реминисценция из «Пророка» в стихотворении Бродского «Письмо генералу Z» (Р. 228) и аллюзии на этот пушкинский текст в «Я был только тем, чего…»: «<…> Пушкинские аллюзии существуют здесь как на уровне „сюжета“, в котором возлюбленная автора играет роль серафима, дарующего поэту органы восприятия мира, так и на лексическом уровне. <…> При этом пушкинский сюжет полностью переосмысливается: „голос“ дан поэту не для того, чтобы он жег сердца людей, а только чтобы окликать возлюбленную» (Р. 229).
Выражаю признательность Е. А. Тоддесу за указание на статью С. Кузнецова и М. О. Чудаковой за возможность ознакомиться с ее текстом.
[Закрыть]. Тактильная метафора «глаголом коснуться» приобретает дополнительный смысл, указывая на евангельский эпизод уверения апостола Фомы, который, чтобы убедиться в воскресении Христа, вложил персты в его раны [387]387
Отношение к Боту в «Разговоре с небожителем» амбивалентно. С одной стороны, лирический герой приемлет страдание и благодарит за него; с другой – благодарение у Бродского заставляет вспомнить лермонтовскую богоборческую жестоко ироническую «Благодарность». Слова о возвращении дарамногозначны: это и жест признательности и благодарения, и жест отказа. Выражение «тебе твой дар / я возвращаю» почти совпадает со словами Ивана Карамазова: «А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно» ( Достоевский Ф. М.Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. XIV. Л., 1976. С. 223) и с парафразой этих слов: «Пора – пора – пора / Творцу вернуть билет» в цветаевских «Стихах к Чехии» ( Цветаева М.Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 350).
О философских мотивах «Разговора с небожителем» см. главу настоящей книги «„…Человек есть испытатель боли“: религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм».
[Закрыть].
Уподобление изрекаемого слова – «глагола» прикосновению Фомы (точнее, невозможности такого прикосновения) содержится также в «Литовском ноктюрне» (1973[74?] – 1983) [388]388
Эта дата написания «Литовского ноктюрна» установлена Т. Венцлова ( Венцлова Т.О стихотворении Иосифа Бродского «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. С. 206).
[Закрыть]: «чтоб вложить пальцы в рот – в эту рану Фомы – / и, нащупав язык, на манер серафима / переправить глагол» (II; 325). По словам Т. Венцлова, «алкоголизм – <…> одна из сквозных тем „Литовского ноктюрна“. Она проводится в юмористически-кощунственном ключе. Религиозные мотивы (рана, в которую вложил персты небесный покровитель адресата [т. е. самого Томаса Венцлова, к которому обращено стихотворение. – А.Р.], апостол Фома <…>), преломленные в культурных контекстах (<…> „Пророк“ Пушкина), преподносятся – как часто бывает у Бродского – шокирующим образом» [389]389
Венцлова Т.О стихотворении Иосифа Бродского «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова». С. 221–222, прим. 47. Т. Венцлова приводит и другой пример из «Литовского ноктюрна», содержащий мотив «алкоголизма»: «в сырой конопляной / многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди / Мать-Литва засыпает над плесом, / и ты / припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной, / пол-литровой груди» (II; 326). Автор статьи проницательно указывает на соотнесенность «Литовского ноктюрна» и с другими пушкинскими текстами – со стихотворениями южного периода о разлуке с друзьями и об изгнании.
[Закрыть]. Действительно, жест, описанный в стихотворении, соотносит изрекаемое слово с насильственно вызванной рвотой. Замена этими строками пушкинских стихов о серафиме основана на фонетическом тождестве слова «вырвать» – «выдрать», «извлечь резким движением» и «вырвать» – «стошнить». Серафим в пушкинском стихотворении «вырвал грешный <…> язык» герою, призванному к пророческому служению, вложив «жало мудрыя змеи в уста замершие». Бродский подразумевает рвоту. Но ключевое слово «вырвать» в этой словесной игре, в кощунственном переиначивании библейского образа из пушкинского «Пророка» Бродский оставляет в подтексте. Оно должно быть разыскано и воссоздано читателем. На него указывает близкое по звуковому облику слово «рот». Оно ассоциируется, в отличие от церковнославянизма «уста» в пушкинском «Пророке», не с духовной, но с физической природой человека. Подобного рода словесная игра – отличительная черта поэтики автора «Разговора с небожителем» и «Литовского ноктюрна».
В стихотворении Пушкина так же, как и в «Литовском ноктюрне», преображение героя серафимом – почти физически ощутимое мучение. Но телесное подчинено духовному. Вот как об этом пишет В. Э. Вацуро:
«Поэтическая тема страдания зиждется на точных, конкретно-чувственных зрительных деталях. „Кровавая десница“ серафима – это уже не бесплотная рука с „легкими, как сон“, перстами. Замершие уста – лишенные языка, речи и обездвиженные жестокой болью. Трепетное сердце – трепещущее, еще живое; отверстая грудь – разрубленная мечом… Картина, если представить ее зрительно, будет почти отталкивающей.
Но Пушкину нигде не изменяет его безошибочный художественный вкус. Он все время сохраняет дистанцию между словесным описанием и зрительным представлением, не допуская, чтобы картина сделалась прямо изобразительной. И здесь он пользуется <…> абстрактностью и многозначностью „высокого“ старославянского слова <…>. „Трепетное сердце“ – это не столько трепещущая живая плоть, сколько „пугливое“ сердце (как в сочетании „трепетная лань“). И „отверстая грудь“ (открытая в глубину) не вызывает прямого зрительного представления о ране – оно как бы подсказано, дано косвенно, намеком. Слова играют своими скрытыми, вторичными значениями, оттенками смысла – то более общими, то более конкретными» [390]390
Вацуро В. Э.Записки комментатора. СПб., 1994. С. 14. Ср. Foryno Jerzy. Введение в литературоведение. Т. 3. Katowice, 1980. С. 112.
[Закрыть].
Автор «Литовского ноктюрна», упоминая о пальцах, вложенных в рот,отказывается от церковнославянских слов с присущим им отвлеченным значением и придает этому жесту почти натуралистическую точность.
Но семантика образа пальцев, вложенных в рот,не ограничивается пародийно-кощунственным значением. В поэтическом коде Бродского гортань– метонимия лирического «Я» и орудие, орган слова. Натуралистически точное описание сохраняет ассоциативную связь «уста – глагол (слово поэта)», заданную Пушкинским «Пророком». Но если у Пушкина поэтический дар и бремя поэта-пророка вручены серафимом, то в «Литовском ноктюрне» образ вестника-серафима отсутствует, и лирический герой сам и шутливо, и серьезно уподобляет себя не только герою «Пророка», но и божественному посланцу. Эта трансформация пушкинского сюжета о пророке объясняется воздействием присущих поэзии Бродского мотивов непреодолимого разрыва между небесным и земным миром, невозможности для лирического героя войти в небесное царство [391]391
Cр. мотив разлуки с любимой и после смерти: ей суждено войти в Рай, ему – пребывать в обители Мрака: «И, чтоб гончим не выдал /—ни моим, ни твоим / адрес мой – храпоидол / или твой – херувим<…>» («Строфы» («На прощанье – ни звука») (1968) [II; 94]).
[Закрыть].
Строки «чтоб вложить пальцы в рот – в эту рану Фомы – / и, нащупав язык, на манер серафима / переправить глагол» не изображают некий реальный жест, а представляют собой стянутые, связанные в «пучок» цитаты из нескольких текстов. Строки не указывают на денотат в предметном мире, но сами творят, создают его. Это чисто словесная формула, лишающаяся смысла вне соотнесенности с текстами, на которые она указывает. Вложенные в рот пальцысоответствуют не только действию, насильственно вызывающему рвоту, но и прикосновению апостола Фомы к ранам Христа, причиненным вбитыми в тело воскресшего Богочеловека гвоздями: «Фома <…> сказал <…>: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. <…> Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Евангелие от Иоанна. 20: 24–29). Бродский подвергает евангельский текст «переписыванию»: герой «Литовского ноктюрна» вкладывает пальцы не в рану Христа, но в собственный рот,который именует ранойне Христа, но Фомы.Выражение «переправить глагол» и указывает на «переписывание» Бродским в «Литовском ноктюрне» и евангельского рассказа об уверении Фомы, и пушкинского «Пророка». С помощью такого приема выражен мотив богооставленности и сомнения в существовании и благости Творца, представленный также и в «Разговоре с небожителем», и во многих других произведениях Бродского. Лирический герой, второй «Фома неверующий», может «вложить персты» лишь в собственную рану, ибо ему не явился и не явится распятый и воскресший Иисус из Назарета.
Но упоминание о вложенных пальцахи именование рта ранойвсе же соотносят лирического героя с Христом, невзирая на прямое сопоставление с апостолом Фомой. Явное уподобление лирического героя Христу, а его ран – ранам (стигматам) Христа встречается не в «Литовском ноктюрне», а в «Разговоре с небожителем»:
и, сжав уста,
стигматы завернув свои в дерюгу,
идешь на вещи по второму кругу,
сойдя с креста.
(XII; 211)
В «Литовском ноктюрне» изображается возвращение лирического героя-изгнанника в покинутый край, которое возможно для него только в обличье призрака. Это призрачное возвращение свидетельствует о невозможности воскресения. В «Разговоре с небожителем» говорится о воскрешении, но распятый и воскресший, подобно Христу, герой, в отличие от Богочеловека, не побеждает грех и не возносится на небо. После воскрешения все продолжается вновь: персонаж стихотворения по-прежнему одинок и отчужден от теснящего его вещественного мира. Мотив страданий и распятия лирического героя у Бродского восходит к поэзии В. В. Маяковского.
Соотнося лирического героя «Литовского ноктюрна» с Христом, Бродский подчеркивает связь поэтического дара со страданием и одновременно утверждает сакральность, святость Слова, и сомневается в ней, облекая свое сомнение в горькую иронию. Пальцы нащупывают в ране ртавсего лишь грубо телесный, осязаемый язык смертного, но не плоть Богочеловека. Бродский отбрасывает пушкинское противопоставление «язык – жало мудрыя змеи». Но этот языкименуется высоким церковнославянским словом «глагол», имеющим не предметный, но духовный смысл. Замена прозаического «языка» поэтическим «глаголом» основана на омонимии слов «язык» – «дар речи» и «язык» – «орган речи». Слово «глагол» наделено в «Литовском ноктюрне» предметным значением «язык во рту». Но его церковнославянская стилистическая окраска и аллюзии на евангельскую историю об уверении Фомы открывают в «глаголе» второе значение, противоречащее первому: «глагол» – это поэтическая речь, подобие Слова – священной плоти Христовой. Но сквозь эти два значения просвечивает, мерцает и еще одно, третье: глагол – всего лишь часть речи, грамматический термин. Именно глагол-часть речи можно «переправить»-исправить [392]392
И в других стихотворениях Бродский придает слову «глагол», восходящему к пушкинскому «Пророку», вещественный, предметный оттенок: «Горы прячут, как снега, / в цвете собственный глагол» («В горах» (1984) [III; 86]).
Глагол, словосоставляют бытийную основу вещественного мира, в том числе и гор, утверждает Бродский. Вместе с тем слово « прятать», соединяемое со словом «глагол», и упоминание в следующем четверостишии о горах, раздевающихся догола, придают глаголу(слову мужского рода) дополнительный признак «мужской половой орган». Такая неожиданная метаморфоза этого образа прослеживается и в стихотворении «Раньше здесь щебетал щегол…» (1981): «Четко вплетался мужской глагол / в шелест платья» (III; 81). Это стихотворение описывает любовную встречу и содержит слегка завуалированные мотивы раздевания («шелест платья», «догола» и «до обоев» раздетый мусор в комнате). Такое неожиданное соединение в одном образе – слове возвышенно-поэтических и приземленных и даже «неприличных» значений часто встречается у Бродского.
[Закрыть].
В «Литовском ноктюрне» переосмыслен также и образ жгущего глаголаиз пушкинского «Пророка». Аллюзия на это стихотворение следует сразу за строками «и, нащупав язык, на манер серафима / переправить глагол», завершающими VIII строфу. Начальные стихи IX строфы подхватывают, продолжают тему «Пророка»:
Мы похожи;
мы, в сущности, Томас, одно:
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.
(II; 325)
Бродский, как и в случае с языкоми глаголом,«материализует» пушкинский образ, придавая ему предметное значение и лишая возвышенного ореола. Метафора огня-глаголаподвергается также ироническому «переписыванию»: жгущий огонь,которым обладает слово пушкинского поэта-пророка, Бродский заменяет коптящимпламенем (эпитет «коптящий» отнесен к адресату «Литовского ноктюрна» поэтуТомасу Венцлова). Автор «Литовского ноктюрна» отбрасывает пушкинский мотив поэта, слово которого жжет«сердца людей». Эпитет «коптящий» напоминает не о палящем и требующем сердечного ответа огне, но о слабом трепетании язычка в керосиновой лампе. Поэт – не пророк, и поэтический дар не может и не стремится преобразить людей, свидетельствует Бродский. Эпитет «коптящий» указывает на гоголевский код. Одно из ключевых слов, которыми Гоголь называет пошлых, ведущих бесцельное существование обывателей, – коптительнеба. Слова «коптитель неба» и «коптящий небо» встречаются во фрагменте «Мертвых душ», характеризующем Андрея Ивановича Тентетникова: «А между тем в существе своем Андрей Иванович Тентетников был не то доброе, не то дурное существо, а просто – коптитель неба Так как уже немало есть на белом свете людей, коптящих небо, то почему же и Тентетникову не коптить его?» («Мертвые души», том второй, глава первая) [393]393
Гоголь Н. В.Мертвые души. Поэма, 1978. С. 307.
[Закрыть]. Этот эпитет в стихотворении Бродского обретает и коннотации, указывающие на несвободу адресата Фитиль– так называли «доходяг» в советских лагерях. Это одно из наиболее часто употребляемых слов в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова, изображающих умирание и убийства зэков в сталинских лагерях. Адресат стихотворения, Томас Венцлова (к началу работы Бродского над «Литовским ноктюрном» еще не эмигрировавший из Литвы), находится за окном, изнутри.Эта преграда между лирическим героем и другом-поэтом представляет своеобразную поэтическую метафору «железного занавеса».
Но семантика образа коптящего поэтав «Литовском ноктюрне» не сводится к иронической и полемической «перелицовке» мифа о пророческом предназначении стихотворца. Очень часто образы в поэзии Бродского строятся на подчеркнутом несоответствии, на разрыве между поверхностным и глубинным значениями. Таков и случай с коптящим поэтом.Полемизируя с пушкинской версией мифа об избрании поэта, Бродский одновременно включает в текст «Литовского ноктюрна» тонкий намек на другой романтический мотив – мотив слова, сжигающего самого поэта.Бродский изображает в стихотворении себя самого в образе призрака, бродящего по Каунасу, – только в этом обличье он, потерявший родину человек, может вновь посетить дорогие места:
Здравствуй, Томас. То – мой
призрак, призрак, бросивший тело в гостинице где-то
за морями <…>
<…> поспешает домой,
вырываясь из Нового Света,
и тревожит тебя.
<…>
Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор.
Выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.
Входит в «Тюльпе», садится к столу.
<…>
Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он
суть твое прибавленье к воздуху мысли
обо мне <…>.
(II; 322, 327, 328)
Сам поэт прямо указывает лишь на один источник образа призрака, набивший оскомину каждому жителю советской «державы дикой»: «Извини за вторженье. / Сочти появление за / возвращенье цитаты в ряды „Манифеста“». Это «Манифест коммунистической партии», написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом и открывающийся словами о призраке коммунизма, который бродит по Европе. Но призрак «Литовского ноктюрна» «вышел» не только из рядов «Манифеста».Он закрался в стихи Бродского также и со страниц книги Афанасия Фета «Вечерние огни». Призрак в «Литовском ноктюрне» появляется на улицах Каунаса поздним вечером и остается до полночного крика петуха. В стихотворении «Светоч» из «Вечерних огней» говорится о ночном призраке, рожденном ночными страхами лирического героя и игрой теней и пламени лесного костра:
Правда, сходство стихотворений Фета и Бродского – внешнее: в обоих упоминаются ночной призрак и огонь. И в «Литовском ноктюрне» и в «Светоче» говорится о призраке, рожденном воображением. Совпадение лишь четче высвечивает отличия этих текстов: Фет подразумевает силу поэтического горения, Бродский пишет о коптящем, слабо светящем поэте. Но о соотнесенности с «Вечерними огнями», ключевые образы которых – поздний вечер, ночь, огоньи свет, – напоминает тема вечера и наступающей ночи, выраженная уже в заглавии [395]395
«Его [ноктюрна – А.Р.] истоки связывают с итальянским nottumo – собранием легких песен для камерного ансамбля, которые обычно исполнялись ночью на природе. Однако типичный ноктюрн существенно отличается от nottumo. Чаще всего это просто медитативная композиция для пианино, которая расплывчато определяется как „вдохновленная мощью“ или „вызывающая в сознании ночь“. <…> Нетрудно заметить, что стихотворение Бродского соотносится с музыкальным ноктюрном, хотя это соотношение можно описать только в самом общем виде: это „ночная“, „медитативная“, „призрачная“ по теме и колориту вещь <…>» ( Венцлова Т.О стихотворении Иосифа Бродского «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова». С. 207).
[Закрыть]«Литовского ноктюрна» и в строке, открывающей третью строфу: «Поздний вечер в Литве» (II; 322), – и повторяющиеся образы, связанные с огнем и светом. Это и «запятые / свечек в скобках ладоней» (II; 322), и звезда, которая «в захолустье / светит ярче» (II; 323), и фонарь, и «коптящий окно изнутри» поэт-адресат. Инвариантный мотив фетовских «Вечерних огней» – власть и сила поэзии, побеждающие или охраняющие от царящей вокруг «ночи»:
Образ свечек-запятыхиз третьей строфы «Литовского ноктюрна» воссоздает традиционное уподобление поэзии свету, огню и даже придает слову и графическому знаку сакральный, религиозный смысл. В ранней поэме Бродского «Исаак и Авраам» свече уподоблялся сам поэт. Свечакак атрибут лирического героя – центральный образ стихотворения «Моя свеча, бросая тусклый свет…»:
Моя свеча, бросая тусклый свет
в твой новый мир, осветит бездорожье.
<…>
И где б ни лег твой путь: в лесах, меж туч —
везде живой огонь тебя окликнет.
<…>
Пусть далека, пусть даже не видна,
пусть изменив – назло стихам-приметам, —
но будешь ты всегда озарена
пусть слабым, но неповторимым светом.
Пусть гаснет пламя! Пусть смертельный сон
огонь предпочитает запустенью.
Но новый мир твой будет потрясен
лицом во сне и лучезарной тенью.
(I; 419)
Отказываясь от пушкинской версии романтического мифа о поэте-пророке, Бродский в «Литовском ноктюрне» хранит приверженность идее о священной роли Слова. Поэтому интерпретация образа коптящего поэтадолжна учитывать весь текст стихотворения. Ирония, заключенная в этом образе, не отрицает второго, серьезного значения: поэтическое слово хотя и не способно «жечь сердца людей», как речи пророка, но тоже может быть названо «огнем».
В стихотворении «Письмо генералу Z» (1968) реминисценция из пушкинского «Пророка» оказывается в совершенно инородном («милитаристском») контексте, что придает ей абсурдный смысл: «Снайпер, томясь от духовной жажды, / то ли приказ, то ль письмо жены, / сидя на ветке, читает дважды» (II; 87). Иронические коннотации пушкинской формулы подчеркивает рифма «жажды – дважды»: метафора «жажда», имеющая возвышенный духовный смысл, рифмуется с прозаически точным исчислением «дважды». Романтический миф о поэте-пророке разрушен, вывернут наизнанку [397]397
Отнесение Бродским к снайперу пушкинских слов о поэте мотивировано, видимо, ассоциацией между ним и птицей – одним из постоянных образов лирического «Я» в стихах автора «Письма генералу Z». Снайпер в стихотворении сидит на ветке.В другом произведении, в «Вороньей песне» (1964), стрелок, «охотник с ружьем и дробью», наоборот, противопоставлен «Я» – птице (вороне).
[Закрыть].
Реминисценция из «Пророка» содержится также в стихотворении «Северная почта» (1964): «Не обессудь / за то, что в этой подлинной пустыне, / по плоскости прокладывая путь, / я пользуюсь альтиметром гордыни» (II; 382). Метафорический образ пушкинской «пустыни мрачной» переводится Бродским в предметный, реальный план, и это подчеркнуто эпитетом «подлинная». Реминисценция из «Пророка» мотивирована сходством судеб двух поэтов: и Пушкин, и Бродский пишут свои стихотворения в ссылке, в северных деревнях (в Михайловском и в Норенском). Но ссылка Бродского тяжелее, поэтому местность, в которой он оказался, – это и есть «подлинная пустыня». В «Северной почте» цитируются также строки из «Евгения Онегина» «Пчела за данью полевой / Летит из кельи восковой» (V; 121), которым неожиданно придается печальный и мрачный оттенок: «Вот так, как медоносная пчела, / жужжащая меж сосен безутешное…>» (I; 382).
К пушкинскому «Пророку» восходит серафимв стихотворении «Муха» (1985): «Увы, с собой их [обои и, шире, вещи. – А.Р.] узор насиженный ты взять не в силах, / чтоб ошарашить серафимов хилых / там, в эмпиреях, где царит молитва, / идеей ритма // и повторяемости, с их колокольни / – бессмысленной, берущей корни / в отчаяньи, им – насекомым / туч – незнакомым» (III; 106). Бродский, оспаривая Пушкина, и здесь утверждает невозможность встречи человека с божественными силами и иронизирует над ангелом – Господним посланником, называя серафимов «хилыми». Эпитет «хилые», возможно, навеян поэзией О. Э. Мандельштама. У Мандельштама он отнесен также к небесному существу, к птице – ласточке: «Научи меня, ласточка хилая, разучившаяся летать <…>» («Стихи о неизвестном солдате») [398]398
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 272.
[Закрыть]. Серафимы принадлежат инобытию, потустороннему божественному миру. Мандельштамовская ласточка связана с миром мертвых [399]399
Гинзбург Л.Поэтика Осипа Мандельштама // Гинзбург Л. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. С. 282–285.
[Закрыть].
Неожиданная вариация образа угля, пылающего огнем,символизирующего в «Пророке» огненное словопоэта, содержится в стихотворении Бродского «Эклога 4-я (зимняя)» (1980): «А потом все стихает. Только горячий уголь / тлеет в серой золе рассвета» (III, 15). Уголь – одновременно и метафора утренней зари, основанная на созвучии слов «уголь» и «утро». Но это также и цитата из «Пророка». Пушкин пишет о преображающем огне вдохновения, Бродский – об угасании огня: тлеет в золе лишь один-единственный уголь. Этот образ Бродского также напоминает о строках из пушкинского стихотворения «Осень»: «Но гаснет краткий день, и в камельке забытом / Огонь опять горит – то яркий свет лиет, / То тлеет медленно – а я пред ним читаю / Иль думы долгие в душе моей питаю» (III; 248). За этими стихами в «Осени» следует описание вдохновенного состояния лирического героя-поэта: «Я забываю мир – и в сладкой тишине / Я сладко усыплен моим воображеньем, / И пробуждается поэзия во мне: / Душа стесняется лирическим волненьем <…>» (III; 248). Созерцание огня в камине погружает пушкинского героя в стихию поэзии, рождает «огонь» вдохновения в его душе. Бродский в «Эклоге 4-й (зимней)», в противоположность автору «Пророка» и «Осени», создает парадоксальный образ одновременно угасающего и разгорающегося огня-угля. Уголь тлеет в серой золе. Серая зола– это останки других, сгоревших дотла углей. Останки былого огня. Это описание напоминает золу в погасшем камине. Такова метафорическая сторона образа. Но его денотат в вещественном, предметном мире – серое рассветное небо, не угасающее, но, наоборот, «загорающееся». Единство этому внутренне противоречивому образу из «Эклоги 4-й (зимней)» придается благодаря еще одному переносному значению. Горячий угольсоотносится с пушкинским «углем, пылающим огнем» и обозначает слабый, гаснущий, но негасимый огонек поэтического слова.