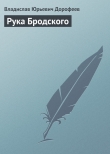Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
«Крылышкуя скорописью ляжек»: авангардистский подтекст в поэзии Бродского. Предварительные наблюдения
Предложенная в заглавии постановка проблемы может на первый взгляд показаться неожиданной, если не надуманной: хорошо известна холодность отзывов Бродского об авангардистских и модернистских поэтических течениях. Среди перечисляемых автором «Части речи» и «Римских элегий» любимых лириков, повлиявших на его творчество, нет имен поэтов авангарда. И все же «авангардистский» след у Бродского несомненен и значим.
Об интересе к поэтике этого течения свидетельствует, например, выбор переводившихся Бродским западнославянских лириков: бесспорные переклички с авангардизмом присущи Константы Ильдефонсу Галчинскому, к этому направлению принадлежит Витезслав Незвал, авангардистские черты свойственны стихотворениям Чеслава Милоша.
Близость, – хотя бы и ненамеренная, но вполне осознаваемая, – Бродского к авангарду возникает уже из-за глубокого усвоения им поэтики барокко (прежде всего, в английском варианте) [634]634
О влиянии английского барокко на Бродского см.: Крепс М.О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor, 1984. С. 43, 196–197, 203. Показательно также обращение Бродского к поэзии Г. Р. Державина, часто относимой исследователями к традиции барокко.
[Закрыть]: барочная и авангардистская, в первую очередь футуристская, поэзия глубоко родственны и по исходным эстетико-культурным предпосылкам и по системе приемов, как показал И. П. Смирнов [635]635
Смирнов И. П.Барокко и опыт поэтической культуры начала XX в. // Славянское барокко: Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979. С. 336–356 и сл.; ср.: Смирнов И. П.Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977. С. 118–144.
[Закрыть].
Кроме того, акмеистская традиция, неоднократно отмечаемая исследователями как источник творчества Бродского (не только очевидные обращения к поэзии Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама, но и менее явные – переклички с М. Кузминым [636]636
На «кузминские» мотивы у Бродского обратила внимание И. Е. Винокурова См.: Винокурова И.Иосиф Бродский и русская поэтическая традиция // Русская мысль. № 3834.9 июля 1990 г. Литературное приложение № 10 (переиздано в кн.: Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 124–128).
[Закрыть]), по мнению И. П. Смирнова, хотя и противоположна в некоторых исходных установках футуризму, во многом родственна футуристской эстетике и поэтике и может быть также отнесена к литературе «исторического авангарда» («постсимволизма»):
«Та элементарная структура, к которой можно возвести поэзию акмеистов, должна быть представлена в виде одного из вариантов инвариантной трансформации, отрезавшей русскую поэзию 1910-х годов от символизма. Специфика акмеистской реакции на символизм состояла в том, что это движение трактовало содержание знака не в роли отдельной вещи, т. е. не как явление, втянутое в гомогенный ряд с замещаемыми посредством знаков объектами, но как иную субстанцию, равноправную по отношению к естественным сцеплениям фактов. Иначе говоря, сигнификативная материя – разного рода культурные комплексы знаков – это, согласно акмеизму, нечто в себе и для себя существующее. Однако и футуристы, и акмеисты исходили при этом из той предпосылки, что содержание текстов лишено идеального характера, субстанциально по своей природе» [637]637
Смирнов И. П.Художественный смысл и эволюция поэтических систем. С. 145–146; ср.: и футуристы, и акмеисты отказались от символистского двоемирия, антиномии идеального мира и действительности, – «отталкиваясь от символизма, участники „Цеха поэтов“ полагали, что материальные тела отнюдь не маскируют собой чистые сущности. Вещи значат то, что они значат в повседневном обиходе, в элементарной культуре, их значение отождествлено с их назначением» (Там же. С. 148, разрядка И. П. Смирнова). См. также: Деринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П.Очерки по исторической типологии культуры: … → Реализм → /…/ → Постсимволизм/Авангард →.… Salzbug, 1982.
«В отличие от футуристов акмеисты мыслили идеальные компоненты знака не как материю, но как форму» (Смирнов И. П.Художественный смысл и эволюция поэтических систем. С. 149).
О чертах сходства у футуризма в лице Хлебникова и у Мандельштама, вслушивавшихся в «зыбкую аморфную субстанцию еще не налившегося смыслом слова», писал в своих мемуарах Б. Лившиц ( Лившиц Б.Полутораглазый стрелец: Воспоминания. М., 1991. С. 96).
[Закрыть].
Согласно И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирнову, в основе поэтики авангарда лежит «особого вида троп (в самом широком значении слова), покоящийся на противоречии» – катахреза [638]638
Деринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П.Очерки по исторической типологии культуры…. С. 73–74 и сл.
[Закрыть]. Как продемонстрировала, в частности, А. Маймескулов, все основные черты «катахрестической» поэтики авангарда свойственны творчеству Марины Цветаевой [639]639
См.: Majmeskutow А.Провода под лирическим током (Цикл Марины Цветаевой «Провода»). Bydgoszcz, 1992.
[Закрыть], особенно высоко ценимому Бродским.
Общей для «исторического авангарда» – для Цветаевой и футуризма (например, Владимира Маяковского) и Бродского – оказывается «метафизическая» отчужденность лирического героя от окружающей его реальности. Напомню о мотивах невстречи и разлуки в любовной лирике Бродского или о таких строках: «<…> Передо мной пространство в чистом виде <…> В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде <…> …забуксовав в отбросах / эпоха на колесах нас не догонит, босых. // Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. / Зане не знаю я, в какую землю лягу…» («Пятая годовщина ( 4 июня 1977 г.) »,1977 [II; 422]).
Встречаются у Бродского и отмеченные И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирновым и А. Маймескулов «авангардистские» (в частности, цветаевские) поэтические представления о изоморфности внешнего мира и мира внутри человеческого тела [640]640
Ср.: «У Маяковского лирический субъект, представленный главным образом как некая телесная конфигурация, вбирая в себя мировое тело, оказывался либо центром „метафизической экспансии“, либо центром „метафизического притяжения“» <…>. – Смирнов И. П.Художественный смысл и эволюция поэтических систем. С. 117.
[Закрыть](«Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку, / и на севере поднимают бровь» – «Колыбельная Трескового мыса», 1975 [II; 355]). Возникает у поэта и образ мира как «ткани», «материи», выделенный И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирновым и в поэзии Пастернака, Маяковского, Цветаевой и Мандельштама [641]641
Деринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П.Очерки по исторической типологии культуры…. С. 90.
[Закрыть]. Напомню о «материи»-ткани в стихотворении «1972 год» и XII тексте и в «Римских элегий», и в «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою…». Родственны «точки зрения» «исторического авангарда» – «постсимволизма» и «панорамное в в и дение» мира в лирике Бродского, взгляд на земной пейзаж с некоей высокой, – «птичьей» или даже «космической» точки (особенно в стихотворениях, вошедших в книгу «Урания»).
Наконец, автору «Части речи» и «Урании» свойственно и авангардистское «неразличение» вещи и ее образа, отражения или зрительного отпечатка. Ключевой образ лирики Бродского – сходящиеся «лобачевские» перспективные линии предметов, замыкающие пространство (символ одиночества – тюрьмы – клетки), – отталкивается не от физических свойств реальности, а от оптической иллюзии, но приписывается пространству и вещам как таковым («Конец прекрасной эпохи», «Колыбельная Трескового мыса» и др.) [642]642
О философском смысле этого образа – концепции пространства см. в главе «„Развивая Платона“: философская традиция Бродского».
[Закрыть]. Укажу еще на уподобление тени, отбрасываемой скалой, некоей черной вещи: «<…> скалы Сассекса в море отбрасывают <…> / длинную тень, как ненужную черную вещь» («В Англии. I. Брайтон-Рок», 1977 [II; 434]).
Но в творчестве поэта обнаруживаются не только приемы и представления, определяемые исследователями как общие особенности «исторического авангарда», но и непосредственные переклички с русскими футуристами. Напомню в этой связи о наблюдении В. П. Полухиной, что образы Бродского обыкновенно строятся не на основе метафоры (как у акмеистов), но по принципу метонимии – как у футуристов и наиболее близких к ним лириков – Велимира Хлебникова, Пастернака, Цветаевой [643]643
Polukhina V.A Study of Metaphor in Progress. Poetry of Joseph Brodsky //Wiener Slawistischer Almanach. 1986. Bd. 17.
[Закрыть].
Несмотря на исходную противоположность эстетических принципов Бродского футуристским, о чем свидетельствуют преимущественная приверженность традиционным формам стиха и отказ от словотворческих экспериментов [644]644
Такой отказ объясняется, в частности, отношением Бродского к Слову как к «почти» сакральному началу, более активному, нежели Поэт (см., например, «Неотправленное письмо») ( Бродский И.Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы: В 2 т. Минск, 1992. Т. 2 С. 339) и «Нобелевскую лекцию» [I; 15–16]).
Отношение Бродского к слову и языку заставляет вспомнить о восприятии Осипом Мандельштамом слова как «плата и хлеба», хотя Бродский и избегает прямых религиозных ассоциаций. Ср. в статье Мандельштама «Слово и культура» ( Мандельштам О.Слово и культура: О поэзии. Разговор о Данте. Статьи. Рецензии. М., 1987. С. 40–42).
[Закрыть], в его творчестве несомненны цитаты из Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова, причем цитаты эти носят вовсе не случайный характер.
«<…> Маяковский вел себя чрезвычайно архетипически. Весь набор: от авангардиста до придворного и жертвы. И всегда гложет вас подозрение: а может, так и надо? Может, ты слишком в себе замкнут, а он вот натура подлинная, экстраверт, все делает по-большому? А если стихи плохие, то и тут оправдание: плохие стихи – это плохие дни поэта. Ужо поправится, ужо опомнится. А плохих дней в жизни Маяка было действительно много. Но когда хуже-то всего и стало, стихи пошли замечательные. Конечно же он зарапортовался окончательно. Он-то первой крупной жертвой и был: ибо дар у него был крупный. Что он с ним сделал – другое дело. Марине (Цветаевой. – А.Р.) конечно же могла нравиться – в ней и самой сидел этот зверь – роль поэта-трибуна Отсюда – стихи с этим замечательным пастишем а ля Маяк, но лучше даже самого оригинала: „Архангел-тяжелоступ – / Здорово в веках, Владимир!“ Вся его песенка в две строчки и уложена…» [645]645
Валков С.Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 50.
[Закрыть].
Эта оценка Бродским Маяковского – свидетельство одновременно и отстраненно-осторожного, и глубоко заинтересованного отношения к автору «Облака в штанах» и «Флейты-позвоночника». Поэтическая самопрезентация «Я» у Маяковского воспринимается Бродским как своеобразный архетип самовыражения поэта вообще.
Интересно, что психологический облик Бродского, манера поведения и, главное, чтения им своих стихов публике обнаруживают сходство с «рыком», с властным напором Маяковского-декламатора. Таков же и Бродский в изображении Анатолия Наймана:
«Новый стиль выработался быстро и органично. В гостях, не говоря уже о выступлении с эстрады, он с первых минут начинал порабощать аудиторию, ища любого повода, чтобы попасть и превозмочь всякого, кто казался способен на возражение или просто на собственное мнение, и всех вместе. И аудитории это, в общем, нравилось. И он это знал. Чтением стихов, ревом чтения, озабоченного тем, в первую очередь, чтобы подавить слушателей, подчинить своей власти, и лишь потом – донести содержание, он попросту сметал людей»; «В таком чтении, еще когда он был юношей, таился соблазн подчинять зал своей воле, властвовать над ним, все это так, но все это можно и следует отнести за счет издержек молодой, еще не управляемой страсти к превосходству, безудержному желанию заставить всех с собой соглашаться» [646]646
Найман А.Рассказы об Анне Ахматовой [Изд. 2-е, доп.]. М., 1999. С. 365, 367.
[Закрыть].
В ранних стихотворениях Бродского «маяковское» начало ощущается особенно сильно. Самые ранние стихи роднит с творчеством Маяковского прежде всего их смысловая интенция, тематика – отвержение привычных культов («Пилигримы», 1958), романтизированный поиск, завоевание и/или принятие реальности («Стихи о принятии мира», 1958), напряженно-метафорическое восприятие действительности («Земля гипербол лежит под ними, / как небо метафор плывет над нами» – «Глаголы», 1960 [I; 41]), метафоры, построенные на отождествлении природных явлений и вещественного мира, на сближении космического и повседневного («пинает носком покрывало звезд» – «Письмо в бутылке (Entertainment for Mary)», 1964 [I; 362]). Созвучна Маяковскому и метафорика, уподобляющая внутренний мир человека, его мысли и чувства предметам, а тела – внешнему миру (пример уже не из раннего Бродского: «кровь, / поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку» [II; 355]; «Мысль выходит в определенный момент за рамки / одного из двух полушарий мозга / и сползает, как одеяло, прочь» [II; 362] – «Колыбельная Трескового мыса», 1975).
Как показал М. Л. Гаспаров, по характеру рифм среди русских поэтов XX века Бродскому ближе всех Маяковский [647]647
Гаспаров М. Л.Рифма Бродского // Гаспаров М. Л.Избранные статьи. М., 1995. С. 83–92.
[Закрыть].
К Маяковскому восходят у Бродского и маленькая буква в начале строки, и лесенка («Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами», 1959; «Книга», 1960), причем иногда поэт цитирует не только графику стиха, но и рифмы:
Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах.
в каждом из нас
Бог.
Ибо вечность —
богам.
Бренность —
удел быков…
(«Стихи под эпиграфом», 1958 [I; 25])
Эти стихи – «эхо» строк Маяковского:
Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.
(«Наш марш» [I; 98]) [648]648
Эта параллель была указана Ю. Карабчиевским в знаменитой и по-своему замечательной пристрастно-недоброжелательной книге о Маяковском ( Карабчиевский Ю.Воскресение Маяковского. М., 1990. С. 212), но не проанализирована. Сближение Маяковского и Бродского как «риторических» и «неискренних» поэтов, на котором настаивает Ю. Карабчиевский, я разделить не могу. Уподобление автобиографического героя быку содержится также в поэме Маяковского «Флейта-позвоночник»: «И вдруг я / ревность метну в ложи / мрущим глазом быка» (II; 29).
К теме «Бродский и Маяковский» см. также: Лакербай Д. Л.Взрыв, который всегда с тобой: Бродский и Маяковский // Потаенная литература: Исследования и материалы. Вып. 2. Иваново, 2000.
[Закрыть]
Но, при сходстве в рифмовке, семантика двух стихотворений различна: в обоих содержится богоборческий мотив, однако автор «Стихов под эпиграфом» не разделяет жизнеутверждающего и революционного пафоса «Нашего марша».
Первое из стихотворений цикла Бродского «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974) содержит очевидную, легко узнаваемую цитату из Маяковского:
<…> в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу, что осталось русской речи,
на Ваш анфас и матовые плечи.
(II; 337)
Цитируется поэма («Первое вступление в поэму») «Во весь голос»:
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий
Оружия
любимейшего
род
готовая
рванулся в гике,
застыла
кавалерия острог,
поднявши рифм
отточенные пики
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий [649]649
Маяковский В. В.Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 428. Далее произведения Маяковского цитируются по этому изданию, том и страницы указываются в тексте в скобках (римская цифра обозначает том, арабские – страницы). Уподобление стихов войскам и оружию у Маяковского может быть истолковано как отражение инвариантного мотива «насилия над языком» ( Жолковский А. К.О гении и злодействе, о бабе и о всероссийском масштабе (Прогулки по Маяковскому) // Жолковский А. К. Блуждающие сныи другие работы. М., 1994. С. 271). Бродскому такое отношение к языку, конечно, абсолютно чуждо.
Уподобление стихов войскам у Маяковского восходит к метафоре «войско песен» из стихотворения Велимира Хлебникова «Сегодня снова я пойду…» ( Хлебников Велимир.Творения. М., 1986. С. 93). Строки Бродского ближе именно к образу из «Во весь голос».
[Закрыть].
На первый взгляд, эта реминисценция из Маяковского может показаться вполне случайной. Круг идей и мотивов поэмы «Во весь голос» (утилитарное отношение к искусству и отказ от личной темы, служение «делу социализма» и т. д.) глубоко чужд и неприязнен Бродскому вообще, – а особенно легким, ироническим любовным сонетам, посвященным шотландской королеве. Восприятие реминисценции из Маяковского как декоративной, несущественной вроде бы подтверждается всей поэтикой «Двадцати сонетов <…>» – тексты цикла сложены, как мозаика из цитат, центон. Так, прямо перед реминисценцией из «Во весь голос» цитируется тютчевское «Я встретил вас, и все былое…», а чуть дальше, в начале третьего сонета – шутливо обыгрываются первые строки «Ада» дантовской «Божественной комедии» («Земной свой путь пройдя до середины, / я, заявившись в Люксембургский сад <…>» [II; 337]).
Такая трактовка «Двадцати сонетов <…>» по-своему справедлива, но она вскрывает, дешифрует лишь самый первый смысловой уровень. При более углубленном понимании обнаруживается неслучайность цитаты из Маяковского и ее семантическая сцепленность с соседними реминисценциями из Пушкина и Данте.
Прежде всего парафраз строк из «Во весь голос» отсылает не столько к этой поэме Маяковского, сколько к стихотворению «Юбилейное» и творчеству Маяковского как единому целому и его отголоскам, слышимым в творчестве самого Бродского [650]650
Ср. в этой связи теоретические рассуждения 3. Г. Минц о поэтике цитаты, согласно которым цитируемый фрагмент отсылает не к себе самому в источнике заимствования, а к своему первоначальному контексту: Минц 3. Г.Функция реминисценций в поэтике А. Блока // Труды по знаковым системам. Т. 6 (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 308). Тарту, 1973. С. 387–417; ср.: Минц 3. Г.Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. Кн. 1. Поэтика Александра Блока СПб., 1999.
[Закрыть]. Ситуация сонетов – «встреча» со статуей – скульптурой Марии Стюарт в Люксембургском сапу и признание поэта в любви к королеве – достаточно точно воспроизводит ситуацию «Юбилейного», в котором герой Маяковского «встречается» с пушкинским памятником и произносит перед ним монолог – свой манифест поэтического искусства. Но если Маяковский в «Юбилейном» серьезен и социален, то герой сонетов ироничен и индивидуалистичен: исторические деяния (жизнь государств, войны и т. д.) в его глазах – ничто рядом с любовью. (Полемика с Маяковским ведется, впрочем, на его же территории и его оружием – ср. апологию любовной темы в том же «Юбилейном», гиперболизацию любви как «космического» события в «Облаке в штанах», «Человеке», «Люблю», «Про это» и т. д.) Другое отличие Бродского от Маяковского – герой Маяковского, как и его собеседник, принадлежит вечности и, преодолевая время, разговаривает с Пушкиным («У меня, / да и у вас / в запасе вечность» [I; 215]), в поэтическом же мире сонетов такое преодоление невозможно. Содержание «Двадцати сонетов <…>» – это не только объяснение в любви, но и констатация чисто физической невозможности такого объяснения с героиней XVI столетия. Интертекстуальную связь «Двадцати сонетов <…>» именно с «Юбилейным» подтверждают и строки о «классической картечи». Приверженец тоники, в «Юбилейном» Маяковский ради «творческого союза» с Александром Сергеевичем «даже / ямбом подсюсюкнул, // чтоб только / быть / приятней вам» (I; 221).
Строки Маяковского не только открывают, но и замыкают «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», создавая их своеобразное обрамление. Концевой терцет последнего сонета («Ведя ту жизнь, которую веду, / я благодарен бывшим белоснежным / листам бумаги, свернутым в дуду» [II; 345]) вступает в спор с «Приказом № 2 армии искусств», провозгласившим ангажированность поэзии и служение революции:
Это вам —
<…>
футуристики,
имажинистки,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
<…>
Это вам —
пляшущие, в дулу дующие
<…>
Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мерехлюндии
из арсеналов искусств.
(I; 153)
Избирающий позу «в дуду дудящего» шуга, Бродский отстраняется от Маяковского – «горлана-главаря», но помнит о Маяковском – авторе любовной лирики. Укажу в этой связи на более поздний случай полемики с Маяковским – «поэтом революции» в мексиканском цикле Бродского (1975). «Все-таки лучше сифилис, лучше жерла / единорогов Кортеса <…>» (II; 374), – пишет он в стихотворении «К Евгению», противопоставляя окостенелости ацтекской цивилизации с ее человеческими жертвоприношениями – испанских завоевателей, олицетворяющих мир истории, динамики. В другом тексте из «Мексиканского дивертисмента» – «1867» – Бродский иронически рисует революционера с его «гражданской позой» (II; 368). В обоих стихотворениях слышатся полемические отголоски строк «Мексики» Маяковского: «Тяжек испанских пушек груз. // Сквозь пальмы, / сквозь кактусы лез // <…> генерал Эрнандо Кортес. // <…> Хранят / краснокожих / двумордые идолы. // От пушек / не видно вреда» (I; 304) и «Скорей / над мексиканским арбузом, // багровое знамя, взметнись!» (I; 309). Характерно, что в стихотворении «К Евгению» Бродский не только отрицает Маяковского, но и соглашается с пушкинским «А человек везде тиран иль льстец, // Иль предрассудков раб послушный» из стихотворения «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг, – напрасно я презрел…») (II; 109) и с вариацией этого мотива «На всех стихиях человек – / Тиран, предатель или узник» из стихотворения «К Вяземскому» («Так море, древний душегубец…» [II; 298]). Заглавие «К Евгению» отсылает читателя не только к посланию «Евгению. Жизнь Званская» Г. Р. Державина, но и к Пушкину – автору «Медного Всадника» и «Евгения Онегина».
Но вернемся к реминисценции из поэмы «Во весь голос». Метафора строк-войск встречается у Бродского не только в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт». Это повторяющаяся цитата.«Обратное», «изнаночное» по отношению к исходному уподобление: войска, похожие на строки, – встречается в «Каппадокии» (1993 (?)): «И войска / идут друг на друга, как за строкой строка / захлопывающейся посередине книги» (III; 234–235). Метафора Маяковского означает разящую, физически действенную, смертоносную силу слова, пера, приравненного к штыку. Семантика похожего образа у Бродского – противоположная. В ее основе – «барочное» представление о мире как тексте, об истории как Книге. В этой перспективе стираются, теряются из вила противоположность и вражда: идущие убивать друг друга воины враждебных армий становятся буквами одной и той же Книги истории. Но сама метафора Книги истории, или Книги жизни, встречается и у Маяковского: это «Книга – „Вся земля“», в веке двадцатом на одной из страниц которой записано имя героя поэмы «Про это» (II; 214).
Впрочем, у Бродского есть и пример адекватного, точного усвоения и применения метафоры, созданной Маяковским: «Я знаю, что говорю, сбивая из букв когорту, / чтобы в каре веков вклинилась их свинья! / И мрамор сужает мою аорту» («Корнелию Долабелле», 1995 [IV (2); 199]). Правда, в стихотворении Бродского буквы-солдаты противостоят не классовому врагу, а времени. Но и для Маяковского время необходимо «побеждать», утверждая в нем свое присутствие [651]651
О семантике времени в поэзии Маяковского см. прежде всего ка: Вайскопф М.Во весь логос: Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. С. 62 и др.
[Закрыть]. Однако Маяковский представляет успешной такую борьбу со временем и царящей в нем смертью: его герой рассчитывает «шагнуть» к «товарищам-потомкам», «как живой / с живыми говоря» («Во весь голос» [II; 426–427]), он кричит «большелобому тихому химику»: «Воскреси!» и надеется на свое Воскресение в грядущем («Про это» [II; 214]). Герой Бродского обречен на умирание, даже если его войска-строки и взломают каре времени: метафора мрамор, сжимающий аорту, – иносказательное обозначение смерти. При этом пейоративные коннотации концепта мраморв поэзии Бродского, возможно, унаследованы именно у Маяковского, связывавшего памятникс «мертвечиной» («Юбилейное» [I; 223]). В то же время мотив боли в горле, затрудненного дыханияассоциируется с мотивом горла, бредящего бритвою,из поэмы Маяковского «Человек» (II; 72). Но герой Маяковского, как всегда, активен, деятелен – он сам готов призвать смерть, убить себя; а герой Бродского просто претерпевает умирание.
Мраморв стихотворении Бродского «Корнелию Долабелле» соотнесен с семантикой статуи, памятника. Эти ассоциации побуждают прочитать текст Бродского как свидетельство о победе над временем, как еще одну вариацию горациевско-державинско-пушкинского «Памятника», который грозился взорвать Маяковский в «Юбилейном». Но «победа», запечатленная в мраморе, в лучшем случае амбивалентна: платой за вторжение в каре времени оказывается оцепенение и немота сжатого горла. Бродский не следует за Горацием и Пушкиным и не бросает вызов теме «Памятника», как Маяковский. Он «переписывает» классический текст о величии и долгой славе поэта, наделяя его горькой иронией. Да и победа над временем сомнительна: лексема «свинья» как обозначение построения войска отсылает к знаменитой битве 1242 года русских войск Александра Невского с крестоносцами на Чудском озере: в советской историографии и культуре строй немецких рыцарей именовался «свинья». Крестоносцы потерпели в этой битве сокрушительное поражение.
«Скульптурный миф» (если воспользоваться выражением, употребленным Р. О. Якобсоном для характеристики творчества Пушкина [652]652
Jakobson R.Puskin and His Sculptural Myth. (De proprietatibus litterarum, Series practica, 116). The Hague-Paris, 1975 (Translated by John Burbank). Ср.: Якобсон P.Работы по поэтике. М., 1987. С. 145–180.
[Закрыть]), генетически восходящий в значительной мере к Маяковскому, образует отдельный пласт в творчестве Бродского [653]653
О «скульптурном мифе» Бродского, в отличие от пушкинского построенном не на мотиве оживания статуи, а на мотиве омертвения, превращения в мрамор человека, см. прежде всего: Юхт В.К проблеме генезиса статуарного мифа в поэзии Бродского (1965–1971 гг.) // Russian Literature. 1998. Vol. XLIV–IV. P. 68–91.
[Закрыть]. Уже в ранней лирике Бродского, вошедшей в сборник 1965 г. («Памятник», «Памятник Пушкину», «Я памятник себе воздвиг иной»), памятник и скульптурное изображение становятся символом лжи, оцепенения и смерти; в дальнейшем творчестве поэта в скульптурных образах, статуе акцентируется семантика вечности – остановленного времени – смерти («Торс») и «имперскости» («Post aetatem nostram», «Бюст Тиберия», пьеса «Мрамор» и др. [654]654
См. подробнее: Ранчин А. М.«Римский текст» Иосифа Бродского и русская поэзия 1910–1920-х гг. // Анна Ахматова и русская культура начала XX века М, 1989 (переиздано: Русская мысль, № 3822. 6 апр. 1990 г. Литературное приложение № 9), а также экскурс 1 «„Я был в Риме“: „Римский текст“ Бродского».
[Закрыть]). Негативное смысловое наполнение образа статуи-скульптуры у Бродского несомненно отсылает (за исключением, разумеется, атрибута «имперскости», тоталитарности) к поэзии Маяковского («Юбилейное», «Владимир Ильич Ленин» [655]655
О статуе у Маяковского см.: Kleberg L.Notes on the Poem «Vladimir Il’ich Lenin» // Vladimir Majakovskij: Memoirs and Essays. Ed. by B. Jangfeldt and N. A Nilsson. Stockholm, 1975. P. 166–178; Вайскопф М.Во весь логос: Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. С. 109–110.
[Закрыть]). Низвержение кумиров-монументов у Маяковского символизировало не только борьбу с окостеневшей традицией, но и со своего рода канонизацией (в том числе самоканонизацией) собственного творчества. «Даже известная ограниченность его – ограниченность статуи. Статуя может только менять положения: угрозы, защиты, страха и т. д. (Весь античный мир – одна статуя в различных положениях.) Видоизменять положения, но не менять материал, который раз навсегда ограничен и раз навсегда ограничивающий возможности. Вся статуя в себя включена. Она из себя не выйдет. Потому-то она и статуя. Для того-то она и статуя», – писала о поэзии Маяковского Марина Цветаева [656]656
Цветаева М.Эпос и лирика современной России // Цветаева М.Соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 2. Проза. С. 418.
[Закрыть]. Борис Пастернак замечал, что с помощью «механизма желтой кофты» Маяковский «боролся <…> вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными» [657]657
Пастернак Б.Охранная грамота // Пастернак Б.Воздушные пути: Проза разных лет. М., 1982 С. 262. Ср. в статье Ю. Н. Тынянова «Промежуток»: «Он не может успокоиться на своем каноне, который уже облюбовали эклектики и эпигоны. Он хорошо чувствует подземные толчки истории, потому что он и сам когда-то был таким толчком» ( Тынянов Ю. Н.Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С 178).
[Закрыть].
Статуя, скульптура в поэзии Бродского символизирует, кроме всего прочего, и стесняющие рамки поэтического канона, о чем косвенным образом свидетельствует и обращение к «Юбилейному», и бюсты римских классиков в «Мраморе». Поэтические каноны и системы замкнуты в себе, любая система ограничивает свободу: «<…> при всей их красоте, отдельные концепции всегда означают сужение значения, обрезание болтающихся концов. Тогда как в феноменальном мире в болтающихся концах-то все и дело, ибо они переплетаются» [658]658
Бродский И.«Меньше чем единица» (пер. с англ. Л. Лосева) // Бродский И.Форма времени. Т. 2. С. 336; ср. перевод В. Голышева пса названием «Меньше единицы» [V (2); 26]). Ср. в оригинальном тексте: Brodsky J.Less than One: Selected Essays. [Б. м.], Viking, 1986. P. 31. См. также сходные мысли, высказанные в эссе «Путешествие в Стамбул» (IV (1); 156) и в его английской версии «Flight from Byzantium».
[Закрыть].
Персонифицируя, в частности, собственные поэтические каноны – клише Бродского, скульптура и мрамор, возможно соотносятся и с таким «классицистическим» образцом и источником Бродского, как сочинения Пушкина (ср. проанализированный Р. О. Якобсоном и Ю. М. Лотманом «скульптурный миф» в позднем пушкинском творчестве [659]659
См. указанные в примеч. 19 работы Р. О. Якобсона и кн.: Лотман Ю. М.В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 126–142.
[Закрыть]). Вряд ли необходимо подчеркивать, что «борьба» с традицией у Бродского – в отличие от Маяковского – неотделима от намеренного возвращения к ней или повторения ее [660]660
В этой связи укажу на преодоление собственных канонов у Бродского: от «акмеистической» по преимуществу (а также отмеченной «цветаевской» печатью) лирики второй половины 60–70-х годов он переходит в стихотворениях сборника «Урания» (1987) на «пастернаковский» код («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» и др.), а затем – возвращается в интонации и ритмике – к раннему творчеству начала 60-х («Облака», «В горах») и одновременно выступает в необычном амплуа «a là Тимур Кибиров» («Представление»).
[Закрыть].
В рамках «скульптурного мифа» совершается у Бродского и расставание с традицией Маяковского. В произведениях Бродского 60-х – первой половины 70-х годов статуя и мрамор наделяются преимущественно пейоративной символикой, – в этом отношении «скульптурные образы» сходны с монументами у Маяковского. Между тем в лирике 80-х годов («Римские элегии») мрамор олицетворяет не только оцепенение («смерть»), но и «вечную жизнь»; а в пьесе «Мрамор» (1984) бюсты римских классиков – не только примета тоталитаризма, но и средство, с помощью которого герой выбирается из тюрьмы. Стихотворением, дающим ключ к метаморфозе «скульптурного мифа», оказывается «1972 год» (1972): отъезд в эмиграцию предстает в нем как переход в потусторонний мир и в «смерть» (или, что то же самое, – в «другую жизнь», в «другую половину жизни»). Характерны строки: «Всякий, кто мимо идет с лопатою, / ныне объект внимания», «уже те самые, / кто тебя вынесет, входят в двери», «нынче стою в незнакомой местности» (II; 290, 292). В третьем сонете («Земной свой путь пройдя до середины…» [II; 338]) из цикла о Марии Стюарт (1974) приоткрыт подтекст «1972 года»: это начальные строки дантовского «Ада». (Показательны также трехстишия, напоминающие о дантовской строфе – терцине, в посвященном теме эмиграции стихотворении «Пятая годовщина ( 4 июня 1977г.)».) Достигший, подобно Данте, середины жизни, лирический герой Бродского попадает в иной мир. В «1972 годе» это Запад, в «Двадцати сонетах <…>» – в шутливом снижении – Люксембургский сад. В «потустороннем» пространстве время, по-видимому, не существует, и поэт «встречает» не только статую Марии, но и (дополняю свою первоначальную интерпретацию) как бы ее саму.
Тридцать два – тридцать четыре года – возраст Бродского и его поэтического alter ego во время написания «1972 года» и «Двадцати сонетов <…>». Это срок земной жизни Христа, с которым сопоставлял себя Маяковский. Не случайно в «Двадцати сонетах <…>» Бродский цитирует итоговую, предсмертную поэму Маяковского «Во весь голос»; но себя он видит не на пороге смерти, а в начале новой жизни. В пространстве этой жизни, на переломе, герой Бродского обращается к поэзии Маяковского, как бы вспоминая о своей «маяковской» лирике первых поэтических лет (1958–1959). Встречают друг друга и строки Пушкина и Маяковского. Не только в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт», но и в «1972 годе», заключение которого – «Бей в барабан, пока держишь палочки…» (II; 293) – напоминает и о «Доктрине» Генриха Гейне («Бей в барабан и не бойся…», пер. Юрия Тынянова [661]661
Гейне Г.Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Пер. с нем. М., 1980. С. 306. Ср. стихотворение Цветаевой «Барабан».
[Закрыть]), и о «барабанных» строках Маяковского из «150 000 000». Напоминание полемичное – Бродский, в отличие от героя «150 000 000», не завоевывает Запад, а находит там приют, гонимый наследниками революции.
1972–1974 гг. отделяли от 1962 г., осознанного Бродским как начало своей самостоятельности, в том числе в поэзии («Прошла ли молодость твоя. / Прошла, прошла» – «Уже три месяца подряд», 1962 [I; 162]) [662]662
Характерно, что стихотворениями 1962 г. открывается книга любовной лирики Бродского «Новые стансы к Августе: 1962–1982» (Ann Arbor, 1982). Ср. оценку И. О. Шайтановым стихотворения 1962 г. «Я обнял эти плечи и взглянул…» как едва ли не первого вполне самостоятельного текста поэта ( Шайтанов И.Предисловие к знакомству // Литературное обозрение. 1988. № 8. С. 55–56).
[Закрыть], десять лет. Примерно столько же лет – между этими двумя стихотворениями и книгой «Римские элегии» (1982). Соотнесенность текстов подчеркнута самим автором («ножницы», «материя» – общие для «1972 года», «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» и «Римских элегий» поэтические мифологемы). В «Римских элегиях» «мрамор» и «вечность» лишаются однозначной пейоративности.
Оппозиция «Я – Время (мертвящее, обезличивающее, инородное по отношению к личности)» в поэзии Бродского неоднократно облекается в образы, заимствованные у Маяковского. Так, стихи Бродского:
я, иначе – никто, всечеловек, один
из, подсохший мазок в одной из живых картин,
которые пишет время, макая кисть
за неимением, верно, лучшей палитры в жисть… —
(«В кафе», 1988(?) [III; 174])
восходят к строкам, завершающим стихотворение Маяковского «Я»:
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!
(I; 49)
А строки из «Разговора с небожителем» (1970):
Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так наглотался варева минут
и римских литер… —
(II; 211)
вариация стихов «На тарелках зализанных зал / будем жрать тебя, мясо, век!» (II; 441) из трагедии «Владимир Маяковский».
Религиозная тема Бродского [663]663
Религиозные начала лирики Бродского – отдельная тема Существуют различные, даже противоположные суждения о христианских и языческих «истоках» его поэзии. См., например: Крепс М. Опоэзии Иосифа Бродского. С. 196–197, 203; Проффер К.Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского «Горбунов и Горчаков» // Поэтика Иосифа Бродского: Сборник статей под ред. Л. В. Лосева. N. Y., Tenally, 1986. С. 132, 138; Нокс Дж.Иерархия других в поэзии Бродского // Там же. С. 166; Каломиров А.(псевдоним). Иосиф Бродский (место) // Там же. С. 226; Найман А.Интервью // Иосиф Бродский: размером подлинника. Л., 1990. С. 139–142; Ефимов И.Крысолов из Петербурга (Христианская культура в поэзии Бродского) //Там же. С. 184–191; Арьев А.Из Рима в мир // Там же. С. 227; Тележинский В.( Расторгуев А.). Новая жизнь, или Возвращение к колыбельной // Там же; Вайль П., Генис А.В окрестностях Бродского // Литературное обозрение. 1990. № 8. Коротко можно сказать, что эта поэзия несомненно вовлечена в иудео-христианскую традицию, в ее экзистенциалистском «варианте»; при этом поэт постоянно выходит за рамки конфессий, ощущая их как препятствие и посягательство на свободу. См. в этой связи эссе «Об одном стихотворении», а также эссе «Путешествие в Стамбул» (англ. вариант «Flight fiom Byzantium» // Brodsky J.Less than One: Selected Essays. P. 393–446), в котором отмеченному тоталитаристскими чертами христианству противопоставлено «либеральное» язычество. Подробно эта тема рассмотрена в главе «„Развивая Платона“: философская традиция Бродского».
[Закрыть]во многом обнаруживает переклички с поэзией Маяковского. Богоборческие (или, точнее, «кощунственные») мотивы, заставляющие вспомнить поэмы «Облако в штанах» и «Человек», прослеживаются у Бродского в «Разговоре с небожителем», в котором от Маяковского – и раскованная интонация беседы с Богом или ангелом, и заглавие (ср. «Разговор с фининспектором о поэзии»). Но небожитель не отвечает герою Бродского: в мире царит «тишь». Этот мотив беззвучия, глухоты бытия перекликается с концовкой поэмы Маяковского «Облако в штанах»:
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
(II; 24)
Вариация этих строк Маяковского – «глухонемая вселенная» в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» (1989) [664]664
Анализ этой реминисценции и ее связи с претекстами Маяковского и Пастернака см. в главе «„…Ради речи родной, словесности“: очерк о поэтике Бродского». С. 113, прим. 142.
[Закрыть]и метафора «ушная раковина Бога» в «Литовском дивертисменте» (1971):
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
– Прости меня.
(II; 269)
Эта же поэтическая формула повторена в «Римских элегиях» («Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то <…>», 1981 (?) [III; 48]). Но для Маяковского, конечно, невозможен в разговоре с Богом переход с крика на шепот. Как невозможна и просьба о прощении.
«Количество <…> религиозных кусков в первом томе поразительно», – заметил о раннем Маяковском Виктор Шкловский [665]665
Шкловский В.О Маяковском // Шкловский В.Собрание сочинений: В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 31.
[Закрыть]. Прежде всего, это символы Рождества и Распятия поэта. Сближение Маяковского с Бродским – автором рождественских стихов – может показаться более чем сомнительным, так как Бродский, в отличие от автора фрагмента «Рождество Маяковского» из поэмы «Человек», пишет о Рождестве Христа, а не о своем рождении. Однако в одном из рождественских стихотворений Бродского «24 декабря 1971 года» – вместо Младенца и девы – пустота, в которой возникает «фигура в платке» ([II; 282] любимая?; ср. антиномию «Бог» – «любимая» у Маяковского). А в стихотворении 1964 г. «Звезда блестит, но ты далека…», обращенном к возлюбленной, Бродский прямо сближает себя – не без доли иронии – с «младенцем в хлеву» (I; 326). (Вспомним рисунок Бродского того же времени, на котором поэт изображает себя лежащим в окружении овцы, козы и коровы [I; 477, илл. VII]).
Но если в рождественских мотивах у Бродского перекличка с Маяковским минимальна, то одна из граней «маяковского» образа распинаемого поэта в лирике Бродского очень заметна. Распятие лирического героя у Маяковского символизировало страдания поэта за грехи людей и ощущение творчества как самораспинания (этого мотива у автора «Части речи» нет). Оно означало и конец поэзии, смерть последнего поэта («я, // быть может, последний поэт» – «Владимир Маяковский. Трагедия» [II; 436]; ср.: «Только вот / поэтов, / к сожалению, нету – // впрочем, может, / это и не нужно» – «Юбилейное» [I; 223]). Мотив последнего поэта [666]666
Кроме поэзии Маяковского, источником этого мотива могло быть стихотворение Е. А. Баратынского «Последний поэт». См. о традиции Баратынского у Бродского, например: Винокурова И.Иосиф Бродский и русская поэтическая традиция; Pilshikov/. Brodsky and Baratynsky // Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from an International Conference on Occasion of the Seventieth Birthday of Yuri Mikhailovich Lotman. Amsterdam, Rodopi, 1993. P. 214–228.
[Закрыть]как невинной жертвы, принимающей казнь именно за поэтический дар, – ключевой и для Бродского («Конец прекрасной эпохи», 1969).
Отмечен ассоциациями с поэзией Маяковского и такой инвариантный образ Бродского, как рыба / моллюск. Претекст – строки «На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ» (I; 46) из стихотворения «А вы могли бы?» – одного из программных текстов раннего Маяковского и русского футуризма в целом. Эти строки – провозглашение веры в преображающую силу слова, способного превратить жестяную вывеску рыбной лавки в живое, зовущее существо. Поэтика оксюморона здесь предельно интенсифицирована: задана и тут же отброшена не только оппозиция «живое – мертвое» (жестяная вывеска – живая рыба), но и оппозиция «немое (рыба) – говорящая» («новая» рыба, сотворенная или открытая героем стихотворения). «Преображение привычных образов тождественно их творению заново. Как в Книге Бытия, где вслед за созданием „безвидной“ планеты, ее устроение начинается с воды и появления морей, у Маяковского космогонический акт означен тем, что „на карте будня“ (географическая карта, она же – ресторанное меню) библейский хаос – „студень“ претворяется в океаны, к тому же демиургическому тексту отсылают изображенные на вывеске „рыбы“, которые, согласно Библии, были сотворены в числе первых живых существ. Новорожденный мир тянется к своему создателю „зовом новых губ“, изливаясь неслыханной гармонией сфер, ночной апокалиптической музыкой „водосточных труб“ <…>. В контурах скул и губ проступает лицо Вселенной» (М. Вайскопф) [667]667
Вайскопф М.Во весь логос. Религия Маяковского. С. 75.
[Закрыть].