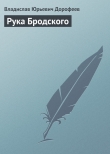Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Я – РЫБА (варианты: Я – МОЛЛЮСК [61]61
Шутливый вариант такой самоидентификации – стихотворение «Новый Жюль Верн» (1976), персонажи которого, путешествовавшие на корабле, были проглочены осьминогом: «Осьминог (сокращенно – Ося) карает жестокосердье / и гордыню, воцарившиеся на земле» (II; 391). Тело осьминога Оси (= Осипа = Иосифа) как бы тождественно телу-тексту автора (= осьминога = Иосифа), узниками которого изначально были персонажи стихотворения.
[Закрыть], РАКОВИНА ЧЕЛОВЕК – МОЛЛЮСК [62]62
В свете этой (само)идентификации («мы превращаемся в будущие моллюски, / бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты» («Стихи о зимней кампании 1980 года», 1980 [III; 11] – с мотивом деградации человечества, наступления «нового варварства») проясняются такие строки, как «тянет раздеться, скинуть суконный панцирь» («Венецианские строфы (1)», 1982 [III; 53]).
[Закрыть], РЫБА). Инвариантное уподобление, присущее поэзии Бродского от 1960-х гг. и до последних лет. Коннотации общие с коннотативным полем идентификации Я – ПТИЦА Сходство мотивировано подобием ПТИЦЫ и РЫБЫ в поэтическом мире Бродского: «птицы, слетев со скал, / отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют / с криком поверхность рябых зеркал» («Прилив», 1981 [III; 32]) [63]63
Сходство птиц и рыб – инвариантный мотив поэзии барокко: в «маринистской риторике рыбы постоянно именуются „птицами вод“, а птицы – „рыбами морей“» ( Женетт Ж.Фигуры / Пер. с фр. Т. 1. М., 1998. С. 58; здесь же – примеры из произведений Сент-Амана – образ подводного солнца сходен с звездой морскойв «Лагуне» Бродского, обозначающей одновременно и небесное светило, и морское животное). По характеристике Ж. Женетта, «<…> полет и плаванье представляются человеку идеалом легкого передвижения, счастливым сном, в какой-то мере чудом. <…> Башляр объясняет частую контаминацию двух видов фауны в наивном воображении именно этой механической гомотетиейполета и плавания: „Птица и рыба живут в объемном пространстве, тогда как мы – всего лишь на плоской поверхности“. Человек находится в тягостной зависимости от малейших складок земной поверхности; птица и рыба пересекают пространство во всех его трех измерениях<…>.»; «с метафорой „птица-рыба“ связана более глобальная тема – тема обратимости реального мира», присущая искусству барокко (Там же. С. 58–59,64). Ср. идентификацию рыб и птиц в «Фузии в блюдечке» М. Кузмина.
[Закрыть]; звезда – одновременно небесное тело и морское животное: «<…> звезда морская в окне лучами / штору шевелит, покуда спишь» («Лагуна», 1973 [II; 318]) [64]64
Образ-сращение небесной и морской звезды, вероятно, вариация пастернаковского: «Все, что ночи так важно сыскать / На глубоких купаленных доньях, / И звезду донести до садка / На трепещущих мокрых ладонях» («Определение поэзии» – Пастернак Б. Л.Стихотворения и поэмы. С. 126).
[Закрыть]; «Только море способно взглянуть в лицо / небу» («Литовский дивертисмент», 1971 [II; 268]).
Самоидентификация Я – РЫБА связана у Бродского с раннехристианской символикой рыбы, обозначавшей Христа, с рыбой как предком человечества; значима также связь концепта рыбы в культуре с оральным началом и с проблемой говорения-немоты: «А тому, кто спрашивал „Что такое философия?“, Диоген вместо ответа указал на рыбы. Действительно, рыба – наиболее оральное из живых существ; она олицетворяет проблему немоты, съедобности и согласного звука во влажной стихии, – короче, проблему языка» (Ж. Делёз) [65]65
Делёз Ж.Логика смысла / Пер. с фр. М., 1995. С. 165–166.
[Закрыть].
Я – СОБАКА (вариант: Я – БОЛОНКА) – инвариантное уподобление, присущее поэзии Бродского 1980–1990-х гг. «<…> я / благодарен за все: за куриный хрящик» («Римские элегии» [III; 48]) [66]66
Уподобление содержит аллюзию на изображение, наклеивавшееся на граммофонное пластинки, – собака и надпись «His Master’s Voice» (отмечено Е. М. Петрушанской: Петрушанская Е.«Слово из звука и слово из духа»: Приближение к музыкальному словарю Иосифа Бродского // Звезда. 1997. № 1. С. 226–227).
[Закрыть]; «как собака, оставшаяся без пастуха, / я опускаюсь на четвереньки / и скребу когтями паркет <…>» («Вертумн» [III; 204]); «Теперь я не становлюсь / больше в гостиничном номере на четвереньки» («Посвящается Джироламо Марчелло», 1991 [III; 252]); «Только вышколенная болонка / тявкает непрерывно, чувствуя, что приближается к сахару: что вот-вот получится / одна тысяча девятьсот девяносто пять» («Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию…» [IV (2); 194]). Коннотации: доверие, преданность (Богу), привязанность (к другу), привыкание к жизни и ее правилам.Литературные истоки: уподобление «я» или человека собаке – Федор Сологуб, Маяковский [67]67
О мифопоэтических истоках этого уподобления см.: Смирнов И. П.Место «мифопоэтического» подхода к литературному произведению среди других толкований текста (О стихотворении Маяковского «Вот так я сделался собакой») // Миф – фольклор – литература. Л., 1978.
Анна Ахматова в годы, когда с ней познакомился Бродский, любила повторять о себе: «Стара собака стала». «„Стара собака стала“, – приговаривала она время от времени, отнюдь не жалуясь и констатируя не только физическую тяжесть прожитых лет, но и невозможность не знать то, что она знала» ( Найман А.Рассказы о Анне Ахматовой [Изд. 2-е, доп.]. М., 1999. С. 273). Ср. сходные высказывания Бродского о себе в эссе: «Новые трюки, только собака состарилась» («Коллекционный экземпляр», авториз. пер. А. Сумеркина [VI (2); 160]; «Но я боюсь, что собака слишком стара как для новых, так и для старых трюков <…>» («Письмо Горацию», пер. Е. Касаткиной [VI (2); 379]).
[Закрыть]; Стерн («Жизнь и мнения Тристрама Шевди <…>», т. 3, гл. XXXIV).
Образы внешнего мира, бытия. [68]68
Характеристика ряда категорий (Время и Пространство) и образов поэзии Бродского (воды, ее обитателей, воздуха, пыли, мрамора, снега) содержится в кн.: Келебай Е.Поэт в доме ребенка (пролегомены к философии творчества Иосифа Бродского). М., 2000. С. 47–105. Впрочем, в этой – в ряде случаев тонкой, но порой представляющейся мне произвольной – характеристике не учтены все основные контексты.
См. также: Петрова 3. Ю.О некоторых фрагментах поэтического мира И. Бродского // Текст. Интертекст. Культура: Материалы международной научной конференции (Москва, 4–7 апреля 2001 года). М., 2001. С. 166–169.
[Закрыть]
ВЕЩЬ. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Конкретная реализация – СТУЛ («Посвящается стулу»). Коннотации: противоположность человеку, стандартность (безликость), соединение пустоты и материи, неподвижность. Повторяющаяся рифма / внутристиховое созвучие(поэтика игры слов,генетически каламбурная рифма, имеющая серьезный, «философический смысл»): «зловещ/и – вещь/и» («Колыбельная Трескового мыса», 1975 [II; 365]; «Посвящается стулу», 1987 [III; 147]) [69]69
Ср. вариацию этой рифмы «вещ – вещь»: «<…> но все-таки как вещ / бывает голос пионерской речи! / А так мы выражали свой восторг: „Берешь все это в руки, маешь вещь!“» («Из школьной антологии. 6. Ж. Анциферова», 1966–1969 [II; 175]). Эта рифма – цитатная, восходящая к ахматовскому «Сну»: «Был вещим этот сон или не вещим… / Марс воссиял среди небесных звезд, / Он алым стал, искрящимся, зловещим» ( Ахматова Анна.Стихотворения и поэмы. С. 240).
[Закрыть].
ВОДА. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: колыбель жизни, жизнь, будущее состояние земной жизни, время.Общее семантическое поле с образами ВОЛНЫ, МОРЕ [70]70
О семантике водыу Бродского см.: Евтимова Р.Иосиф Бродский: «… И себя настигаешь в любом естестве…». In memoriam // Изгнанничество: Драма и мотивация. Заврыцането на съвременните славянски емигрантски литератури у дома. Съставител М. Карабелова. София, 1996. С. 66–72; Келебай Е.Поэт в доме ребенка (пролегомены к философии творчества Иосифа Бродского). С. 58–65. О смыслах образа моряв творчестве Бродского см. также: Генис А.Частный случай // Генис А. Иван Петрович умер: Статьи и расследования. М., 1999. С. 217; Fast P.Motyw morza w poezji Josifa Brodskiego // Fast P. Spotkania z Brodskim (dawne i nowe). Katowice, 2000 (= Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego. Nr 4). S. 33–49.
[Закрыть].
ВОЛНЫ. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: жизнь, время, ритм бытия, свобода, источник ритма и рифм поэзии.Одновременно, в соответствии с поэтикой самоотрицания и семантической амбивалентности, ВОЛНЫ могут ассоциироваться с несвободой («Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе»).
ДЕРЕВО. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: свобода, жизнь, жизнь, непохожая на человеческую, поэзия.Особый образный ряд – дерево как знак абсурдности бытия, лирический герой под деревом, исполненный чувства бессмысленности жизни, ненужный рост деревьев («Натюрморт», 1971, «Сидя в тени» [71]71
Бесцельный рост деревьевв этом стихотворении – контрастная вариация пушкинского образа молодых деревьев, «племени младого, незнакомого» из «…Вновь я посетил…». Мизантропическое стихотворение Бродского, говорящее о разрыве поколений, о бесчеловечности тех, кто сменит лирического героя и его сверстников, возможно, также полемически соотнесено с «официально» советским стихотворением Анны Ахматовой «В пионерлагере» (открывающимся эпиграфом именно из «…Вновь я посетил…») и с ее же стихотворением «Говорят дети», описывающим страдания и гибель детей (Ахматова Анна.Стихотворения и поэмы. С. 234–235). У Бродского сами дети готовы нести в мир смерть, убивать. Контрастная вариация пушкинского образа молодых деревьев– строка «Теперь всюду антенны, подростки, пни / вместо деревьев» («Fin de siècle», 1989 [III; 191]).
[Закрыть], 1983, «В кафе», 1988, «Новая Англия», 1993). ДЕРЕВО в этом значении восходит к образу дерева, олицетворяющему абсурд, бессмысленность, «тошноту» существования, в романе Жана-Поля Сартра «Тошнота» [72]72
Сартр Ж.-П.Тошнота / Пер. с фр. Ю. Яхниной // Бергсон А.Смех; Сартр Ж.-П.Тошнота: Роман; Симон К.Дороги Фландрии: Роман / Пер. с фр. М., 2000. С. 277–279. Автор этих строк обнаружил совпадение между стихотворением Бродского и романом Сартра прежде, чем прочитал статью С. Кузнецова «Распадающаяся амальгама (О поэтике Бродского)», в которой также содержится это наблюдение (см.: Вопросы литературы. 1997. № 5/6. С. 45–46).
[Закрыть]. И в романе Сартра, и в «Натюрморте» Бродского воплощение ужаса и гнетущей бессмысленности существования – корень дерева.
Метафорическая функция – обозначение человека. Поэтические формулы,соотносящиеся между собой по принципу самоотрицания: бунт листвы, овация листвы.«…Бунт голытьбы ивняка…» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» [II; 24]); «Овацию листвы унять там вождь бессилен» («Пятая годовщина (4 июня 1977)»,1977 [II; 421]); «<…> Листва / их научит шуметь / голосом большинства» («Сидя в тени», 1983 [III; 72]); «Ты теперь на все руки мастак – / бунта листьев, падения хунты» («Памяти Геннадия Шмакова», 1989 [III; 180); «Рояль чернеет в гостиной, прислушиваясь к овации / жестких листьев боярышника» («Посвящается Чехову», 1993 [III; 254]); «…и ропот листвы настойчив, как доводы дурачья» («Из Альберта Эйнштейна», 1994 [IV (2); 172]); «Видимо, шум листвы, суммируя варианты / зависимости от судьбы <…> / пользовался каракулями <…>» («Воспоминание», 1995 [IV (2); 196]). Вариация формулы: «Сухой мандраж / голых прутьев боярышника» («Келломяки», 1982 [III; 59]).
ДОЖДЬ. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: жизнь, поэзия, время, начало, элемент, связующий разрозненные явления мироздания, грусть. Одинокий (умерший) человек.Общее семантическое поле с образом ИГЛА.
ЗВЕЗДА (ЗВЕЗДЫ). Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: звезда Рождества, счастье, благая весть, хранительница жизни (мира), взгляд Бога, отдаленность, соединительное звено между Ним и Нею, гармония, иное измерение бытия, преодоление границы, звезда на погонах, кокарда, крупа, которая не кормит, одиночество, затерянность в мироздании.Метафорическая функция – обозначение лирического героя и слезы.
ЗЕРКАЛО. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: несвобода, тоталитарный мир, преграда, обман.Метафорическая функция – обозначение водной глади и человека. Одновременно, в соответствии с поэтикой самоотрицания и семантической амбивалентности, ЗЕРКАЛО может ассоциироваться с выходом и красотой (при вхождении в общее ассоциативное поле с образом ВОДА): «Пена бледного шелка захлестывает, легка, / стулья и зеркало – местный стеклянный выход / вещи из тупика» («Венецианские строфы (2)» [III; 54]) – в этих строках «перевернуты» поэтические формулыморе – кружевное белье(см. МОРЕ) и зеркало – тупик(ср. стихотворение «Торс», 1972). Метафорическая функция – обозначение водной глади и человека, листа бумаги [73]73
О семантике образа зеркала у Бродского см. подробнее: Кузнецов С.Распадающаяся амальгама (О поэтике Бродского). С. 24–49 (мотивы тусклого, вялого зеркала, зеркала как человеческого тела и зеркала как инструмента остранения; ассоциации с водой, временем и рыбами).
[Закрыть]. Поэтические формулы: амальгама зеркала, человек, как зеркало.«Старых лампочек тусклый накал / в этих грустных краях, чей эпиграф – победа зеркал, / при содействии луж порождает эффект изобилья. / Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя» («Конец прекрасной эпохи» [II; 161]); «…в темноте всем телом твои черты, / как безумное зеркало повторяя…» («Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…» [II; 397]); «…прижаться к живой кости, / как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем / нежность не соскрести…» («Венецианские строфы (1)» [III; 53]).
ИГЛА (мифопоэтическая и метафорическая игла бытия, игла шприца и Адмиралтейская игла, швейная игла и иголка граммофона – функционально сходны, по крайней мере швейная и граммофонная иглы). Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет; особенно част в стихотворениях 1960-х гг. Коннотации: жизнь, время, смерть, нить Парки, начало, элемент, связующий разрозненные явления мироздания, душа, сшивающая разлуку.«Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет. / Со всех концов. Уйдет. Вернется снова. / Еще рывок. И только небосвод / во мраке иногда берет иглу портного» («Большая элегия Джону Донну», 1963 [I; 251]; «<…> так иголка шаркает по пластинке, / забывая остановиться в центре» («Римские элегии», 1981 [III; 46] – «Я» – игла); «И площадь, как грампластинка, дает круги / от иглы обелиска» («Вид с холма», 1992 [111; 209]) [74]74
Образ ИГЛЫ у Бродского родствен многочисленным и разнообразным вариациям этого же образа в русской поэзии XX века. Развернутый ряд примеров (из Пастернака, Кузмина, Арсения Тарковского и других поэтов, из текстов Бродского) приведен Г. Г. Амелиным и В. Я. Мордерер ( Амелин Г. Г., Мордерер В. Я.Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М.; СПб., 2000. С. 151–167). Для ИГЛЫ как связующего элемента бытия и атрибута (или, если угодно, метафоры) времени (игла, сшивающая мирв «Большой элегии Джону Донну», эквивалентные ИГЛЕ сверлав «Исааке и Аврааме», граммофонная игла, скрытая в подтексте «Bagatelle») несомненно родство со швейной иглой не упомянутой, но ощутимой в подтексте пастернаковской «Полярной швеи» (уПастернака и Бродского сходна и ассоциативная связь «игла – снег») и с иглами из пастернаковского «В лесу» (денотативное значение игл в этом тексте – хвойные иглы, но дополнительные смыслы приобщают это слово к концепту часы мирозданияи к мотиву сверления бытия). Развернутая метафора, «сближающая силуэт горных цепей с фонограммой» (Эткинд Е. Г.Там, внутри. О русской поэзии XX века. СПб., 1997. С. 541–542), содержится в стихотворении Велимира Хлебникова «Осень». Ближайшая параллель у Бродского – растворение звука в вещах («Bagatelle»). Прочтение Г. Г. Амелиным и В. Я. Мордерер текстов, заключающих в себе образ иглы, часто очень тонко и замечательно по проницательности. Но мне трудно согласиться с их уверенностью, что все приведенные в книге «Миры и столкновенья Осипа Мандельштама» произведения входят в общий контекст. Далеко не во всех случаях сквозь образы иглы просвечивает архетипическая «Адмиралтейская игла» Пушкина, как представляется авторам книга, а такие образы, как «игла», «граммофонная пластинка», «шпиль», «колокольня», в сочинениях разных авторов порой чужды родственному смыслу. Впрочем, подход Г. Г. Амелина и В. Я. Мордерер далек от филологических претензий на раскрытие смысла, имманентного тексту (насколько это понимание исходного смысла возможно для интерпретатора). Г. Г. Амелин и В. Я. Мордерер скорее раскрывают то, о чем текст долженговорить, о чем он молчит; описывают то, что стоит за текстом, создавая из поэтических цитат собственный философский или «философско-центричный» дискурс.
[Закрыть]. Общее семантическое поле с образом ДОЖДЬ: «Не иголка, не нитка, но нечто бесспорно швейное / <…> / слышится в этом стрекоте; и герань обнажает шейные / позвонки белошвейки» («Дождь в августе», 1988 [III; 162]) – и с образом СНЕГ.
ЛАМПА. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: «малое солнце», творчество.Метафорическая функция – обозначение лирического героя и его возлюбленной.
МОРЕ. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: колыбель жизни, жизнь, будущее состояние земной жизни, время, простор, путешествие [75]75
Образ моря у Бродского вписывается в семантический мифопоэтический ряд, обнаруживающийся в словесности самых различных культур и эпох. Характеристику этого ряда см. в статье: Топоров В. Н.О «поэтическом» комплексе моря и его психофизических основах // Топоров В. Н.Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 575–622.
[Закрыть]. Общее семантическое поле с образом ВОДА. Поэтическая формула: море – белье с кружевами,вариации – простыня, бахрома: «Вздымающееся полотно» («Загадка ангелу», 1962 [I; 207]); «бахрома» («Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе», 1969 (?), 1970 (?) [IV (1); 8]); «Выстиранная, выглаженная простыня / залива шумит оборками <…>» («Сан-Пьетро», 1977 [II; 430]); «и простор голубеет, как белье с кружевами» («К Урании», 1982 [III; 64]); «кружевная комбинация бледной балтийской глади» («Стрельна», 1987 [IV (2), 32]); «мокрые простыни пристани в Фегердале» («Пристань Фегердала», 1993 [III; 258]); «Сушатся сети – родственницы простыней» («Остров Прочила», 1994 [4 (2); 167]); «рыхлая бахрома» («Тритон», 1994 [IV (2); 189]); «кружево волн» («На виа Фунари», 1995 [IV (2); 198]) [76]76
Параллель «море – белье постели» (а также параллель «облака – белье постели») присутствует еще в раннем стихотворении «Загадка ангелу» (1962).
[Закрыть].
ОБЛАКА (ОБЛАКО). Инвариантный образ поэзии Бродского 1980–1990-х гг. Коннотации: свобода странствий, безразличие к человеку, принадлежность к иному измерению бытия. Поэтическая формула: облака – ткань/белье(соотнесена по принципу изоморфизма с поэтической формулойморе – белье скружевами: «обратимость» неба и моря у Бродского): «И по небу разбросаны, как вещи холостяка, / тучи, вывернутые наизнанку / и разглаженные» («Примечание к прогнозам погоды», 1986 [III; 180]); «Только Господь / вас видит с изнанки – словно из нанки / рыхлую плоть»; «Пенный каскад / ангелов, бальных / платьев, крахмальных / крах баррикад» (оба примера – из стихотворения «Облака», 1989 [III; 186–187]); «марля небесных клиник» [77]77
В стихотворении «Метель в Массачусетсе» (1990) эта поэтическая формула отнесена к снегу. «Эх, метет, метет. Не гляди в окно. / Там подарка ждет милосердный, но / мускулистый брат, пеленая глушь / в полотенце цвета прощенных душ» (III; 94); один из возможных истоков этой поэтической формулы – образ Мандельштама из стихотворения «Дайте Тютчеву стрек о зу…», входящего в цикл «Стихи о русской поэзии» или примыкающего к нему: «Баратынского подошвы / Раздражают прах веков. / У него без всякой прошвы / Наволочки облаков» ( Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 221; другие редакции – с. 484). Об этом образе см.: Ронен О.Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // Сохрани мою речь. Вып. 3. Ч. 1. М., 2000. С. 256.
[Закрыть](«Ария», 1987 [III; 134]) [78]78
Эта поэтическая формула, вероятно, восходит, в частности, к пастернаковскому сближению облаков с шитьем (ср.: «вышиванье ангела» в «Возвращении», заря-швеяв «Анне Ахматовой» – Пастернак Б. Л.Стихотворения и поэмы. С. 144, 200).
[Закрыть]. Образ, построенный на самоотрицании:«Кучевой <…> мускул» («В окрестностях Александрии», 1982 [III; 58]), – облако, ассоциирующееся с легкостью, рыхлостью, эфемерностью («легче тела» – «Облака» [III; 188]), метафорически названо «мускул».
ПЕРО. Инвариантный образ поэзии Бродского 1970–1980-х гг. Коннотации: творчество, движение времени, признак существования «Я», отчуждение «Я» от своего текста. Поэтическая формула: скрип пера– «в негромком скрипе вечного пера» («Друг, тяготея к скрытым формам лести…», 1970 [II; 227]); «миру здесь о себе потешают <…> скрипом пера» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» [II; 324]); «Человек превращается в шорох пера по бумаге <…>» («Декабрь во Флоренции», 1976 [II; 384]); «Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох. <…> Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу» («Пятая годовщина (4 июня 1977)»,1977 [II; 422]); вариация с семантикой отчуждения «Я» от текста – «Право, чем гуще россыпь / черного на листе, / тем безразличней особь / к прошлому, к пустоте / в будущем. Их соседство, / мало суля добра, / лишь ускоряет бегство / по бумаге пера» («Строфы», 1978 [II; 458]); «и перо скрипит, как чужие сани» («Эклога 4-я (зимняя)», 1980 [III; 13]); «Скрипи, перо. Черней, бумага. / Лети, минута» («Пьяцца Маттеи», 1981 [III; 28]); «Перо скрипит в тишине», «<…> скрип пера / в тишине по бумаге – бесстрашье в миниатюре» («Примечания папоротника», 1989 [III; 171]); «Различишь в тишине, как перо шуршит, // помогая зеленой траве произнести „всё кончено“» («Надпись на книге», 1991 [III; 239]) [79]79
Посвящая свои строки перуи бумаге,Бродский продолжает традицию, в европейской литературе возникшую еще в эллинистический период. К истории описания орудий письма в европейской литературе см., например: Curtius E. R.European Literature and the Latin Middle Ages. Transl. from the German by W. R, Trask. (Bollingen Series. XXXVI). Princeton; New Jersey, 1990. P. 306–347.
[Закрыть].
СНЕГ. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: бумага, творчество, Время/Вечность, покой, постель, уют, Рождество, пустыня; больничные простыни (полотенце), мрамор (статуя), одиночество, разрыв, свет, смерть. Поэтическая формула: снег – мрамор для бедных: «<…>под натиском зимы / бежав на Юг, я пальцами черчу / твое лицо на мраморе для бедных» («Второе Рождество на берегу…», 1971 [II; 264]); «То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем тела / тает, ссылаясь на неспособность клеток – / то есть извилин! – вспомнить, как ты хотела, / пудря щеку, выглядеть напоследок» («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…», 1987 [III; 142]). Вариация этой формулы: «Миллиарды снежных мух / не спасут от нищеты» («В горах», 1984 [III; 88]).
СТАТУЯ (БЮСТ, МОНУМЕНТ, СКУЛЬПТУРА) [80]80
Об этом концепте Бродского см. прежде всего: Юхт В.К проблеме генезиса статуарного мифа в поэзии Бродского (1965–1971 гг.) // Russian literature. 1998. Vol. XLIV–IV. P. 409–432. См. также: Разумовская А.Статуя в художественном мире И. Бродского // Иосиф Бродский и мир. Метафизика. Античность. Современность. СПб., 2000. С. 228–243.
[Закрыть]. Инвариантный образ поэзии Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: несвобода, тоталитарный мир (Империя), вечность, умирание/смерть, ложь.Доминирующее оценочное наполнение – пейоративное. Одновременно, в соответствии с поэтикой самоотрицания и семантической амбивалентности, СТАТУЯ может приобретать позитивный смысл ( вечность искусства, красота, женская красота, божественность): «Пьяцца Маттеи», «Римские элегии», «Вертумн». Поэтические формулы: памятник поэту, памятник тирану(примеры – в экскурсе 1 «„Я был в Риме“: „Римский текст“ Бродского» и в главе «„Видимо, никому из нас не сделаться памятником“: реминисценции из пушкинских стихотворений о поэте и поэзии у Бродского»). Общее семантическое поле с образом МРАМОР [81]81
«В поэзии Бродского мы часто находим комбинацию холода, смерти, статуи» (Weststeijn W.«The Thought of You Is Going Away…» // Joseph Brodsky: The Art of a Poem / Ed. by Lev Loseff and V. Polukhina. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London; N.Y., 1999. P. 187).
[Закрыть].
ЧАСЫ (ХОДИКИ, СТРЕЛКИ, ЦИФЕРБЛАТ). Инвариантный образ поэзии Бродского 1960–1980-х гг. Коннотации: время, уничтожение, бомба, смерть.Метафорическая функция – обозначение человека, «Я» (см.: Символы лирического героя (человека); образы «Я» в текстеЯ – МАЯТНИК / ЧАСЫ (вариант: ЧЕЛОВЕК – МАЯТНИК / ЧАСЫ, ВЗГЛЯД – ЦИФЕРБЛАТ)).
Одни и те же повторяющиеся образы в разных контекстах у Бродского обладают многозначной семантикой – различной и часто даже противоположной. Такой «динамизм» поэтического словаря парадоксально сочетается с клишированными поэтическими формулами – семантически одномерными. Сочетание многомерных поэтических образов и одноплановых поэтических формул придает поэзии Бродского одновременно признаки новизны и традиционности.
Отличительные приемы.
Пространственное удаление, «откат».
Во многих стихотворениях Бродского доминантную роль играет прием отдаления точки зрения в пространстве от изображаемого предмета – вплоть до ее перемещения в космические сферы. Это пространственное отдаление – знак отдаления, отчуждения психологического и экзистенциального. Среди ранних произведений такой прием является доминантным в «Большой элегии Джону Донну» (1963). Он развернут в «Осеннем крике ястреба» (1975), заявлен в начале «Пятой годовщины (4 июня 1977)»(1977): «Там хмурые леса стоят в своей рванине. / Уйдя из точки „А“, там поезд на равнине / стремится в точку „Б“. Которой нет в помине» (II, 419). Изображение лесов в их массе и города, из которого вышел поезд, как точки предполагает, что позиция созерцателя значительно отдалена от них в пространстве [82]82
Леса в рванине– ироническая реминисценция из лермонтовской «Родины», в которой упомянуто «лесов безбрежных колыханье» (I; 313) как дорогая, отрадная для лирического героя примета отчизны. В «Родине» Лермонтова, как и в «Пятой годовщине <…>», пространственная точка зрения первоначально максимально удалена от объекта описания, а затем постепенно приближается к нему (от панорамного взгляда до описания избы, ставень и пляски мужиков). Строку Бродского можно также считать цитатой цитаты– реминисценцией из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Север», в котором цитируется «Родина» Лермонтова; у Заболоцкого: «В воротах Азии, среди лесов дремучих, / Где сосны древние стоят, купая в тучах / Свои закованные севером верхи» и в другом месте: «В воротах Азии, в объятиях метели, / Где сосны в шубах и в тулупах ели, – / Несметные богатства затая, / Лежит в сугробах родина моя» ( Заболоцкий Н. А.Стихотворения. Поэмы. Тула, 1989. С. 168). Тулупы елейобладают общим коннотационным полем с рваниной лесов(«бедная одежда»).
Одновременно строка Бродского может интерпретироваться как реминисценция из набоковской «The Real Life of Sebastian Knight», в которой как примета тоталитарной родины главного героя названы «обширные леса и покрытые снегом равнины» (Подлинная жизнь Себастьяна Наша // Набоков В.Собрание сочинений американского периода: В 5 т. / Пер. с англ. С. Ильина Т. 1. М., 1999. С. 45). Леса родины– образ, ставший топосом в русской литературе после Лермонтова (ср., например, поэму Н. А Некрасова «Тишина»); соотнесенность стихотворения Бродского именно с текстами Лермонтова, Заболоцкого и Набокова обусловлена тем, что лермонтовская «Родина» – «перво-текст», семантический архетип традиции, стихи Бродского и Заболоцкого обладают несомненным текстуальным сходством, а стихотворение Бродского и роман Набокова роднит судьба авторов – изгнанников.
Две следующие строки из стихотворения Бродского – вероятно, вариация мандельштамовских страшных строк об умирании, на которое обречены люди в Советской стране: «Мы поедем с тобою на „А“ и на „Б“ / Посмотреть, кто скорее умрет» («Нет, не спрятаться мне от великой муры…» // Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 199).
[Закрыть]. Этот прием «отката» завершают «Стихи о зимней кампании 1980 года» (1980). Панорамное видение определяет поэтику пространства в стихах «К Урании» (1982); при этом пространственное удаление как бы дезавуируется, ибо человек в своем одиночестве тождествен столь же одинокой земле: «и, глядя на глобус, глядишь в затылок» (III; 64). Космическое видение спорадически прослеживается в «Тритоне» (1994).
Менее сильными формами пространственного отчуждения у Бродского являются уподобление человека небесным телам («семейное фото – вид планеты с Луны» – «Строфы», 1974 [II; 469], «Я» и «Ты» как Канопус и Сириус – «На виа Фунари», 1995) и разделенность лирического героя и его адресата в земном пространстве.
Прием «математизации».
Одна из особенностей поэзии Бродского – сочетание слов, обозначающих предметы повседневной жизни, материальные явления, с терминами, элементами языка алгебры и геометрии [83]83
О «геометрических» образах Бродского см. также: Крепс М.О поэзии Иосифа Бродского. С. 85–101; Bethea D.Joseph Brodsky and the Creation of Exile. P. 109–119.
[Закрыть], которым не соответствуют какие-либо конкретные денотаты. Такое сочетание конкретного и абстрактного создает эффект отстранения и повторяемости единичного: бытие в своих единичных проявлениях сводимо к абстракции. Муза поэта – «Муза точки в пространстве и Муза утраты / очертаний», «Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых / лишь / в телескоп! Вычитанья / без остатка! Нуля» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» [II; 328–329]). Метафора, воплощающая мотив одиночества и потерь, – «геометрия утрат» («В горах», 1984 [III; 88]).
Сплетение математических терминов и предметных слов создает непредсказуемые метафоры, как «развалины геометрии», математические понятия теряют свой исконный смысл, превращаясь в означающие, лишенные денотатов («Точка, оставшаяся от угла»):
Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще, чем дальше, тем беспредметнее.
Так раздеваются догола.
(«Вечер. Развалины геометрии», 1987 [III, 136])
Инвариантный образ Бродского – сходящиеся прямые линии, линии горизонта. Атрибут этого образа – имена математика Лобачевского, выдвинувшего постулат о пересекающихся прямых, и Эвклида, которому принадлежит отброшенная Лобачевским аксиома о непересекающихся прямых. Геометрия по Лобачевскому – пересекающиеся линии обозначают в поэтическом мире Бродского несвободу, отсутствие выхода, тупик [84]84
О «теме перспективы» у Бродского, о ее связи с мотивом смерти см.: Левинтон Г. А.Три разговора о любви, поэзии и (анти)государственной службе (<…> II. «От всего человека нам остается часть / речи» (Три заметки о Бродском) // Россия / Russia. Вып. 1 [9]. Ред. – сост. К. Ю. Рогов. М.; Венеция, 1998. С. 248.
[Закрыть]:
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.
(«Конец прекрасной эпохи», 1969 [II; 162])
……………………………………………………
что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
вещь обретает не ноль, но Хронос.
(«Я всегда твердил, что судьба – игра», 1971 [II; 276])
<…> Проезжающий автомобиль
продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду.
(«Колыбельная Трескового мыса» [II; 355])
Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). <…>
(Там же [II; 357])
Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось <…>
(«Темно-синее утро в заиндевевшей раме…», из цикла «Часть речи», 1975–1976 [II; 409]).
Сумма углов – поэтическая формула, встречающаяся также в стихотворениях «Натюрморт» (1971): «преподнося сюрприз суммой своих углов» (II; 272) – и «Воспоминание» (1995):
И за полночь облака, воспитаны высшей школой
расплывчатости или просто задранности голов,
отечески прикрывали рыхлой периной голый
космос от одичавшей суммы прямых углов.
(IV (2); 196)
В стихотворении «Взгляни на деревянный дом» (1988 [?], 1993 [?]) этот образ варьируется:
Пространство, в телескоп звезды
рассматривая свой улов,
ломящийся от пустоты
и суммы четырех углов <…>
(III; 223, IV (2); 51)
Повторяющийся «геометрический» образ Бродского, обладающий в некоторых случаях признаками поэтической формулы, – перспектива в пространстве: «Человеку везде мнится та перспектива, в которой он / пропадает из виду» («Примечания папоротника», 1988 [III; 171]); «Это – эффект перспективы» («Вид с холма», 1992 [III; 209]); «Но в перспективе возникнуть трудней, чем сгинуть / в ней <…>» («Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне…», 1989 [III; 177]); «Бесспорно, перспектива» («На выставке Карла Вейлинка», 1984 [III; 90]); «Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо / тут она безупречна» («Римские элегии», [III; 47]).
Арифметическое действие – деление – наделяется в поэзии Бродского пейоративными коннотациями: подверженность этой операции свидетельствует о нецелостности, «слабости» поддающегося делению предмета:
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
(«Римские элегии» [III; 47])
С некоей метафизической точки зрения различия между предметами не существует и процедура деления невозможна:
В здешнем бесстрастном, ровном, потустороннем свете
разница между рыбой, идущей в сети,
и мокнущей под дождем статуей алконавта
заметна только привыкшим к идее деления на два.
(«Вот я и снова под этим бесцветным небом…», 1990 [IV (2); 94])
Поэтика «математизации» Бродского – частный случай установки на абстрагирование. Эта установка проявляется и в пристрастии к обобщающим суждениям, и в сведении единичных вещей к абстрактным сущностям или к мифологическим архетипам:
Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Аккадемиа» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.
(«Лагуна» [II; 318])
Три старухиздесь обозначают и трех реальных пожилых дам – обитательниц пансиона, и Парок, прядущих нить судьбы, а клерк– не только клерк, но и бог времени.
Неразличение, уравнивание знака и вещи.
Этот повторяющийся прием Бродского проистекает из представления о сходстве, изоморфности мира и текста (языка, звука, буквы, слова, рисунка, картины). Некоторые примеры: «Густой туман / листал кварталы, как толстой роман» («Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе», 1969 (?), 1970 (?) [IV (1); I]) [85]85
Это сравнение – цитата пушкинской метафоры жизнь-романиз финала восьмой главы «Евгения Онегина».
[Закрыть]; «здесь и скончаю я дни, теряя / волосы, зубы, глаголы, суффиксы» («1972 год», 1972 [II; 292]); «на площадях, как „прощай“ широких, / и улицах узких, как звук „люблю“» («Лагуна», 1973 [II; 320]) [86]86
В этих строках дана точная характеристика особенностей звуков [а] и [у] – открытого и закрытого лабиализованного. Интересно, что Бродский называет звуком не «у» в слове «люблю», а все слово. Это не случайно – в соответствии с представлением поэта о сходстве и даже тождестве означаемого и означающего сходны не только слова и понятия и вещи, ими обозначенные, но и слова и их элемента – звуки (фонемы). Звук (фонема) [у] в «люблю» эквивалентен самому слову.
[Закрыть]; «и в гортани моей <…> чернеет, что твой Седов, „прощай“» («Север крошит металл, но щадит стекло» из цикла «Часть речи», 1975–1976 [II; 398]); «Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца, / петли, клинышки букв и, потому что скользко, / в запятые и точки. <…>» («Декабрь во Флоренции», 1976 [II; 384]); «Отсутствие мое большой дыры в пейзаже / не сделало; пустяк: дыра, – но небольшая. / Ее затянут мох или пучки лишая, / гармонии тонов и проч. не нарушая» («Пятая годовщина (4 июня 1977)»[II; 421]); «Склоны, поля, овраги / повторяют своей белизною скулы. / <…> / И в занесенной подклети куры / <…> / кладут непорочного цвета яйца. / Если что-то чернеет, то только буквы. / Как следы уцелевшего чудом зайца» («Стихи о зимней кампании 1980 года», 1980 [III; 11]); «Нарисуй на бумаге простой кружок. / Это буду я: ничего внутри. / Посмотри на него – и потом сотри» («То не Муза воды набирает в рот» [III; 12]); «Жужжанье мухи, / увязшей в липучке, – не голос муки, / но попытка автопортрета в звуке / „ж“. Подобие алфавита, / тело есть знак размноженья вида / за горизонт»; «И долго среди бугров и вмятин / матраса вертишься, расплетая, / где иероглиф, где запятая» (оба примера – из «Эклоги 5-й (летней)», 1981 [III; 37, 41]); «Я всматриваюсь в огонь. / На языке огня / раздается „не тронь“ / и вспыхивает „меня“» («Горение», 1981 [III; 29]); «Рим, человек, бумага» («Римские элегии», 1981 [III; 47]); «<…> смех громко скрипел, оставляя следы, как снег, / опушавший изморозью, точно хвою, края / местоимений и превращавший „я“ / в кристалл, отливавший твердою бирюзой, / но таявший после твоей слезой» («Келломяки», 1982 [III; 60]); «Эти горы – наших фраз / эхо»; «Горы прячут, как снега, в цвете собственный глагол» («В горах», 1984 [III; 84–86]); «И более двоеточье, чем частное от деленья / голоса на бессрочье, исчадье оледененья, / я припадаю к родной, ржавой, гранитной массе / серой каплей зрачка, вернувшейся восвояси» («Вот я и снова под этим бесцветным небом…», 1990 [IV (2); 92]) [87]87
Здесь содержится реминисценция из пушкинского «Сравнения»: «У Депрео была лишь, / А у меня: с…» (I; 262).
[Закрыть]; «Хоть приемник включить, чтоб он песни пел. / А не то тишина и сама – пробел» («Метель в Массачусетсе», 1990 [IV (2)]); «Видимо, шум листвы <…>/<…>/пользовался каракулями <…>» («Воспоминание», 1995 [IV (2); 196]).
Черный и белый цвета ассоциируются с бумагой и шрифтом (алфавитом) и с живописью (с картинами Казимира Малевича – это поэтическая формула Бродского): «Вычитая из меньшего большее, из человека – Время, / получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом / фоне отчетливей, чем удается телом / это сделать при жизни, даже сказав „лови!“» («В Англии», VII [II; 439]); «Так родится эклога. Взамен светила / загорается лампа: кириллица, грешным делом, / разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, / знает больше, чем та сивилла, / о грядущем. О том, как чернеть на белом, / покуда белое есть, и после»; «Днем, когда небо под стать известке, / сам Казимир бы их не заметил, // белых на белом» (оба примера – из «Эклоги 4-й (зимней)» [III; 16, 18]); «Белый на белом, как мечта Казимира» («Римские элегии», 1981 [III; 48]).
Этот созвучный поэтике барокко [88]88
О барочности Бродского писал Виктор Куллэ: Кулю В.Иосиф Бродский: новая Одиссея // Бродский И. А.Сочинения. [Изд. 2-е]. Т. I. СПб., 1997. С. 289–290, 291–292. Поэтика Бродского, действительно, во многом родственна барокко. Но, используя «темную» метафору Роберта Музиля, ее можно назвать «барокко пустоты» ( Музиль Р.Человек без свойств: Роман / Пер. с нем. С. Апта. Кн. 1. С. 307).
Поэзия Бродского во многом сходна с поэзией английского барокко – с «метафизической поэзией» ( Иванов Вяч. Вс.Бродский и метафизическая поэзия // Иванов Вяч. Вс.Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 768–777). И. О. Шайтанов проанализировал образный ряд «вспышки огня / пламени – сердце, ставшее пламенем – небо – земля» в «Горении» Бродского – «классический пример развернутой метафоры, так часто встречающейся в „метафизической поэзии“. И пожалуй, не так часто у самого Бродского» ( Шайтанов И.Уравнение с двумя неизвестными (Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский) // Вопросы литературы. 1998. № 6. С. 37).
Ср.: замечания О. А. Седаковой, впрочем, отрицающей глубокое сходство поэзии Бродского с английской барочной (метафизической) поэзией: «С английскими метафизиками если что и роднит его, то острое и неотступающее переживание смерти, конечности, распада <…>. <…> Вторая сближающая Бродского с барочными метафизиками черта – воля к форме, виртуозной форме» ( Седакова О.<Воля к форме>. С. 235).
Характер риторичности Бродского и отношений «автор – текст» в его поэзии обнаруживает несомненное сходство с барочной поэтикой, как она описана А. В. Михайловым: «Барокко – <…> не что иное, как состояние готового слова традиционной культуры– собирание его во всей полноте, коллекционирование и универсализация <…>»; «Или, еще иначе, это предфиналвсей традиционнойкультуры»; «<…> Писатель в эту эпоху есть создание произведения, того, какое творится им же самим, он, если заострить эту ситуацию, есть производитель произведения, а в своей поэтике – произведение поэтики этого произведения. Сознательно ставя перед собой творческие задачи, писатель вследствие этого вторгается в известный круг поэтических возможностей, которые направляют его и направляются им»; «<…> Не произведение принадлежит своему автору, а, напротив, автор – своему произведению» (Поэтика барокко: завершение исторической эпохи // Михайлов А. В.Языки культуры: Учебное пособие по культурологии. М., 1997. С. 168, 166,136). Замечание А. В. Михайлова о сочетании в барочных текстах топосов и «непереработанной жизненности», автобиографического материала в полной мере может быть отнесено к Бродскому ( Там же.С. 130–131).
Родственны барокко случаи энигматического построения текста, ключевые концепты которого не находят непосредственного словесного выражения. Так, в «Рождественском романсе» (1961? 1962?) лунапрячется за другими, метафорическими образами ( Лекманов О. А.Луна и река в «Рождественском романсе» Иосифа Бродского // Лекманов О. А.Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. С. 343–348). Менее доказательна мысль исследователя о вуалировании в «Рождественском романсе» реки:ни одна из московских рек не обозначена даже метафорой, а «темно-синяя волна» – это, конечно, и метафора «моря жизни», но прежде всего – иносказательное обозначение ночного неба, по которому и плывет луна-кораблик.
Трудно также согласиться с утверждением О. А. Лекманова, что «мертвецами» в строках «И мертвецы стоят в обнимку / с особняками» названы новые московские дома. Слова «в обнимку» не содержат пейоративных коннотаций, которых мы были бы вправе ожидать в случае с упоминанием «новых домов». «Мертвецы» – это, скорее всего, не метафора, а умершие владельцы старых московских особняков. Ср. в «Рождественском романсе» мотив «людей старого века»: «такси с больными седоками», один из седоков – конечно, Анна Ахматова, едущая на Ордынку к Ардовым: «любовник старый и красивый». В поэзии Бродского встречаются случаи уподобления статуи человеку («Декабрь во Флоренции» и др.).
Барочное «остроумие», консептизм присущи многим текстам Бродского. Таково снятие оппозиции «пожар – потоп», приравнивание пожара к потопу в стихотворениях «Пришла зима, и все, кто мог лететь…» и «В этой комнате пахло тряпками и сырой водой…»(см. о снятии этой оппозиции: Келебай Е.Поэт в доме ребенка (пролегомены к философии Иосифа Бродского). С. 103–104, 113). Но Е. А. Келебай не отметил, что в строках «Значит, я еще жив. То ли там был пожар, / либо – лопнули трубы, и я бежал» (III; 113) из стихотворения «В этой комнате пахло тряпками и сырой водой…» «материализована» поговорка «пройти огонь, воду и медные трубы».
Другой пример барочного «остроумия» – стихотворение «На смерть друга» (отклик на недостоверное известие о смерти в Москве С. Чудакова, якобы замерзшего в московском подъезде, – см. об этом, напр.: Михайлов О.Московский плут из магаданских лагерей // Новая газета. 22–28 января 2001 г. № 4 (647). С. 22). Бродский обыгрывает прямые и переносные значения в строке «и замерзшему насмерть в параднике третьего Рима» и искусно варьирует семантику берега – с одной стороны, как знака загробного мира, в котором оказывается адресат стихов, с другой – как метонимии, обозначающей Америку, в которой очутился сам автор.
В духе барочного консептизма и перифрастическое именование ручья, родника «лошадиным изумрудом», мелькнувшим меж ветвей, в стихотворении «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам» (I; 226): «лошадиный изумруд» – «лошадиный источник, иначе – Гиппокрена», источник поэзии ( Жигачева М. В.Баллада в раннем творчестве Иосифа Бродского // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1992. № 4. С. 51). Барочное обыгрывание противоположных коннотаций слова «двери» представлено в «К стихам» (1967): «Все двери/настежь будут вам всегда. Ноне / грустно эдак мне слыть нишу: / я войду в одне, вы – в тыщу» (II, 39). Метафорическим дверям гробового входа(ср. двери,через которые войдут погребающие лирического героя, в стихотворении «1972 год») противопоставлены двери в жизнь,открытые стихам.
Виртуозность этих строк заключается еще и в том, что, внешне являясь «развитием» послания Кантемира «К стихам моим», они являются зеркальным отражением стихов Пушкина, в которых бессмертие признавалось за лирическим героем-поэтом, а его творения ждала алчная Лета: «Мой друг! неславный я поэт, / Хоть христианин православный. / Душа бессмертна, слова нет, / Моим стихам удел неравный – / И песни музы своенравной, / Забавы резвых юных лет, / Погибнут смертию забавной, / И нас не тронет здешний свет! / Ах! ведает мой добрый гений, / Что предпочел бы я скорей / Бессмертию души моей / Бессмертие своих творений» («В альбом Илличевскому» [I; 227]).
О Бродском и барокко см. также: MacFayden D.Joseph Brodsky and the Baroque. Quebec, 1998.
[Закрыть]прием поддержан другим – приемом наделения поэтической, словесной формы иконической функцией.текст у Бродского не просто описывает предметы, но иногда их изображает, подобно искусствам, построенным на иконических знаках, – таким, как живопись или кинематограф. Такая установка присуща многим поэтическим системам (например, барокко) и не является отличительным признаком именно поэтики Бродского [89]89
Ср. наблюдения, касающиеся тенденции в художественной литературе к превращению конвенциональных знаков, какими являются слова естественного языка, в иконические: Лотман Ю. М.Структура художественного текста. М., 1970. С. 29–34; Эко У.Ускользающая структура: Введение в семиологию / Пер. с ит. М., 1998. С. 84–88. Много примеров такого рода содержит кн.: Эткинд Е. Г.Материя стиха; примеры из современной русской поэзии в кн.: Зубова Л. В.Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.
[Закрыть]. Но у Бродского она выражена довольно отчетливо и даже настойчиво. Иконическую функцию у Бродского получают графическая форма слова и положение буквы в слове:
«Как ты жил в эти годы?» – «Как буква „г“ в „ого“».
«Опиши свои чувства». – «Смущался дороговизне».
«Что ты любишь на свете сильней всего?»
«Реки и улицы – длинные вещи жизни».
(«Темзав Челси», 1974 [II; 351])
В этих строках превращение конвенциональных знаков – буквы и слова – вступает в сложную игру с контекстом. Положение буквы «г» в слове «ого» ассоциируется с зажатостью, несвободой, и эта семантика вступает в противоречие с утвердительным, позитивным смыслом самого восклицания – создается самоотрицание.Но буква «г» в русском языке еще и эвфемистическое сокращение слова «говно». В словах «говно» и «говенно» так же, как и в слове «ого», две буквы «о», и «ого» можно считать окказиональным эвфемизмом, замещающим «неприличное» словцо. Таким образом, ответ может быть прочитан как «говенно».
О «длинных вещах жизни» сказано в стихе, который кажется длиннее соседних: «Реки и улицы – длинные вещи жизни». Этот эффект вызван, во-первых, тем, что стих состоит не из нескольких предложений и даже не из одного, как предыдущие строки, но является эллиптической конструкцией. Монотония задается также повтором гласных е – и – у – и – ы – и – ы – и – е – и – ы – и.
Длина строк, число слогов в стихе зримо изображают разворачиваемый веер:
Умолкает птица.
Наступает вечер.
Раскрывает веер
испанская танцовщица.
(«Испанская танцовщица», 1993 [III; 229])
Первая строка совпадает с границами предложения, вторая – тоже, но предложение, в котором сказано о раскрываемом веере, уместилось в два стиха – третий и четвертый. Эта пара строк – графическое подобие раскрытого веера. Последняя из строк, четвертая, длиннее предыдущих – в ней восемь, а не шесть слогов: строка словно раскрылась подобно вееру.
Иконическую функцию в поэзии Бродского выполняет и enjambement, например в уже цитировавшемся стихотворении «1972 год»:
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы.
(II; 292)
Межстиховая пауза после слова «теряя» как бы отрезает от него утрачиваемые лирическим героем «волосы, зубы, глаголы, суффиксы». А пауза после «ветви на» передает эффект бросания ветвей и листьев на кровлю. Неправильная форма глагола – «скончаю» или как искажение правильного «закончу» (з(а)кончаю – скончаю) или как «сокращение» глагола «скончаюсь» (скончаюсь) – скончаю) – воссоздает эту ожидаемую потерю «морфем» родного языка на чужбине.
Установкой на неразличение знака и денотата объясняются такие особенности поэтики Бродского, как реализация, овеществление метафор и пристрастие к особому роду метафор – к метафорам-идентификациям типа «А есть В»: «Сухая, сгущенная форма света – / снег <…>»; «Время есть холод» (оба примера – из «Эклоги 4-й (зимней)» [III; 13, 14]) [90]90
Поэтика метафоры у Бродского разобрана в статье: Polukhina V.A Study of Metaphor in Progress: the Poetry of Joseph Brodsky // Wiener Slawitischer Almanach. Bd. 17.1986. S. 149–185. О соотношении вещей и самой жизни с языком в поэзии Бродского см. также наблюдения А. Уланова ( Уланов А.Язык как судьба // Иосиф Бродский и мир. Метафизика. Античность. Современность. С. 277–278).
[Закрыть].
Поэтика суждений.
Поэзия Иосифа Бродского имеет особенное философское измерение. Как заметил М. Ю. Лотман, многие стихотворения Бродского могут рассматриваться как обобщающие суждения, соединенные цепью образов [91]91
Лотман М.Русский поэт – лауреат Нобелевской премии по литературе. С. 184.
[Закрыть]. Частая у Бродского строка – или простое суждение типа «А есть В», или суждение сложное, в котором пропозиции соединены между собой согласно принципу утверждения и вывода, или условия и результата: А поэтому В; если А то В; А но В и т. п. Однако «элементы» этих конструкций – слова, понятия, ситуации и т. д. – не предусматривают каких-либо логических соотношений. Эти отношения устанавливает и «навязывает» только сам поэт. Соответственно эти суждения не могут быть истинными или ложными, хотя могут казатьсятаковыми. Внутренняя логика, создаваемая поэтом, загадочна, окказиональна и обусловлена контекстом.
Вот ряд примеров: «<…> вблизи вулкана / невозможно жить, не показывая кулака; но / и нельзя разжать его, умирая, / потому что смерть – это всегда вторая / Флоренция с архитектурой рая» («Декабрь во Флоренции», 1976 [II; 383]). В этом фрагменте частное (остающееся в подтексте) заменено общим. Подтекст этих строк – история изгнания Данте из Флоренции. Она, оставаясь в подтексте, обладает детерминирующими коннотациями. Она как бы повторяется – как причина изгнания и злоключений каждого отдельного человека или каждого поэта. Глагольные инфинитивные формы, имеющие генерализующий характер, прочитываются как невозможнои нельзя.Но это обобщение выражено в форме конкретного, единичного события. Вместо подразумеваемого высказывания о поэте (определенном человеке), протестующем против окружения, против обстоятельств, что приводит к его изгнанию, мы видим образы, связанные с определенным местом, и конкретные жесты: «вблизи вулкана / невозможно жить, не показывая кулака». Строки, содержащие высказывание: «но / и нельзя разжать его, умирая, / потому что смерть это всегда вторая / Флоренция с архитектурой рая», – могут быть прочитаны двояко, а именно так: во-первых, – поэт (определенный человек) изгнан навечно; и, во-вторых, – в то же время он остается навечно в культуре и памяти, даже если подвергся изгнанию и проклинает своих преследователей, подобно Данте, который заключен в памяти флорентийцев, как в вечной темнице. Бродский преобразовывает частный случай Данте в полуподтекстовоеобобщение – утверждение благодаря сотканной им сети утверждений: Данте изгнан; статуя Данте остается во Флоренции; статуя не может разжать кулак (статуя – символ смерти в поэтической мифологии Бродского); смерть Данте – один из ликов вечности; Рай есть вечность; Данте написал кантику «Рай»; Флоренция – потерянный Рай для изгнанника Данте. Стихотворение, однако, устанавливает связи не прямо между этими базовыми утверждениями, а между их элементами – образами, символами, знаками. Жесткая структура сигнификации при этом разрушается: один знак соответствует более чем одному базовому утверждению.
Еще один пример: «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле / серых цинковых волн, всегда набегавших по две, / и отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос, / вьющийся между ними, как мокрый волос» («Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» из цикла «Часть речи», 1975–1976 [II; 403]). Цепь базовых утверждений, скрывающихся за этими строками, такова: Я родился в Петербурге; Петербург – колыбель русской поэзии; поэтому я стал поэтом. Ассоциация между русской поэзией и Петербургом устанавливается аллюзией на «петербургский текст» Пушкина – поэму «Медный Всадник» (балтийские болота и морские волны). Значимо также соответствие между предметом описания (парными волнами) и структурой описывающего текста (с парными рифмами).