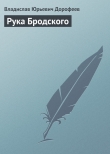Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)
Экскурс 3. «Воротиться сюда через двадцать лет»: путешествие Одиссея в поэзии Бродского
«Посвящается Ялте» и «Посвящается Чехову», о которых шла речь в предыдущем экскурсе, – не единственная двойчатка среди поэтических текстов Бродского. Еще один диптих – «Одиссей Телемаку» (1972) и «Итака» (1993) [729]729
О других поэтических текстах Бродского, содержащих образ Одиссея (Улисса), см.: Zubova L.«Odisseus to Telemachus» // Joseph Brodsky: The Art of a Poem. Ed. by Lev Loseff and V. Polukhina. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London; N.Y., 1999. P. 28.
[Закрыть]. Эти стихотворения как бы зеркально симметричны по отношению друг к другу [730]730
Как тонко заметила Л. В. Зубова, «Одиссей Телемаку» и «Итака» находятся по отношению друг к другу в стилистической оппозиции: поэтическому слогу раннего текста соответствует нарочитая грубость второго («младенец – пацан» и др.). Исследовательница показала, что в «Итаке» происходит разрушение грамматической связности языка, совершенно чуждое «Одиссею Телемаку» и иллюстрирующее в плане выражения мотив этого позднего стихотворения – невозможность коммуникации героя с теми, кто населяет остров; иногда слова в «Итаке» даже теряют однозначную частеречную принадлежность: «залив» – и деепричастие, и существительное, «Итака» – и название острова, и трансформированное словечко «итак»: Zubova L.«Odisseus to Telemachus». P. 38–40.
[Закрыть]. В «Одиссее Телемаку» говорится о желанном, но чреватом препятствиями и, быть может, неосуществимом возвращении на родину, к милому сыну.
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной…
<…>
<…> Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга…
<…>
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
(II; 301)
«Одиссей Телемаку» варьирует мотив трагической разлуки с сыном из стихотворения «Сын! Если я не мертв, то потому…» (1967):
Сын! Если я не мертв, то потому
что, связок не щадя и перепонок,
во мне кричит все детское: ребенок
один страшится уходить во тьму.
<…>
Сын! Если я не мертв, то потому
что близость смерти ложью не унижу:
я слишком стар. Но и вблизи не вижу
там избавленья сердцу моему.
<…>
Услышь меня, отец твой не убит.
(II; 55)
Несмотря на присутствие христианских образов (Бог, Ад, Рай, апостол – подразумевается райский ключарь святой Петр), это произведение также соотнесено с «Одиссеей» Гомера как с претекстом. Опровержение героем вести (принадлежащей сыну и, возможно, внушенной ему кем-то) о своей насильственной смерти напоминает о мотиве гомеровской поэмы. В начале «Одиссеи» Телемак убежден в смерти отца, о чем говорит Афине Палладе, приходящей к нему в образе Ментора:
– Милый мой гость, не сердись на меня за мою откровенность;
Здесь веселятся; у них на уме лишь музыка да пенье;
Это легко: пожирают чужое, без платы, богатство
Мужа, которого белые кости, быть может, иль дождик
Где-нибудь мочит на бреге, иль волны по взморью катают.
Если бы он вдруг перед ними явился в Итаке, то все бы,
Вместо того, чтоб копить и одежды, и золото, стали
Только о том лишь молиться, чтоб были их ноги быстрее.
Но погиб он, постигнутый гневной судьбой, и отрады
Нет нам, хотя и приходят порой от людей земнородных
Вести, что он возвратится – ему уж возврата не будет.
В отличие от стихотворений «Сын! Если я не мертв, то потому…» и «Одиссей Телемаку», в «Итаке» возвращение представлено как событие реальное или, по крайней мере, возможное; инфинитивы глаголов «воротиться» и «отыскать» в первых строках («Воротиться сюда через двадцать лет, / отыскать в песке босиком свой след» [III; 232]) могут выражать как изъявительное, так и условное наклонение. Но это возвращение бессмысленно и безрадостно:
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.
Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.
Твой пацан подрос; он и сам матрос,
и гляди! на тебя, точно ты – отброс.
(III; 232)
Ставшие хрестоматийными ситуации узнавания (старой собакой и верной служанкой, обнаружившей давний шрам на ноге гостя, которую служанка омывала) вернувшегося Одиссея из поэмы Гомера воссозданы, но «вывернуты наизнанку», дополнены знаком «не»; трогательное узнавание не совершилось, герой всеми забыт, никому не нужен [732]732
Упоминание об умершей прислуге также соотносится с пушкинским «…Вновь я посетил…», в котором сказано о няне, скрасившей лирическому герою дни изгнания: «Уже старушки нет – уж за стеною / Не слышу я шагов ее тяжелых, / Ни кропотливого ее дозора» (III;. 313). Но соотнесенность текстов Бродского и Пушкина основана скорее не на сходстве, а на контрасте. Одиссей десять лет пытался добраться до родного острова, пушкинский герой десять лет был вдали от памятного «уголка земли». В обоих стихотворениях выражен мотив необратимых перемен. Но у Пушкина они воспринимаются как естественный закон бытия, не вызывающий протеста и несогласия; кроме того, связи с прошлым не оборваны («Минувшее меня объемлет живо, / И, кажется, вечор еще бродил / Я в этих рощах» [Там же. С. 313]), как и связи с будущим (внук «обо мне вспомянет» [Там же. С. 314]). В «Итаке» же отчуждение и от прошлого, и от будущего (обозначенного фигурой сына) абсолютно.
[Закрыть]. Сын (Телемак) и любимая женщина (жена Одиссея Пенелопа) – в поэме Гомера символы преданности, любви и верности; в стихотворении Бродского они воплощают неверность и измену (женщина) и враждебность к отцу (сын). Гомеровский текст как бы стирается или смывается Бродским: поверх него пишется новый текст – зеркальный по отношению к исходному.
В стихотворении «Одиссей Телемаку» упоминалось о вынужденном пребывании странствующего героя на чужом острове,по приметам – на острове Цирцеи («Мне неизвестно, где я нахожусь, / что предо мной. Какой-то грязный остров, / кусты, постройки, хрюканье свиней, / заросший сад, какая-то царица, / трава да камни… Милый Телемак, все острова похожи друг на друга, / когда так долго странствуешь <…>»), в «Итаке» – о возвращении на остров родной,но герою незнакомый и, быть может, по ошибке принятый за Итаку («То ли остров не тот <…>» [III; 232]).
Интертекстуальные связи между стихотворениями «Одиссей Телемаку» и «Итака» устанавливаются не только благодаря по-разному примененному Гомерову коду, но и благодаря повторяющимся образам, не восходящим к «Одиссее». Строки из «Одиссея Телемаку»:
<…> и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застиг слух —
(II; 301)
отражены в «Итаке»:
<…> то ли впрямь, залив
синевой зрачок, стал твой глаз брезглив:
от куска земли горизонт волна
не забудет, видать, набегая на.
(III; 232)
В обоих текстах совпадают концепты глаз/зрачок, засоренный/заполненный горизонтом/морем.Но в тексте 1972 года концепт глазсодержит сему «плач», ассоциирующуюся не только с «слезящимся от напряжения глазом», но и вводящую подтекстовый мотив «плача по родине и сыне». В позднем же стихотворении взгляд героя брезглив, и только. Синее морское пространство, как бы и пьянящее героя (слова «залив / синевой зрачок» – трансформация исходного фразеологизма «залить глаза» – «напиться»), и омывающее его взор, противопоставлено неприветливой и неверной земле. А заключительное «неполное» (лишенное дополнения) выражение «набегая на» напоминает эвфемистически оборванное обсценное: «Иди ты на…», словно обращенное «новым Одиссеем» к своей Итаке.
«Одиссея Телемаку» и «Итаку» сближают также цитаты из одного поэта – Осипа Мандельштама В стихотворении 1972 года это реминисценции из «Золотистого меда струя из бутылки текла…» и из «Батюшкова». Строки «как будто Посейдон, пока мы там / теряли время, растянул пространство» (II; 301) – отголосок стихов «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем полный» из «Золотистого меда струя из бутылки текла…» [733]733
Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 139. Далее стихотворения Мандельштама цитируются по этому изданию, страницы указываются в тексте.
[Закрыть]. При очевидном сходстве концептов ( пространствои времяу Мандельштама и – в инвертированном виде – времяи пространствоу Бродского) смысл высказываний у двух поэтов противоположен: автор сборника «Tristia» говорит о счастливом возвращении и об обретенных времени и пространстве, отвечающий ему Бродский – о возвращении невозможном или затрудненном, о времени потерянном и о пространстве, отдаляющем странствующего героя от конечной цели.
Механизм цитаты из «Батюшкова» в «Одиссее Телемаку» более сложен – это не просто полемика, не оспаривающее переписывание чужого претекста. Строка «и водяное мясо застит слух» (II; 301) восходит к мандельштамовским «Только стихов виноградное мясо / Мне освежило случайно язык…» (с. 218) [734]734
У Мандельштама встречается также выражение «хвойное мясо»: «Глаз превращался в хвойное мясо» («День стоял о пяти головах Сплошные пять суток…» – с. 244).
[Закрыть]. На первый взгляд, «Одиссей Телемаку» и «Батюшков» не имеют ничего общего, кроме причудливого образа водяного / виноградного мяса: Бродский пишет о разлуке с сыном, а Мандельштам, стоящий у края бездны и предощущающий приход немоты, беседует с нежным стихотворцем золотого века. Цитата из «Батюшкова» может показаться знаком, указывающим на поэзию Мандельштама и, тем самым, на другой мандельштамовский текст – на стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла…». (Между прочим, виноград – отличительная примета греческого / причерноморского мира в этом тексте [735]735
«Всюду Бахуса службы»; «Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград <…> Я сказал: виноград, как старинная битва живет»; «пахнет <…> свежим вином из подвала» (с. 139).
[Закрыть].) Но это не так.
Инвариантный мотив «Батюшкова» – непрерывный диалог с традицией:
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.
И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык…
Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…
(с. 218)
Вкушение виноградного мяса в мандельштамовском тексте соотносится с пробуждением поэтического слуха, со способностью внимать «шуму стихотворства», «колоколу братства» и «гармоническому проливню слез». Образ виноградного мясаобладает сакральными коннотациями причащения телу(но не телу Христову, а священной плоти поэзии). Одновременно эпитет «виноградное» отсылает к причащению крови под видом вина(но опять же, не крови Христовой, а крови-вину поэзии). У Бродского же вместо плоти влага, вместо пьянящего напитка, вина поэзии – вода. Парадоксальный образ жидкой плоти – «водяного мяса» – символизирует начало, противоположное символическим коннотациям «виноградного мяса», – глухоту: «водяное мясо застит слух». Цитата из «Батюшкова» имеет у Бродского два денотата-претекста. Помимо мандельштамовского стихотворения, это стихи самого Батюшкова «Есть наслаждение и в дикости лесов» (стихотворение цитируется в мандельштамовском «Батюшкове» – «этот говор валов» [736]736
Мец А. Г.Комментарий // Мандельштам О.Полное собрание стихотворений. С. 588.
[Закрыть]). Строки из батюшковского текста «И есть гармония в сем говоре валов, / Дробящихся в пустынном беге» [737]737
Батюшков К. Н.Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 414.
[Закрыть]переворачиваются у Бродского в образ бесконечно бегущих волн, монотонный шум которых оглушает:
…и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет
и водяное мясо застит слух.
(II; 301)
Одновременно «Итака» Бродского – отзвук батюшковской «Судьбы Одиссея», в которой содержится восходящий к Гомеру мотив возвращения на неузнанную землю отчизны:
Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
Не потрясли души высокой.
Казалось, победил терпеньем рок жестокий
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал [738]738
Там же. С. 188.0 значении мотива странствия Одиссея в поэзии Батюшкова см.: Зубков Н.Наперегонки со смертью (Константин Батюшков) // Персональная история. М., 1999. С. 92–93.
Реминисценции из поэзии Батюшкова встречаются и в «Горении» (1981) Бродского. Строки «Как менада пляши / с закушенной губой» (III; 30), в которых закушенная губа ассоциируется с алым как цветом крови ( закушенная до крови губа),напоминают о батюшковской метафоре алых уст из «Вакханки»: «И уста, в которых тает / Пурпуровый виноград» ( Батюшков К. Н.Сочинения: В 2 т. Т. 1. С. 229); ср. образ «алые уста» в «Выздоровлении»: «И алых уст твоих даканье» (Там же. С. 174). «Горение» Бродского и «Выздоровление» Батюшкова роднят как сходные грамматические признаки слова, составляющего заглавие (сущ. ср. рода на «-ие»), так и общий мотив страсти как силы, воскрешающей от смерти.
[Закрыть].
Утверждение невозможности диалога, мотив не-встречи с сыном в «Одиссее Телемаку» как бы подвергнуты частичному самоотрицанию: встреча с сыном невозможна или затруднена, но все же диалог с традицией сквозь толщу «водяного мяса» совершается.
В «Итаке» «перевернутый» мандельштамовский образ – образ «растянутого» водного пространства из «Одиссея Телемаку» – повторен. В мандельштамовском «Золотистого меда струя из бутылки текла…» волныассоциируются с дорогой домой («Всю дорогу шумели морские тяжелые волны», с. 139), а в «Итаке» с бездомностью. Собакив «Золотистого меда струя из бутылки текла…» («Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни / Сторожа и собаки <…>», с. 139) в свете концовки с упоминанием об Одиссее и Пенелопе опознаются как «двойники» собаки Одиссея, узнавшей хозяина в чужеземце и радостно приветствовавшей его. Барбосиз стихотворения Бродского, встречающий хозяина злобным лаем, контрастно соотнесен с собакой Одиссея не прямо, а через текст Мандельштама. Старую собаку Одиссея в «Итаке» более напоминает сам давно немолодой герой, кажущийся отвыкшему сыну «отбросом»: слово «отброс» – анаграмма «барбоса».
Семантическое пространство, окружающее «Одиссея Телемаку» и «Итаку», не ограничивается текстами Гомера, Батюшкова и Мандельштама. Основной текст-посредник, исполняющий роль «кодирующего устройства», превращающего поэму о счастливом возвращении Одиссея в стихотворения о возвращении несостоявшемся и / или нежеланном, – роман Джеймса Джойса «Улисс». (Кстати, лирический герой Бродского уподоблен Улиссу —Одиссею с латинским, а не греческим вариантом имени – в раннем стихотворении «Я как Улисс», 1961, содержащем мотив непрекращающегося и не ведущего ни к какой цели странствия – скитальчества и потерянного времени [739]739
«…Гони меня, ненастье, по земле, / хотя бы вспять, гони меня по жизни»; «и чужаки(выделено мною. – А.Р.) по-прежнему снуют / в январских освещенных магазинах»; «хлебну зимой изгнаннической чаши // и не пойму, откуда и куда / я двигаюсь, как много я теряю / во времени <…>»; «<…> и кажется отрадно, / что, как Улисс, гоню себя вперед, / но двигаюсь по-прежнему обратно» (I; 152). Мотив «потерянного времени» у Бродского ассоциируется с циклом романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» («А la recherche du temps perdu»), но на уровне фразеологии совпадает с пушкинской строкой «Но потерял я только время» из стихотворения «Свободы сеятель пустынный…» (II; 145).
[Закрыть].) В стихотворениях Бродского преображены благодаря Гомерову коду события подлинной жизни поэта: роман с М. Б., рождение сына, измена возлюбленной и разрыв, затем – отъезд Бродского, лишивший его всех надежд на встречу с сыном. Основной мотив «Одиссея Телемаку» – невозможность и жажда свидания с сыном, – превращающийся в «Итаке» во встречу-не-узнавание нового Одиссея новым Телемаком. Но этот мотив восходит именно к роману Джойса, в котором внешние параллели с сюжетом и персонажами «Одиссеи» также сочетаются с глубинными различиями двух произведений. «Улисс», как позднее «Итака», – это поэма Гомера «наизнанку».
По замечанию С. Хоружего, «„Улисс“ – роман об Отце и Сыне. Со Стивеном связывается тема сыновства, с Блумом – тема отцовства, и „старшая“, отцовская линия занимает гораздо большее место. Она есть нечто новое в творчестве Джойса, и в основном это через нее входят в роман его литературные новшества и находки» [740]740
Хоружий С.Вместо послесловия // Джойс Дж.Улисс: Роман / Пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего. М., 1993. С. 551.
[Закрыть]. Соотнесенность с «Одиссеей» «проявляется в сюжетной, тематической или смысловой параллели, а также в том, что для большинства персонажей романа имеются прототипы в поэме Гомера: Блум – Одиссей (Улисс, в латинской традиции), Стивен – Телемак, Молли Блум – Пенелопа <…>» [741]741
Там же. С. 551.
[Закрыть].
Прочтение Бродским Гомера по образу джойсовского мотивировано подтекстовой идентификацией поэтом реальной ситуации и трех ее участников (Бродского – М. Б. – их сына) с ситуацией и персонажами «Улисса». Главный герой романа, дублинский еврей Леопольд Блум, потерял умершего в младенчестве сына Руди и мучается от этой давней потери: «Нет подле тебя сына от чресл твоих. Некому для Леопольда быть тем, кем был Леопольд для Рудольфа» [742]742
Там же. С. 320. В кощунственном преломлении этот мотив представлен в эп. 14 «Улисса» как «бессыновство» Бога – «Никтоотца» (там же. С. 306).
[Закрыть](ср. «явление» Руди Блуму в финале эп. 15, «Цирцея»); жена Мэрион (Молли) Блум изменяет мужу с импресарио Буяном Бойланом, и Блуму известно об этом (этот мотив акцентирован в эп. 11, 15 и, главное, в итоговом эп. 18, дерзко названном «Пенелопа»); одинокий персонаж тянется к молодому Стивену Дедалу и приводит его к себе в дом – в Стивене он инстинктивно ищет своего Сына; но встреча произошла лишь в физическом пространстве, а не в психологическом: «Факты же таковы, что Стивен выпил у Блума в доме чашку какао, помочился в садике и отбыл в неизвестном направлении. Соединение „отца“ и „сына“ не состоялось, и то, что меж ними произошло, лучше всего можно обозначить словом Анны Ахматовой: невстреча» [743]743
Хоружий С.Комментарии // Там же. С. 657.
[Закрыть]. Горестный вывод Блума: «возвратиться – это самое худшее, что ты можешь придумать, потому что, без малейших сомнений, ты будешь себя чувствовать как лишняя спица в колеснице, раз неизбежно все изменяется во времени» (эп. 16, «Евмей») [744]744
Джойс Дж.Улисс. С. 449.
[Закрыть]. Последний эпизод романа, посвященного Блуму и Стивену, «Итака» – «в романе такое место, где „Улисс“ и „Телемак“ не сходятся, а расстаются. И „Пенелопа“, нарицательный символ верности во всей мировой культуре, совершает в романе всего единственное деяние – измену. Из такой картины трудно не заключить, что художнику была органически присуща „люциферова“ тяга к обращению, диаметральному перевертыванию всех классических схем и парадигм» [745]745
Хоружий С.Комментарии // Там же. С. 658. Ср. наблюдения комментатора по поводу эп. 16 («Евмей»), открывающего третью часть романа, названную «Возвращение»: «Две линии сошлись – но происходит нечто иное, нежели счастливое единение героев, чья встреча записана на небесах. Блум и Стивен сипят в ночной кучерской чайной и не находят о чем говорить. <…>. А больше не совершается ничего». И далее: «<…> наряду с соответствиями в эпизоде также намечается нарушение базисной парадигмы. Окончательного вывода пока нет, но мы уже ощущаем, что герои как-то не становятся в отношения настоящих Улисса и Телемака Что-то не то здесь: или впрямь Улисс не совсем настоящий, или Телемак, или, может быть, этому Телемаку не подходит этот Улисс? Очень джойсовская ситуация» (Там же. 650,651).
[Закрыть]. Сюжет горестного возвращения и измены жены проигрывается также в воображении Блума, еще не решившегося отправиться домой, как приход моряка в свой дом к неверной жене: «<…> моряк возвращается в свою придорожную хижину, удачно надув всех морских чертей, темной дождливой ночью. Вокруг света в поисках жены. Масса историй на эту тему <…>. Причем нигде и ни разу про возвращение жены из скитаний, как бы там она ни была предана тому, с кем в разлуке. <…> Вообразите его изумление, когда он наконец коснулся финишной ленточки, и тут ему открывается горькая истина о его прекрасной половине, крушение его лучших чувств и надежд» (эп. 16. С. 428). Так измена Молли Блум совершается словно бы трижды – в «реальности», дублинским днем 16 июня 1904 года, около 4 часов пополудни; в воображении Блума, в гомеровско-джойсовском тексте «Улисса».
Событийное сходство реальной ситуации «Бродский – изменившая ему М. Б.» (этот мотив стал инвариантом его поэзии [746]746
Чтобы не злоупотребить цитированием Бродского (мотив измены М. Б. трансформирован в очень многих текстах), сошлюсь хотя бы на книгу Л. М. Баткина, в которой подробно проанализированы произведения Бродского, которые можно условно отнесли к «любовной лирике»: Баткин Л. М.Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997. С. 99–142,170,285–296. Своеобразным метаописанием текстов Бродского, свидетельством «анаграммирования» имени М. Б. являются строки: «<…> Только подумать, сколько / раз, обнаружив „м“ в заурядном слове, / перо спотыкалось и выводило брови!» («Декабрь во Флоренции» (1976) [II; 384]).
[Закрыть]) с сюжетом «Улисса» очевидно. Смерти Блумова сына соответствует в судьбе Бродского разлука, при этом разлука может осознаваться сыном (под влиянием лжи, внушенной матерью?) как смерть отца: «Услышь меня, отец твой не убит» («Сын! Если я не мертв, то потому…» [II; 55]). При этом как бы инвертируется сюжетный мотив романа Джойса, в котором реальноумирает сын.Событийное сходство дополняется сходством имен: имя Мэрион Блум совпадает с именем М. Б. «Марианна», сходны инициалы обеих женщин. Инициалы фамилий Блума и Бродского также тождественны (кстати, в романе Блум однажды назван просто «мистер Б.» (эп. 16.) [747]747
Джойс Дж.Улисс. С. 442.
[Закрыть]. Одновременно совпадают первые буквы фамилий Бродского и М. Б., и это совпадение позволяет истолковывать их отношения в джойсовском коде как измену жены мужу.
Совпадения простираются и далее. Бродский – русский поэт и еврей по национальности, что делало его изгоем в советском обществе и вносило дополнительные сложности и «двусмысленность» в отношения с властью. Блуму небезразлична судьба Ирландии, но он также еврей, а потому его патриотические чувства постоянно ставятся под сомнение, а порой главного героя довольно бесцеремонно пытаются «поставить на место». Вот лишь два примера. Об изгойстве Блума, о Блуме как враге, «чужом» говорится в пространном фрагменте эп. 14 («Быки Солнца»): «Но по какому праву, позвольте нам вопросить благородного лорда, его покровителя, этот чужеземец, лишь милостью доброго государя получивший гражданские права, возводит себя в верховные судьи внутренних наших дел? Где та благодарность, которую предписывает ему уже простая лояльность подданного? Во время недавней войны <…> разве этот предатель своего племени не пользовался всякий раз случаем, чтобы обратить оружие против империи, где его до времени терпят, сам между тем дрожа за судьбу своих четырех процентов? Или он позабыл об этом, как предпочитает забывать обо всех получаемых им благах?» [748]748
Там же. С. 317.
[Закрыть]О гонениях на евреев («Евреев <…> обвиняют в разрушении») Блум вспоминает в разговоре со Стивеном, пытается доказать, что он сам тоже ревностный ирландец (эп. 16) [749]749
Там же. С. 443.
[Закрыть].
Наконец, переосмысленные в «Итаке» Бродского мотивы встречи героя верной собакой и опознания шрама служанкой уже были прежде сходным образом переиначены Джойсом. Шрам Блума двадцатидвухлетней давности (ср. совпадение с Одиссеем, вернувшимся на родину после двадцатилетней разлуки; рана была им получена еще раньше) опознает не преданная служанка, а Зоя в борделе (эп. 15, «Цирцея»); Блум же объясняет ей: «Шрам это несчастный случай. Двадцать два года назад упал и порезался» [750]750
Там же. С. 396.
[Закрыть]. По дороге к борделю Блума преследует собака, которой он отдает свиную ножку: « Бульдог рычит, шерсть у него на загривке встает дыбом, меж коренными зубами, сжимающими свиную кость, сочится бешеная слюна»(эп. 15) [751]751
Там же. С. 344.
[Закрыть]. О самом же Блуме Белло говорит: «вонючийпес» (эп. 15) [752]752
Там же. С. 336.
[Закрыть].
Семантически приход Блума в бордель эквивалентен возвращению Одиссея домой: именно поэтому здесь происходит и «опознание» шрама и «узнавание» собакой. Публичный дом в «Улиссе» соотнесен с островом Цирцеи. У Бродского в «Одиссее Телемаку» остров Цирцеи («какой-то царицы») был противопоставлен отдаленному дому, в «Итаке» же, возможно также по джойсовской модели, совершается своеобразное отождествление родного, хотя, быть может, и «не того», острова с обиталищем царицы-обольстительницы: героиня Бродского, «которая всем дала», более похожа на Цирцею [753]753
Ср. нарицательное употребление этого имени Пушкиным в «Деревне»: «<…> я променял порочный двор Цирцей» (I; 318).
[Закрыть], чем на верную целомудренную жену Одиссея.
Соотнесение «Я» в «Одиссее Телемаку» и особенно в «Итаке» с «Улиссом», уподобление себя Одиссею и (скрытно) герою Джойса несомненно объясняется также обнаруживающимся в романе о Леопольде Блуме мотивом не-существования, ирреальности человеческого «Я», точнее – «Я» Леопольда Блума Блум именуется «Никто» во фрагменте, который следует за описанием размышлений персонажа об оставлении дома, о бегстве из семьи:
Поэтика образа Блума в этом эпизоде (между прочим, названном «Итака») это поэтика разложения, атомизации: «Будучи разложен на эквиваленты, Блум перестает быть тем же человеком, что был, и предстает в своем общечеловеческом существе, как человек обобщенный, именно в знак этого автор наделяет его в конце, по завершении операции, новым именем: Всякий – и – Никто» [755]755
Хоружий С.Комментарии // Там же. С. 659.
[Закрыть].
У Бродского мотив не-существования «Я», называние себя «Никто» (именем, которое сказал Одиссей циклопу и которое обретает у Джойса Блум к финалу романа) повторяется очень часто, иногда именно в связи с утратой любимой и сына и с мотивом жизни как плавания-странствия:
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.
(«Лагуна» (1973) [II; 318])
«Уничтожение» «Я» у Бродского, обращение его в «ничто» объясняется представлением поэта о креативной, творящей сущности языка, а не пишущего; наиболее отчетливо эта идея была выражена в «Нобелевской лекции»: «<…> кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего существования» (I; 14–15) [757]757
Семантику словав поэтическом мире Бродского подробно анализирует В. П. Полухина: Polukhina V.Joseph Brodsky. A Poet for Our Time. Cambridge; N.Y.; Port-Chester, Melbourne; Sydney, 1989 (m. «Words devouring things»). Идея Бродского обнаруживает сходство с утверждением Р. Барта о «смерти автора» в современной литературе, о превращении автора в «скриптора», в орудие игры различных кодов. Автор становится не творцом текста, а его производным. Ср.: «Письмо – та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего»; «С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как „я“ всего лишь ют, кто говорит „я“; язык знает субъекта, но не „личность“, и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы „вместить“ в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности»; «Что же касается современного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается только лишь время – время речевого акта, и всякий текст пишется здесьи сейчас»(Смерть автора / Пер. с фр. С. Н. Зенкина // Барт Р.Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 384, 387). Ср. сходные высказывания Ю. Кристевой: «Автор, таким образом, – это субъект повествования, преображенный уже в силу самого факта своей включенности в нарративную систему; он – ничто и никто; он – сама возможность перехода С<убьекта повествования> в П<олучателя> <…>. Он становится воплощением анонимности, зиянием, пробелом затем, чтобы обрела существование структура как таковая». И далее: « Субъект высказывания-результатарепрезентирует субъекта высказывания-процесса в качестве его объекта. Он, следовательно, способен послужить субститутом авторской анонимности <…>» ( Кристева Ю.Бахтин, слово, диалог и роман / Пер. с фр. Г. К. Косикова // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1995. № 1. С. 108, 109).
Черты сходства между представлением Бродского о соотношении языка и поэта и постмодернистской идеей (настойчиво и не без эпатирующего задора высказанной Р. Бартом) позволили Л. Г. Федоровой заметить, что «философия языка» русского поэта – Нобелевского лауреата является постмодернистской ( Федорова Л. Г.Типы интертекстуальности в современной поэзии (постмодернистские и классические реминисценции). Автореф. дисс. <…> канд. филол. наук М., 1999. С. 16, 22–23; ср. вывод в тексте диссертации: «<…> авторская позиция по отношению к постмодернизму не всегда определяет тот или иной способ интертекстуальности: так, Бродский в философии языка приближается к постмодернистам, но, обращаясь к другим произведениям, традиционен в осуществлении межтекстовых связей» (С. 187–188). Однако это сходство позиций Бродского и постмодернистов имеет, по-видимому, внешний характер: для автора «Итаки» язык не хранилище разнообразных кодов, как в постмодернизме, а своеобразная «первосубстанция», имеющая сакральное значение; это энергия Бога.
Между прочим, Бродский, говоря о «диктате языка», называет среди мыслителей и писателей, приверженных сходным идеям, не постмодернистов, а «Плотина, лорда Шефтсбери, Шеллинга или Новалиса» («Нобелевская лекция» [I; 14]). Ср. также лишь внешне близкое к постмодернистской идее высказывание Стефана Малларме (упоминаемого Р. Бартом как первооткрывателя «смерти автора»): «Чистое творчество требует от поэта речевого самоустранения; поэт уступает инициативу словам <…> посылая друг другу свет и взаимно отражая отблески, они вспыхивают <…> – и нет уже трепетного вздоха, слышавшегося в дыхании прежней лирической поэзии, нет интимной взволнованности в движении фразы – есть только это сияние» («Кризис стиха» / Пер. с фр. Н. Мавлевич; цит. по изд.: Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993. С. 427–428).
[Закрыть].
«Итака» – явное свидетельство-признание джойсовского следа у Бродского. Хотя откровенных аллюзий на роман в стихотворении нет, соотнесенность устанавливается благодаря множеству совпадений и заглавию: название стихотворения то же, что и название эп. 17 в «Улиссе». Но и в поэтическом мире Бродского в целом есть по крайней мере одно, но очень значимое схождение с художественным миром Джойса. Похоже особенное отношение обоих авторов к водной стихии. Наиболее полно русский поэт выразил свое восприятие водной субстанции в эссе «Fondamenta degli uncurabili» («Набережная неисцелимых», ит.): «Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства. Но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби <…>. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью» (пер. с англ. Г. Дашевского) [758]758
Бродский И. А.Набережная неисцелимых: Тринадцать эссе / Пер. с англ. М., 1992. С. 218–219.
[Закрыть]. И чуть дальше: «<…> вода тоже хорал, и не в одном, а в многих отношениях Это та же вода, что несла крестоносцев, купцов, мощи св. Марка, турок, всевозможные грузы, военные и прогулочные суда и, самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говорю уже – бывал, в этом городе, всех, кто шел посуху или вброд по его улицам, как ты теперь. <…> Чудо, что город, гладя ее по и против шерсти больше тысячи лет, не протер в ней дыр, что она прежняя H 2O (хотя пить ее и не станешь), что она по-прежнему поднимается» [759]759
Там же. С. 239.
[Закрыть]. Текст для Бродского родствен воде: «<…> предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды „не в то время года“. Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непитьевая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое» [760]760
Там же. С. 212.
[Закрыть].
О философской, метафизической символике воды в поэзии и эссеистике Бродского напоминают строки из «Улисса»: «Что в воде восхищало Блума <…>?
Ее универсальность, ее демократическое равенство и верность своей природе в стремлении к собственному уровню <…> неутомимая подвижность ее волн и поверхностных частиц, навещая поочередно все уголки ее берегов; независимость ее частей <…>» (эп. 16) [761]761
Джойс Дж.Улисс. С. 463–464. Ср. замечание С. Хоружего: «Вода была одним из архетипов его мира <…>» (Там же. С. 660).
[Закрыть].
Жизненного сходства между Блумом и автором, Мэрион и женой Джойса Норой немного; Нора оставалась верной Джойсу женой [762]762
Ср.: Хоружий С.Комментарии // Там же. 570–571.
[Закрыть]. А в случае Бродского роман о новом Улиссе оказывается достаточно точным описанием, «моделью» его отношений с М. Б. Текст как бы предсказывает и порождает реальные события, которые «подстраиваются» под него. «Одиссей Телемаку» и особенно «Итака» – произведения с несколькими потайными или потаенными смыслами. И они вызывают различные интерпретации. Что же совершено Бродским? Во-первых, это «переписывание» Гомеровой поэмы, при котором из чужих элементов создается свой текст, по семантике противоположный исходному. Во-вторых, это процедура подмены означаемых у означающих, заимствованных у Гомера. Приобретая джойсовские коннотации, персонажи-актанты Бродского проецируются на события реальной жизни поэта. Или, если угодно, Гомер начинает говорить о Бродском голосом Джойса. В-третьих, это экспансия джойсовского текста в гомеровский: теперь речь идет уже не о дублинском еврее, но как бы о царе Итаки с судьбой Леопольда Блума. В персонажах (гиперперсонажах) Бродского склеено по несколько литературных героев: Одиссей – Одиссей Гомера и Мандельштама и Блум Джойса, она– Пенелопа Гомера и «не Елена, другая» из «Золотистого меда струя из бутылки текла…» и Мэрион Блум из «Улисса». И вместе с тем это – поэтические отражения самого поэта и его возлюбленной. Двадцать лет разлуки Одиссея с милым домом почти совпадают со временем, разделяющим два стихотворения Бродского: написанное в год эмиграции (1972) и созданное через двадцать один год (1993). Тексты Бродского – скрещение традиций, порождающее не игру, но горестную реальность – реальность одиночества, непонятости, скитальчества [763]763
Л. М. Баткин называет «Одиссея Телемаку» постмодернистским текстом, замечая, что постмодернист, в отличие от модерниста (например, Джойса), «идет дальше, он не заставляет историю просвечивать сквозь современность (или наоборот), а превращает классический образ в свое Зазеркалье. Никому и в голову не придет, что „настоящий“ Одиссей мог бы мысленно так обратиться к „настоящему“ Телемаку». И чуть дальше: «Почему бы не считать стихотворение „Одиссей Телемаку“ историческими и культурно-психологическими пролегоменами к эстетике высокого постмодернизма? Метафорой исходной ситуации?» ( Баткин Л. М.Тридцать третья буква. С. 258, 260). Всякий термин условен, и «постмодернизм» в их числе. Но все же если к нему прибегать, то едва ли «Одиссея Телемаку» можно считать постмодернистским текстом, памятуя о дефинициях постмодернизма: игра литературных кодов не размывает реальность, но ведет именно к этой реальности. Контрастного соединения разных кодов в стихотворении Бродского нет. «Применение» античных сюжетов и текстов к современности и драпировка событий жизни ангора в костюмы минувших эпох – черта, известная мировой литературе задолго до эпохи постмодернизма. Иначе «К временщику» К. Ф. Рылеева, «На выздоровление Лукулла» А. С. Пушкина или «Огненного ангела» В. Я. Брюсова нужно отнести к постмодернизму.
[Закрыть].