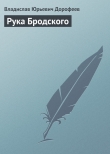Текст книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Более ясной поэтическая логика суждений Бродского становится в широком контексте, в который входят их элементы – образы. В строке «чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней» («Bagatelle», 1987 [III; 158]) черная граммофонная пластинка символизирует бытие как сферический мир, который по своей сущности трагичен; черный цвет – знак скорби. И чем больше страдаешь, тем меньше возможность освободиться от печали и боли. Одновременно в подтексте присутствует и иная цепь утверждений: мир трагичен; он окрашен в черный цвет (метафора); как черный и сферический (в соответствии с античными и средневековыми представлениями), космос подобен граммофонной пластинке; образ универсума – сфера (и соответственно пластинка) – имеет границы, но сам универсум вечен и беспределен [92]92
Сходные по структуре суждения, построенные на принципе корреляции: «И бескрайнее небо над черепицей / тем синее, чем громче птицей / оглашаемо. И чем громче поет она, / тем все меньше видна» («В Англии, VII», 1977 [II; 440]); «<…> чем слышнее / куплет, тем бесплотнее исполнитель» («Жизнь в рассеянном свете», 1987 [III; 139]); «Чем больше черных глаз, тем больше переносиц» («Чем больше черных глаз, тем больше переносиц…», 1987 [III; 155]).
[Закрыть].
В стихотворениях Бродского часты суждения, элементами которых являются не поэтические образы, но понятия или философские термины. Например: «Время больше пространства. Пространство – вещь. / Время же, в сущности, мысль о вещи» («Колыбельная Трескового мыса», 1975 [II; 361]) [93]93
Это повторяющееся суждение, аналог поэтической формулы. Но иногда оно может иметь почти противоположный смысл: «Вещи больше, чем их оценки» («Речь о пролитом молоке», 1967 [II; 30]).
[Закрыть]. Эти суждения обладают поэтической семантикой из-за их неполной прозрачности. Строго говоря, невозможно сравнивать время и пространство в понятиях, связанных с величиной, размером. Для Бродского, однако, слово большеобладает не только простым количественным, «материальным» смыслом. Двусмысленность допущена здесь намеренно. Ясность, прозрачность логического суждения ограничена благодаря замене философского утверждения окказиональным «синонимом». Утверждение, что время больше, чем пространство, замещает в стихотворении сложную конструкцию такого типа: время, в отличие от пространства, не ограничено в себе, оно подвижно и, следовательно, обладает большей ценностью. Суждения такого рода, как: время – нематериальная категория и время – понятие, представление, с помощью которого мы осмысляем такие вещи, как материя и пространство, – подменены стихом «Время же, в сущности, мысль о вещи».
У Бродского также встречаются и абсолютно бесспорные и тривиальные суждения, как, например: «Север крошит металл, но щадит стекло» («Север крошит металл, но щадит стекло» из цикла «Часть речи» [II; 398]). Поэтические коннотации это суждение приобретает как полемическая реплика – ответ на пушкинские строки «Так тяжкой млат, / Дробя стекло, кует булат» из «Полтавы» (IV; 184). Это утверждение Бродского может интерпретироваться как скрытая полемика с мифологизацией государства и Петра Великого – правителя в «Полтаве» и шире – как спор с имперским метанарративом. Одновременно оно замыкает коннотациями «стекла» и «льда» цепь образов с семантикой замерзания и умирания лирического героя, который вопреки всему еще жив или как бы жив в холодном воздухе северной империи (Север – традиционное поэтическое обозначение России).
Другой разряд суждений в поэзии Бродского имеет абсурдный характер. Таково высказывание: «Потому что каблук оставляет следы – зима» («Потому что каблук оставляет следы – зима» из цикла «Часть речи» [II; 401]). Здесь формальная логическая последовательность утверждения и следствия перевернута, инвертирована. Смысл суждения основан на превращении объективного в субъективное. Реальность внутреннего мира человека побуждает делать выводы о внешнем мире и его состояниях, а не явления внешнего мира образуют, воздействуют на факты субъективного опыта. Явления, интериоризованные субъектом, подчиненные его внутреннему миру, имеют надындивидуальный характер. Это мир природы и логики. Совершая такое подчинение объективной реальности субъективному произволу, поэт стремится преодолеть бездну между «Я» и внешним миром, между уникальностью и свободой «Я» и внеположенным субъекту универсумом, в котором властвует железная необходимость логики с ее причинно-следственными законами. Отношения причины и следствия оказываются перевернуты; к этому же приему Бродский прибегнул в первой строке стихотворения «Она надевает чулки, и наступает осень…» (1993): правила логики диктуют обратное построение строки – наступает осень, и она [поэтому] надевает чулки [94]94
Еще несколько примеров суждений Бродского, содержащих нарушение логических правил и/или представляющихся абсурдными: «настоящему, чтоб обернуться будущим, / требуется вчера»; «Человек отличается только степенью / отчаянья от самого себя» (оба примера – из стихотворения «Вечер. Развалины геометрии», 1987 [III; 136]); «Стул состоит из чувства пустоты / плюс крашеной материи <…>»; «Материя конечна. Но не вещь» (оба примера – из стихотворения «Посвящается стулу», 1987 [III; 147]); «но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум, / еще одна жизнь» («Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…» [III; 184]); «Ибо она [история. – А.Р.], конечно, / суть тренье временного о нечто / постоянное» («Каппадокия», 1993 [III; 234]). Суждения составляют каркас целого ряда стихотворений Бродского, например это «Колыбельная Трескового мыса» (1975), «Эклога 4-я (зимняя)» (1980) и «Тритон» (1994).
[Закрыть].
Поэтика суждений Бродского подчинена закону компрессии. Исходные суждения часто не представлены в тексте, но на их существование в подтексте указывают знаки, являющиеся метонимиями (синекдохами) этих суждений. Такие замещения основаны на принципе обозначения целого через часть и части через целое. Механизм метонимии существен и для поэтики Бродского в целом [95]95
О роли метонимии в поэзии Бродского см.: Polukhina V.A Study of Metaphor in Progress: the Poetry of Joseph Brodsky. P. 149–185.
[Закрыть].
Склонность Бродского к философским и квазифилософским суждениям отражает сущность его поэтики. Он видит общее через частное, конкретное. За единичными вещами и ситуациями «здесь и сейчас» он прозревает их схемы и модели. Лирический герой Бродского соприкасается непосредственно с миром понятий, концептов: Человека, Времени, Империи, Пространства, Времени, Смерти, Бога. Он описывает собирательный маленький город («Келломяки», 1982), яхты и море, которые сведены к вертикальным и горизонтальным геометрическим линиям в пространстве («Пристань Фегердала», 1993). В стихотворении «Цветы» (1993) взгляд лирического героя движется от внешних форм цветов к их «сущности», которая предстает чистой, «внутренней» формой, состоящей из атомов и молекул.
Бродский пытается преодолеть разрыв между «Я», Миром и вещами. Для него стихотворения – средство соединения этих разрозненных элементов бытия. Поэзия для него – это особенный взгляд, видение реальности и особая реальность, которые содержат в себе в некоем модусе существования и лирического субъекта, и материальный мир, и язык, и набор универсалий и философских суждений, и сам механизм порождения этой реальности, самой себя. Поэзия позволяет увидеть мир как подобие платоновского универсума, как сеть слов и фраз, образующих понятия и идеи. В поэтическом мире Бродского сущности и модели отыскиваются в отдельных, разрозненных вещах [96]96
Трансформации Бродским идей Платона посвящена глава «„Развивая Платона“: философская традиция Бродского».
[Закрыть].
Творящее начало в поэзии Бродского не поэт, но Язык, понимаемый в широком смысле слова, как единый и единственный источник и философских суждений, и поэтических образов. Поэзия Бродского – как бы комментарий к современной философии языка и особенно к идеям о связи языка и абстрактных понятий (тема рассуждений Мартина Хайдеггера).
Поэзия Бродского родственна также идеям о глубинной взаимосвязи языка и мышления (Э. Сепир, Б. Уорф). Поэтика суждений Бродского – конструирование текста как развертывания нескольких исходных, базовых суждений – напоминает об исследованиях Н. Хомского в области порождающей грамматики.
Самоотрицание. [97]97
Терминологический смысл этого понятия (вне анализа текстов Бродского) см.: Мерлин В. В.Самоотрицание текста (к семантике поэтической концовки) // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1988. Вып. 2. С. 33–35.
[Закрыть] Освобождаясь от принудительности, которая соприродна логике, Бродский прибегает к приему самоотрицания. Так, в стихотворении «Песня невинности, она же – опыта» (1972) радостное приятие мира и счастливая вовлеченность в жизнь оттенены одновременными разочарованием и скорбью: первая часть этого стихотворного триптиха мажорна, вторая и третья – минорны. Более сложный случай: «Настоящий конец войны – это на тонкой спинке / венского стула платье одной блондинки/ да крылатый полет серебристой жужжащей пули, / уносящей жизни на Юг в июле» («В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте…» из цикла «Часть речи» [II; 405]). Интересно, как в этих строках вступают в противоречие и одновременно обогащают друг друга план содержания и план выражения. Стихотворение описывает солдата, вернувшегося домой с войны. Вместе с возлюбленной он отправляется отдыхать на Юг, к морю. Но самолет, на котором они летят, назван метафорически «пулей»; и это именование дополняет полет коннотациями смерти, усиленными благодаря двусмысленности слова «уносить»: этот глагол означает «перемещать куда-либо»; но в сочетании с существительным «жизнь», как у Бродского («уносить жизни»), он значит «убивать». Это едва ли конец войны. Не является ли конец одной войны началом новой?
Самоотрицание может порождаться противоречием между субъектом и предикатом высказывания: «Точка всегда обозримей в конце прямой» («Точка всегда обозримей в конце прямой», 1982 [III; 67]). Прямая, по определению, бесконечная линия, поэтому точка не может находиться в ее конце. Так же построены и строки «Дверь скрипит. На пороге стоит треска. / Просит пить, естественно, ради Бога» («Колыбельная Трескового мыса» [II; 364]). Рыба, обитающая в воде, не может «просить пить» и ради этого выходить на сушу.
Противоречие между разными сообщениями в строках одного стихотворения, их полная смысловая несовместимость – другая разновидность приема самоотрицания. Так, стихотворение «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…» (1989) открывается строками, говорящими о прогулке к океану, чтобы «подышать свежим воздухом»; завершается же оно: «Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива» (III; 184).
В стихотворении «Пророчество» (1964) создается утопическая картина счастливой жизни лирического героя, его возлюбленной и их (пока еще не рожденного) ребенка, отгородившихся от континента «высоченной дамбой» (I; 421). Идиллическая картина нарушена деталью – казалось бы, бытовой, домашней: «и старый гейгер в оловянной рамке / на выцветшей и пропотевшей лямке» (I; 421). Дозиметр придает изображенному миру черты не просто нереальности, но не-возможности и / или обреченности: это жизнь в преддверии либо после ядерной катастрофы.
Прием самоотрицания создается Бродским также благодаря обрыву слова, при этом семантика слова и семантика графики текста вступают в отношения противоречия. В стихотворении «Ты не скажешь комару…» (1993) строки «С точки зренья комара, / человек не умира» (III; 263) говорят о долговечности (а в представлении живущего лишь краткий миг комара – даже о бессмертии) человека. Но оборванное (однако графически представленное как законченное и рифмующееся с законченным словом «комара»!) слово «умира» – сигнал смертности человека, и смертности внезапной. Этот же прием использован Бродским прежде в стихотворении «Полдень в комнате» (1978):
В будущем цифры рассеют мрак.
Цифры не умира.
Только меняют порядок, как
телефонные номера.
Прием самоотрицания может создаваться и при помощи enjambement:
Преподнося сюрприз
суммой своих углов,
вещь выпадает из
нашего мира слов.
Вещь не стоит и не
движется. Это – бред.
(«Натюрморт», 1971 [II; 272])
Межстиховая пауза отрывает отрицательную частицу «не» от глагола «движется», ритм вопреки синтаксису приписывает вещи признак движения. Так передается парадоксальное состояние вещей – одновременно бездвижных и движущихся. Вещей, которые невозможно описать – ведь они «выпадают» из «нашего мира слов».
Самоотрицание у Бродского иногда тяготеет к простейшей форме – оксюморону. Так, в стихотворении «Венецианские строфы (1)» желанная женщина названа живой костью,а зеркалупридан парадоксальный, «невозможный» эпитет горячее,«прижаться к живой кости, / как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем / нежность не соскрести» (III; 53).
Самоотрицание может основываться на игре слов,как в стихотворении, в котором обыгрываются омонимия слов «брак» – «супружество» и «брак» – «изъян»; оказывается, что истинный брак – это жизнь врозь и отсутствие супружеской близости:
Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимаешь внезапно в постели, что это – брак:
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навык
наготы. Но при этом – не встать вдвоем.
Потому что пока там – светло, в твоем
полушарье темно. <…>
(II; 362)
Особый случай, близкий к самоотрицанию, – наделение одной поэтической формулы противоположным смыслом в разных контекстах. Формула запах рыбы(рыба у Бродского – символ Христа) в «Разговоре с небожителем» (1970) наделена несомненными пейоративными коннотациями: «здесь, на земле, / из всех углов / несет, как рыбой, с одесной и с левой» (II; 211). Но в «Литовском ноктюрне» эта же поэтическая формула наделена светлой ценностной окраской:
Поздний вечер в Литве.
Из костелов бредут, хороня запятые
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах
куры роются клювами в жухлой дресве.
Над жнивьем Жемайтии
вьется снег, как небесных обителей прах.
Из раскрытых дверей
пахнет рыбой. Малец полуголый
и старуха в платке загоняют корову в сарай.
(II; 322)
Запах рыбыздесь ассоциируется с теплым бытом, покоем, творчеством, богослужением и, возможно, с Рождеством: деталь платокстарухи – поэтическая формула (или автоцитата), прежде встречавшаяся в рождественском стихотворении «24 декабря 1971 года» («Но, когда на дверном сквозняке / из тумана ночного густого / возникает фигура в платке, / и Младенца, и Духа Святого / ощущаешь в себе без стыда; / смотришь в небо и видишь – звезда» [II; 282]). Сарай, в который загоняют корову, образует общее семантическое поле с яслями Рождества.
Игра слов.
Игра слов у Бродского разнообразна. Во-первых, это переиначивание, переписывание или развертывание фразеологических оборотов, пословиц и поговорок: «Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане…»(«Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане…», 1978 [II; 446]) – переиначенная пословица «Цыплят по осени считают»; «Меч, стосковавшись по телу, при перековке в плуг, / выскальзывает из рук, как мыло» («Кентавры IV» [III; 166]) – перелицованное библейское речение «перекуют мечи свои на орала [плуги. – А.Р.]» (Ис. 2:4); «И если он [человек. – А.Р.] слышит звон, / то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду» («Примечания папоротника», 1989 [III; 171]) – развернутая цитата из Джона Донна («Не спрашивай, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе») с реализацией метафоры (звон посуды, оставшейся от поминок) [99]99
Одновременно это повторяющаяся формула или автоцитата из стихотворения-эпитафии матери поэта «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» (1987): «города рвут сырую сетчатку из грубой ткани, / дребезжа, как сдаваемая посуда» (III; 142).
[Закрыть]; «автомобиль / больше не роскошь, но способ выбить пыль / из улицы <…>» (Там же [III; 191]) – измененное высказывание «автомобиль – не роскошь, а средство передвижения». Фразеологизм «сводить концы с концами» «переписан» в строках: «Но я кое-как свожу концы / строк, развернув потускневший рцы» («Иския в октябре», 1993 [III; 227]).
Enjambement после слова «концы» побуждает прочесть его как существительное, не требующее дополнения; таким является слово «концы» – «корабельные канаты». Благодаря этой ассоциации порождаются коннотации «путешествие» (путешествие – инвариантный мотив Бродского). Аналогичный случай – строки «Тая в стакане, лед позволяет дважды / вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды» («Пчелы не улетели. Всадник не ускакал. В кофейне…» [III; 177]) – цитата и отрицание изречения «Нельзя вступить в одну реку дважды». Более сложна трансформация этого же изречения:
И нельзя вступить в то же облако дважды. Даже
Если ты бог. Тем более, если нет.
(«Вертумн» [III; 202])
Здесь рекаподменена облаком(основа такой идентификация – общая сема у этих слов – «вода»). При переписывании, совершенном Бродским, исходное изречение приняло двусмысленный характер. Оно оказывается одновременно и истинным, и ложным. С одной стороны, вступить – в буквальном смысле слова – в облако нельзя даже однажды; с другой – попастьв (на) облако можно и дважды, и трижды (например, на самолете).
Строки могут строиться как реализация нескольких «свернутых», подверженных компрессии пословиц. Так, в стихотворении «Лагуна» стих «по горбу его плачет в лесах осина» (II; 318) является трансформацией пословиц «могила по тебе плачет», «горбатого могила исправит» и поговорки «вбить в могилу осиновый кол».
Другой случай – соединение в одной лексеме значений нескольких слов – омонимов, расширение полисемии слова: «Причин на свете нет, / есть только следствия. И люди жертвы следствий. / Особенно в тех подземельях, где / все признаются <…>» («Бюст Тиберия», 1985 [III; 108]) – обыгрываются два значения слова «следствие»: 1) результат чего-либо; 2) юридическая процедура, дознание [100]100
Эти строки – поэтическая формула Бродского, встречающаяся также в стихотворении «Примечания папоротника» (1988): «<…> у судьбы, увы, / вариантов меньше, чем жертв» (III; 171).
[Закрыть].
И, услышав это, хочется бросить рыть
Землю, сесть на пароход и плыть,
И плыть – не с целью открыть
Остров или растенье,
Прелесть иных широт,
Новые организмы, но ровно наоборот;
Главным образом – рот.
(«Fin de siècle», 1989 [III; 195])
Этот текст строится как развертывание мотива открытия (=обнаружения) чего-либо нового (в географии и биологии), который в финальном pointe сменяется мотивом открытого (=разинутого) рта.
В стихотворении «Не слишком известный пейзаж, улучшенный наводнением…» слово «перископ» означает прибор подводных лодок для наблюдения за водной поверхностью (если считать, что это слово здесь стоит в творительном падеже сравнения «поднять ребенка, как перископ»). Но при трактовке падежа «перископом» как творительного инструментального («поднять с помощью чего») «перископ» превращается в эвфемистическое именование мужского полового органа (ср. разговорный эвфемизм «прибор»). Текст допускает оба прочтения:
И впору поднять перископом ребенка на плечи,
чтоб разглядеть, как дымят вдали корабли врага.
(III; 241)
Одно слово может вбирать в себя одновременно семантику двух омонимов:
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру.
(«Натюрморт» [II; 270])
Ритм предписывает чтение писать, а контекст – писать [101]101
Этот пример приведен Л. М. Баткиным ( Баткин Л. М.Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997. С. 59).
[Закрыть].
В строках «Две половинки карманной луковицы / после восьми могут вызвать слезы» («В этой маленькой комнате все по-старому…», 1987 [III; 137]) лексема «луковица» приобретает значение «часы особой формы», но сохраняет коннотации «корень лука»; выражение «карманная луковица» по отношению к часам – тавтология.
В слове «конец», входящем в одно из поэтических суждений в «Колыбельной Трескового мыса», реализованы одновременно два значения («завершение» и «половой член»):
тело служит в виду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдается во Время.
(II; 364) [102]102
Этот и ряд других примеров игры значений, осуществляемых с помощью enjambement, приведены Г. А. Левинтоном ( Левинтон Г. А.Три разговора: о любви, поэзии и (анти)государственной службе (<…> II. «От всего человека нам остается часть / речи» (Три заметки о Бродском). С. 270, примеч. 170).
[Закрыть]
Аналогичный случай – в стихотворении «Гуернавака» из цикла «Мексиканский дивертисмент» (1975):
Сад густ, как тесно набранное «Ж».
(II; 366)
Первое прочтение: стих содержит уподобление сада букве; это один из повторяющихся образов Бродского, реализующих мотив тождества или изоморфности мира и текста (языка). Но эротический контекст («В саду, где М., французский протеже, / имел красавицу густой индейской крови» [II; 366]) и интертекстуальная соотнесенность с циклом «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (М. – мексиканский император. Максимилиан, ставленник Франции, занимающийся любовью в саду, – и Мария Стюарт, статую которой видит в парижском Люксембургском саду лирический герой, размышляющий о ее любовных связях) побуждают увидеть в этой строке вариацию стиха «„Бесстыдство! Как просвечивала жэ!“» (II; 342) из тринадцатого сонета. Такое прочтение поддерживается словом «сад», фонетически близким к «зад». Одновременно корреляция «М» и «Ж» в «Гуернаваке» вызывает третье, иронически-неприличное прочтение: «М» и «Ж» – буквы, означающие мужской и женский туалеты.
В строках «Жизнь на три четверти – узнавание / себя в нечленораздельном вопле / или в полной окаменелости» (IV (2); 97) из стихотворения «Я проснулся от крика чаек в Дублине» (1990) выражение «три четверти» является одновременно и музыкальным термином (такое прочтение поддерживает театрально-музыкальный контекст: «Облака шли над морем в четыре яруса, / точно театр навстречу драме»; чайки «раздирали клювами слух, как занавес, / требуя <…> начать монолог свой заново / с чистой бесчеловечной ноты» [IV (2); 97]), и обиходным выражением, восходящим к названию дроби (такое понимание диктует более узкий контекст, который составляют сами процитированные строки).
Особый случай – имя собственное, отсылающее одновременно к двум тезоименным лицам. В «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» «Сара» в строках «Мари, я видел мальчиком, как Сара / Леандр шла топ-топ на эшафот» (II; 337) – имя не только актрисы, но и ветхозаветной Сарры, жены праотца Авраама (до обетования Бога Аврааму носившей имя «Сара», с одним «р»), Ассоциации с Саррой возникают благодаря enjambement, отсекающему лексему «Сара» от лексемы-фамилии «Леандр», а также благодаря общему контексту с именем «Мари». В христианском богословии жена Авраама праведная Сарра прообразует Приснодеву Марию [103]103
См. об этом, например: Щедровицкий Д. В.Введение в Ветхий Завет. Т. 1. Книга Бытия. М., 1995 (на титульном листе – 1994). С. 182–183. Это толкование встречается у апостола Павла; в древнерусской словесности оно представлено в одном из самых ранних текстов – «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI в.). О соотнесенности толкования апостола Павла и «Слова о Законе и Благодати» см., напр.: Сендерович С.Слово о законе и благодати как экзегетический текст. Иларион Киевский и павлианская теология // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. LI. СПб., 1999. С. 43–57.
[Закрыть]. Бродский же «инвертирует» эту последовательность: у него Сара играетМарию, жившую на четыреста лет ранее [104]104
Мария, точнее, ее скульптура в цикле сонетов Бродского стоит «с воробьем на голове» (II; 338). При соотнесении Марии Стюарт с Девой Марией (имеющем кощунственно игровой смысл: королева, слывшая среди современников «блядью», – Святая Дева) воробей превращается в травестийный аналог голубя – символа Святого Духа (ср. также образ голубя в кощунственной «Гавриилиале» Пушкина). Впрочем, образ воробья в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт», вероятно, соотнесен с воробьем в двух известнейших стихотворениях Катулла (II и III). В стихотворении III оплакивается умерший воробей любимой: «Орк, прекрасное все губящий жадно! / Ты воробушка чудного похитил», пер. А. Пиотровского ( Валерий Катулл, Альбий Тибулл, Секст Проперций.Пер. с лат. М., 1963. С. 21). И здесь Бродский прибегает к семантической «инверсии»: у Катулла сказано о смерти воробья, по котором скорбит любимая; у Бродского – о давно умершей королеве – «двойнике» былой возлюбленной лирического героя, навсегда с ним разлученной и потому (в символическом смысле) также как бы умершей; воробей же, напротив, благополучно здравствует.
[Закрыть]. За параллелью «Мария Стюарт (Сара Леандр) – М. Б.» скрывается другая: «М. Б. – Дева Мария». На евангельский «сюжет» проецируется судьба поэта: он, разлученный с сыном, подобен Богу-отцу, отдаленному от своего Сына космическими безднами (эта параллель проходит через подтекст «Рождественской звезды»).
Слово может восприниматься одновременно и как лексема, присущая языку, и как окказиональное образование.
– Неправда! Меня привлекает вечность.
Я с ней знакома.
Ее первый признак – бесчеловечность.
И здесь я – дома.
(«– Что ты делаешь, птичка, на черной ветке…» [III; 265])
В этих стихах слово «бесчеловечность» представлено как окказионализм, образованный сочетанием префикса «бес-» и слов «человек» и «вечность»: «бесчеловечность» – не только «жестокость», но и «отсутствие человека».
Словесная игра у Бродского также основывается на фонетическом сближении семантически не связанных слов: «Только одни моря / невозмутимо синеют, издали говоря / то слово „заря“, то – „зря“» («Fin de siècle» [III; 195]); «Ему [моллюску. – А.Р.] подпевает хор / хордовых» («Тритон», 1994 [IV (2); 187]). Второй случай интересен как мотивация пения рыб,которые в языке ассоциируются отнюдь не с пением, а с немотой («нем как рыба»). Благодаря фонетическому сближению слов «хор» и «хордовые» в лексеме «хордовые» вычленяется псевдокорень «хор». Создается парадоксальный образ поющих рыб, содержащий самоотрицание : языковая семантика «запрещает» его, а фонетика подкрепляет [105]105
Ср. такой же парадоксальный мотив «тихой песни трески» (в «Колыбельной Трескового мыса» [II; 361]).
[Закрыть].
Созвучие может определять последовательность лексем в тексте: «Осень – хорошее время года, если вы не ботаник, / если, ботвинник паркета, ищет ничью ботинок» («Осень – хорошее время года, если вы не ботаник…», 1995 [IV (2); 193]). В стихотворении «Заморозки на почве и облысение леса…» из цикла «Часть речи» (1975–1976) (II; 411) выражение «облысение леса» – прием цитатного характера, восходящий к строкам Велимира Хлебникова «Леса лысы. / Леса обезлосили. Леса обезлисили», о которых Маяковский сказал: «не разорвешь – железная цепь».
Фонетическое сближение двух семантически не связанных между собой слов может приводить к их мене. В стихах:
И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай» —
(«Север крошит металл, но щадит стекло» [II; 398])
правила семантической сочетаемости заставляют поменять местами слова «смех» и «снег»: лежать(хотя и не в гортани) может снег, а раздаваться —смех.
Сближая различные по значению и сходные по звучанию слова, Бродский иногда решается произвольно разделить слово с помощью enjambement («Это – записки натуралиста. За– / писки натуралиста» – «Квинтет», 1977 [II; 425]); создать «слово-кентавр», сращение двух («неврастеник» и «растение» – «Вечнозеленое неврастение» – Там же [II; 425]) или трех слов («мутанты», «танки», «коровы» – «муу-танки, / крупный рогатый скот» («Кентавры IV», 1988 [III; 166]); слово «коровы» обозначено с помощью ономатопеи «муу-» и грамматического рода и звучания неологизма – «муу-танки» как подобие «буренок»).
Омонимия может мотивировать появление в тексте слова, созвучного с уже употребленным. Пример: стихотворение «Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос», в котором слово «заподлицо», созвучное слову «подлец», предваряет появление слова «сволочь»:
Я рад бы лечь с тобою, но это – роскошь.
Если я лягу, то с дерном заподлицо.
<…>
Теперь вокруг тебя волнами ходит сволочь.
(III; 266)
В словесную игру вовлекаются у Бродского и имена собственные: «И статуи стынут, хотя на дворе – бесстужев, / казненный потом декабрист, и настал январь» («О если бы птицы пели и облака скучали…», 1994 [IV (2); 166]). Парадоксальный образ стынущих статуй мотивирован фонетически (статуистынут), а фамилия декабриста Бестужева (М. П. Бестужева-Рюмина) превращается в имя нарицательное с окказиональной приставкой «без (бес)-» («бесстужие»). Окказиональные морфемы (корни) вычленяются и в слове «телосложенье» (тел+слож, сложение, складывание тел). Эта интерпретация мотивирована семантикой сражения (упоминание об облаке отсылает к сцене из «Войны и мира» – князь Андрей Болконский на Аустерлицком поле), после которого собирают, складывают тела.
Относительная немногочисленность таких случаев связана с осторожным отношением поэта к броским авангардистским приемам.
Встречается у Бродского и «переадресация» слова, когда лексема, представленная в тексте, является знаком другого слова, с ней фонетически сходного: «вцепившись ногтями в свои коренья» («Квинтет» [II; 425]). Кореньязаменяют слово «колени», подразумеваемое и диктуемое метафорическим строем стихотворения («Я» – растение).
Другой случай «переадресации» слова – стихотворение «Песня о красном свитере» (1970):
Но если вдруг начнет хромать кириллица
от сильного избытка вещи фирменной,
приникни, серафим, к устам и вырви мой.
(III; 214)
Неупомянутое слово – «язык» (Бродский цитирует «Пророка» Пушкина). Но отказ от упоминания и общеязыковой контекст «вырвать…» провоцируют другое, непристойное прочтение: «вырви половой член».
Ключевое слово может уходить в подтекст, заменяясь метафорами-перифразами, причем метафоризация строится как «овеществление» жаргонного синонима этой лексемы. Так, в «Разговоре с небожителем» (1970) часы именуются «бездонными мозеровскими блюдами» и говорится о «вареве минут» (II; 211). Эта метафорика построена на реализации предметного значения слова «котел» – жаргонного обозначения часов. Механизм метафоризации раскрыт в позднейшем стихотворении «Пьяцца Маттеи» (1981), в котором швейцарские часы прямо названы «котлом швейцарским» (III; 26) [106]106
Таким образом, в «Разговоре с небожителем» метафора бездонные мозеровские блюда– не просто знак часов, а замена не названного, но подразумеваемого жаргонного слова «котел» (часы), то есть знак знака. Связь между означаемым и означающим опосредована – как в барочной поэтике – еще одним. Похожий случай, возможно, обнаруживается в «Представлении» (1986): «Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах – папироса» (III; 114). А. А. Илюшин высказал автору этой книги тонкое наблюдение, что образ Пушкина-авиатора может быть мотивирован омофонией: «А. С.» («Александр Сергеевич») и «ас». Замечание очень остроумное, но, увы, недоказуемое: в тексте «Представления» ни инициалы Пушкина, ни слово «ас» не встречаются. Близкая трактовка принадлежит О. А. Лекманову и А. Ю. Сергеевой-Клятис: «Источником данного образа, скорее всего, послужил известный анекдот: Василий Иванович Чапаев читает книжку, которую написал знаменитый летчик, „АС Пушкин“» (Лекманов О. А., Сергеева-Клятис А. Ю. АСПушкин // Лекманов О. А.Книга об акмеизме и другие работы. С. 338).
[Закрыть].
Игра слов никогда не охватывает у Бродского весь текст, не является поэтической доминантой. Ее цель – деавтоматизация отношений знака и означаемого и оживление креативных возможностей языка: как будто тексты рождаются из его недр – как развертывание пословиц и поговорок, как неслучайное созвучие слов.
Поэтика цитаты.
В этом разделе я не стремился описать механизм и функции цитаты у Бродского. Конкретные примеры – их число ограничено – имеют иллюстративный, объяснительный характер. Подробный разбор цитат как свидетельств сложных связей Бродского с русской поэтической традицией XIX–XX веков читатель найдет в последующих главах книги [107]107
Ряд наблюдений о функциях цитаты у Бродского содержится в диссертации: Федорова Л. Г.Типы интертекстуальности в современной русской поэзии (постмодернистские и классические реминисценции). Дис. <…> канд. филол. наук. М., 1999. С. 121–187 (гл.: Классические реминисценции. Творчество И. Бродского); ср. с. 16–23 автореферата диссертации.
[Закрыть].
Цитата – это знак знака, она обозначает не столько себя саму, сколько свой исходный контекст. По определению 3. Г. Минц, «соотношение планов содержания и выражения в цитате отличается большой сложностью: будучи текстом,цитата имеет оба эти плана, однако как цитата,представляя часть другого текста, она является выражением, а этот текст выступает в роли обозначаемого» [108]108
Минц 3. Г.Функции реминисценций в поэтике Ал. Блока // Минц 3. Г.Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. Кн. 1: Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 367.
[Закрыть]. Вкрапление из «чужого» текста (то есть генетическая цитата),не привносящее его семантики в новый контекст и воспринимающееся в этом новом контексте как исконный элемент, является не цитатой, а заимствованием [109]109
Разграничение цитаты и заимствования принадлежит Г. А. Левинтону (см.: Левинтон Г. А.К проблеме литературной цитации // Материалы XXVI научной студенческой конференции. Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1971. С. 52). К этой проблематике относится также работа: Жолковский А. К.Заметки о тексте, подтексте и цитации у Пастернака (К различению структурных и генетических связей) // Boris Pasternak: Essays. Ed. by N. A Nilsson. Stockholm, 1976. См. также наблюдения О. Ронена: Ронен О.Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама С. 263, примеч. 30.
В реальности, однако, разграничение цитаты и заимствования проблематично: опознаваясь как фрагмент из «чужого» текста, такой текстовой элемент, как правило, начинает функционировать как цитата.
[Закрыть].
Иногда узнавание цитаты совершенно необходимо для понимания поэтического текста Бродского. Это классические случаи цитации. Большинство из них рассмотрено в отдельных главах этой книги. Здесь же ограничусь лишь одним примером. Семантика стеаринав строках Бродского «Не мне тебя, красавица, обнять, / И не тебе в слезах меня пенять; / поскольку заливает стеарин / не мысли о вещах, но сами вещи» (1968 [II; 91]) проясняется только при соотнесении с пастернаковским сравнением истории со стеарином горящей свечи («Пространство» [110]110
Пастернак Б. Л.Стихотворения и поэмы. С. 204.
[Закрыть]); у Бродского стеаринозначает не историю,а синонимичный ей концепт – время.
Но в поэзии Бродского разграничение цитат и заимствований и даже цитат и схождений (совпадений выражений и строк) часто оказывается проблематичным. Так, строки «Поздний вечер в Литве. / Из костелов бредут, хороня запятые / свечек в скобках ладоней» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» [II; 322]) напоминают о стихах Пастернака «Лбы молящихся, ризы / И старух шушуны / Свечек пламенем снизу / Слабо озарены» («Вакханалия») [111]111
Там же. С. 474.
[Закрыть], в которых также описано вечернее богослужение. На первый взгляд сходство стихов Бродского и Пастернака поверхностное, в «Вакханалии» нет ни сравнения свечек с запятыми и ладоней со скобками, ни мотива оберегания Слова. Однако обнаруживаются совпадения в соседних строках: старухам в шушунеи зимней вьюгеПастернака соответствуют старуха в платкеи вьющийся снегБродского («вьется снег, как небесных обителей прах. / <…> и старуха в платке загоняет корову в сарай» [II; 322]); роднит оба стихотворения и мотив творчества.
Столь же не прояснена соотнесенность именования танка «механическим слоном» в «Стихах о зимней кампании 1980 года» (III; 9) и танков «стальными слонами» – в военном стихотворении Алексея Суркова «Танки идут в атаку» [112]112
Цитируется по кн.: Эткинд Е. Г.Материя стиха. С. 219.
[Закрыть]. Поэтическое высказывание Бродского, как бы выступающего в роли обличающего советскую власть стихотворца, предстает перевернутым, вывернутыми наизнанку строками официозного советского стихотворца. Текст Бродского прозрачен и без этого соотнесения, однако при сопоставлении с сурковским стихотворением «Стихи о зимней кампании 1980 года» прочитываются как случай полемической интерпретации текста официозной советской поэзии; при этом устанавливается контраст: весна, которую несет освободительная война у Суркова, – оледенение, с которым ассоциируется советское вторжение в Афганистан у Бродского.
Иногда цитатный характер высказывания маскируется благодаря отличиям как в плане выражения, так и в плане содержания. Стихи «И внезапная мысль о себе подростка: / „выше кустарника, ниже ели“ / оглушает его на всю жизнь. <…>» («Эклога 5-я (летняя)» [III; 38]) – аллюзия на параллель «молодые сосны – молодое поколение» в пушкинском «…Вновь я посетил…». Но выявление этой реминисценции требует пристального чтения: текстуального сходства здесь нет, пушкинский мотив подвергся «переворачиванию» (не параллель, а контраст). И только это «переворачивание» и значимо для автора «Эклоги <…>».
Безусловно сходство строк Бродского «Мир больше не тот, что был // прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, / кушетка и комбинация, соль острот» («Fin de siècle», 1989 [III; 191]) со стихами Арсения Тарковского:
В обоих текстах перечисляются старые вещи – знаки ушедшей эпохи; лампам-«молниям» Тарковского соответствует «абажур» лампы у Бродского.