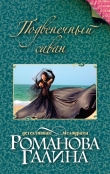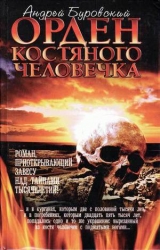
Текст книги "Орден костяного человечка"
Автор книги: Андрей Буровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Супруг гуляет. До утра гуляет.
Он ищет истины в пенящемся вине.
Его друзья и бабы окружают,
А я сейчас иду к его жене.
Как описать, на что это похоже:
Страсти уверенный и радостный накал.
И ревность кожи рядом с ее кожей
За то, что муж еще вчера ее ласкал?!
Как описать, не вдавшись в непристойность,
Страсть, что и широка, и глубока,
И что ласкала чересчур спокойно
Ее весьма умелая рука?!
Пускай супруг и завтра идет в гости.
И пусть он не узнает никогда,
Как повстречала дорогого гостя
Жены гостеприимная…
Володя честно пытался не допивать водку, но, разумеется, все равно пил, радуясь, что едет на раскопки. Но писать готовился попозже и совершенно неожиданно обнаружил себя лежащим головой на собственных руках. Опять спал?! Который час, черт побери?! Опять утро?
– Протрите глаза! Восемь вечера!
Опять вечер… Скоро, наверно, будет ночь…
– Девушка… Скоро будет ночь?!
– Ну, допустим будет ночь… И что?
Девушка опасливо отодвигается… Она боится… Как безнадежно, как печально! Володя опять источил слезу: его боится такая замечательная девушка!
– Да ничего… Я же так, мне грустно… Не уходите, мне грустно!
– Ай, отстаньте, сам вон с колечком, а пристает!
– Я не пристаю, мне очень грустно…
P-раз! И девушки уже нету в купе. Или это Володя опять спал? А! Вот куда ему необходимо! Дойти до сортира оказалось очень непростым мероприятием, и уж тут-то Володя окончательно понял: пора бы ему сделать перерыв. Что помогло: Володя проспал Новосибирск, и теперь оставалось только одно – тихо допивать остатки водки. Принести еще проводница категорически отказалась:
– Давайте я вам кофе принесу. Хотите?
– Кофе? Кофе – это яд для интеллекта.
– Мужчина, вы в своем уме?! Первый час ночи, а вы опять водку хлещете!
– Лучше послушайте. Во мраке этого мира нет ничего чудеснее светлого полета мысли. Согласны?
– Ну… А если скажу, что согласна?
– Тогда давайте допьем это вместе. Вас же Катя зовут? Вот и…
– Тьфу на вас! С вами как с человеком, а он, не побрившись, целоваться лезет!
– Я п-побреюсь.
– Лучше бы вы легли спать.
Как раз лечь Володе было не суждено. Преследуя Катюшу, он рухнул на пол, ушибившись затылком о стол. Переполз на полку, немного поплакал – отчасти от боли в затылке, но гораздо больше – от несовершенства этого плохого, очень грустного и печального мира. Потом не было ничего – и вдруг крик:
– Мужчина! Сдавайте белье! Скоро Красноярск!
Смотри-ка… Он снова заснул.
– Вставайте! Через час приезжаем, а он спит! Ну-ка, хлебните-ка кофе…
– Нет! Ни за что!
Володя отбивался, словно девушка пыталась влить в него не кофе, а цианистый калий или синильную кислоту.
– Черт с вами, принесу вам бутылку… Но чтоб побриться и хлебать уже на перроне!
– Не-е… Глоток здесь…
– Только глоток!
Пожалуй, Володя даже немного огорчился, доехав до Красноярска: необычайно интересно было прогуливаться на каждой остановке в толпе торговцев кожей, раскланиваясь с подручными люхезы (сам люхеза, конечно же, был не той фигурой, чтобы выходить на перрон самому и организовывать торговлю).
Еще интереснее оказалось писать стихи, которые к тому же можно было и заказывать самому себе: чего выпил, то и написалось. В общем, ехать бы так до Улан-Батора, а потом бы вернуться обратно… И с проводницей он не успел толком познакомиться, а такая душевная девушка.
– Тупленка бером! Бером-бером!
Последний раз слушал Володя этот ор, махал знакомым.
– Эспедисия, давай-давай!
Смотри-ка! Даже запомнили, что он едет в экспедицию! Слезы умиления навернулись на глаза Володе; выяснилось, что у него есть сильнейшая потребность вынуть бутылку из кармана куртки и сделать еще добрый глоток.
Проводница его вагона что-то рассказывала подружкам из другого вагона, махала руками, смеялась. Володя помахал и ей, покачнулся, девицы зашлись в приступе восторга.
Десять часов предстояло Володе проторчать на вокзале в Красноярске: поезд на Абакан отходил только в восемь вечера. Вид его опять не вызывал доверия у милиционеров, и они провожали Володю нехорошими, какими-то уж очень профессиональными взглядами.
Володя присел на каменной ступеньке подъема на виадук, сделал еще один глоток, и к нему тут же подсел кто-то благоухающий так, что Володя чуть не отодвинулся. Что говорит сосед, он тоже как-то не очень понял.
– Па-апрашу документики!
Три мальчика в форме, стальные взгляды из-под фуражек, служебное рвение на лицах. Но интеллектуал – он и после недельного запоя интеллектуал, и речь Володи, обращенная к властям, осталась ясной и логичной.
– Пожалуйста… А что случилось?
– Проверка паспортного режима… Па-апрашу!
– Вот…
Володя протянул парню в форме удостоверение сотрудника Института археологии, командировочное и с интересом наблюдал, как у него меняется выражение лица. Сосед Володи по ступеньке пытался эдак бочком свалить куда-то в сторону, его попытки пресекли другие люди в форме.
– Что, тоже археолог?
– Наверное, он из другого отдела: мы не знакомы.
Какое-то время милиционер внимательно разглядывал; Володю и наконец попросил паспорт. Володя пожал плечами, дал ему паспорт с пропиской в Санкт-Петербурге. В паспорте был и билет.
– А! Так вы от нас скоро убываете?
– Ну да… Я профессор Петербургского университета, нахожусь в командировке, еду на раскопки.
– Вы и правда профессор?
На Володю пахнуло все тем же незабвенным люхезой.
– Могу дать и это удостоверение.
– Не надо. Что же вы, профессор, с такой шушерой общаетесь?! Не стыдно?
– Да я с кем угодно могу… Хотите?
Володя протянул парню недопитую бутылку. Милиционер опять долго изучал Володю.
– Пройдите в зал ожидания!
– Там душно…
– Тогда сядьте вон там и не отсвечивайте!
Володя перебрался на перрон, где стояли какие-то сомнительного вида скамейки. Одна из них была в тени, тут он допил все из бутылки и попытался дописать стихи.
Почти сразу опять замелькали какие-то ароматные личности, стали влезать в разговор:
– Эй, ты Федю Косого знаешь?
– Чужой, тебе торба нужна? Совсем новая.
А одна личность с ободранной мордой пыталась даже подчинить себе Володю:
– Ты, новенький… А ну давай звездуй за водкой, живо!
Володя не ответил и, кажется, правильно сделал – от него постепенно отвяли. Хуже другое: его опять клонило в сон, а спать Володя побоялся: он совсем не был уверен, что, проснувшись, найдет свой рюкзак на прежнем месте.
Вдруг шелупонь разбежалась. Володя это понял, потому что вокруг стало как-то свободнее и ветер вместо привычного смрада принес совсем другие, вполне симпатичные запахи – нагретой земли и металла, дерева, городской пыли, мазута, угольного дымка. Опять тот же милиционер.
– Вы что, для них медом намазаны?!
– Ну и при чем тут я, секи, начальник?! Они сами ко мне зачем-то лезут.
– Сами виноваты… Ведете себя, как бич, они и лезут.
– Я скоро уеду, начальник…
– Ага! А это что?!
На скамейке после сбежавших осталась какая-то бутылка; на самом донце плескались остатки жидкости свекольно-химического, нездорового цвета.
– Они что, вас угощают?!
– Чужое шьешь, начальник. Я сам себе спиртное покупаю, я человек обеспеченный.
– Гм… И насколько обеспеченный?
– Хотите, вам взятку дам?
– Пошел вон!
– С удовольствием…
Судя по выражению лица, милиционер дорого заплатил бы за маленькое служебное счастье – треснуть Володю по башке. Если бы не документы профессора – наверняка треснул бы. Володя решил его больше не раздражать и свалил на другой угол вокзала. Хорошо, поезд подали уже скоро.
ЧАСТЬ II
Днища долин
ГЛАВА 7
Окрестности озера
25 апреля 1994 года
Утро над Абаканом вставало яркое-яркое, прозрачное-прозрачное, голубое-голубое… И со страшной головной болью, конечно. Володя содрал щетину с лица, умылся холодной водой, выпил кофе. Выпил, и в первый раз вырвало. Тогда он выпил второй раз более крепкого, и этот второй кофе удержался. Впрочем, за полчаса до Абакана Володя все-таки заснул, и зря: потом, когда поезд уже стоял, он еле продрал глаза.
А на перроне, прямо напротив окна, лихо вышагивал Виталий Ильич Епифанов – длинный, тощий, энергичный, в клетчатой грубой рубахе, в полотняных штанах и с черной полевой сумкой на боку. Уже выйдя из дома, Володя считал себя как бы в экспедиции, но только теперь он ясно понял: экспедиция и правда началась!
– Владимир, как доехали? Э-эээ… Володенька, да что это с вами?! Ну-ну… Вы уж давайте завяжите с этим занятием, а? Не подводите меня, Богом прошу…
– Что, по мне очень заметно?
– Вы честно заметали следы… Но скажу вам как алкоголик алкоголику: заметно, и заметно оч-чень… Чересчур заметно, говоря между нами.
– Я больше не буду, Виталий Ильич. Правда не буду, только дайте мне сегодняшний день… Сегодня я к физической работе не очень готов.
– Ну и не надо… Только теперь вы все равно не поспите. Грузиться мы уже закончили, давайте в машину! Позавтракаете в пути. Все-таки нам повезло: и грант, и эта ранняя весна – все вместе!
Вот ГАЗ-66 с брезентовым верхом, на дверце – голубой шар, надпись «Научно-изыскательская»; возле кабины ждет шофер – в кирзовых сапогах, в свитере, с лицом бывалого полевика. Машина не очень удобная для туризма, потому что в брезентовом кузове нет окон и сидящие там не видят, куда их везут, все видно только из кабины. Но машина идеальная для экспедиции, потому что ухитряется проехать почти куда угодно, и притом поднимает много и редко ломается. А все-таки не было бы у Епифанова такой машины, не получи он иностранных денег. Его счастье, что заинтересовались немцы, дали на исследования подачку – грант. Не для ученых стали в России такие машины, пусть и стоят на базах российской Академии наук.
Радостно гомонили студенты и школьники, с довольными лицами гуляли возле машины, а свежий, еще пахнущий снегом ветер сушил и дубил кожу лица. Володя знал, что часть этих ребят Епифанов привез из Новосибирска, а нескольких взял по рекомендации Михалыча из какой-то местной деревушки.
– Садитесь в кабину, вам надо хорошенько оглядеться. Куда едем, представляете?
– По карте.
– Ну так привязывайтесь к карте. И… вот!
Володя сам себе удивился, с каким наслаждением запустил зубы в бутерброд с колбасой, отхлебнул из термоса раскаленный, очень крепкий кофе (наверное, организм сам хочет выйти из запоя… К тому же три дня ничего не ел…), расстелил карту. А шофер уже переключал скорости, двигатель глухо урчал. Да, это уже экспедиция!
– Так, Салбыкская долина от нас к востоку…
– И мы оставим ее справа, – подхватил Епифанов, – так и проедем к Плуг-Коми, там будем делать базовый лагерь.
– Для палаток еще прохладно?
– И прохладно, и вообще – зачем эта романтика, если можно поселиться, жить в домах? На Салбыке все равно придется делать палаточный лагерь, но это ведь уже в июне…
Володя согласно кивнул.
– Часть отряда – ваши кадры, Виталий Ильич?
Епифанов закивал:
– И на Фыркале они были, и на Малой Сые, дипломы будут через год писать; люди проверенные. Других рекомендовал Михалыч, говорил, они у него были. Это старшеклассники. Их сегодня привезли в Абакан, прямо из деревни Малая Речка… Это здесь, неподалеку, в горах.
– А что люди такие разные, раньше вместе не работали – вас не смущает?
– Немного… Но если народ хороший – сработаются. И у меня к вам просьба… Возьмитесь за организационную работу, ладно?
– Гм… В смысле быть плохим мужиком, который всех гоняет?
– В смысле быть моим помощником по организации и по наведению порядка. Что-то вроде коменданта лагеря…
– Ладно… Отряд-то небольшой. Но чур – и к вашим людям будут те же самые требования!
– Естественно… И знаете что? Всех не моих возьмите к себе в отряд – мы же все равно будем работать двумя отрядами.
Володя молча кивнул – рот был занят бутербродом.
А за окном машины уже мелькали сельские ландшафты. Это из Москвы, даже из Красноярска машина от железнодорожного вокзала выбиралась бы не меньше часа, а Абакан – небольшой городок, в нем живет не больше 150 тысяч человек.
И здесь, на юге Хакасии, в месте формирования всего хакасского народа, сопки с севера покрыты лесом, а по их южным склонам степь взбирается до самой вершины. Так же, как и в хорошо знакомой Володе Северной Хакасии, цепи гор проходят на разном расстоянии, отдавая оттенками синего, сиреневого и лилового. Так же точно плывут над сопками пухлые белые облака в яркой синеве, так же парят коршуны между облаками и сопками.
А вот сама степь тут суше, тверже, и как-то не видит Володя здесь ни заболоченных мест, ни высокого кустарника, ни трав по грудь человеку. Впрочем, и не время еще для трав.
Володя думал, что машина проезжает через участки заиндевевшей земли, но ему объяснили – ничего подобного, это соль! Соленое озеро разлилось, его воды покрыли тонким слоем поверхность земли, постепенно испарялись, и на земле осталась соль.
Мелькали деревушки из 10–15 дворов, особенно убогие из-за полного отсутствия деревьев. Проносились озера; по их виду трудно было сказать, пресные они или соленые.
Через три часа бешеной езды открылось озеро Плуг-Холь – огромное, гораздо больше всех прежних. В ясном, прозрачном воздухе (если верить карте, то за восемь километров!) Володя разглядел не только линию воды, но и как уходит вдаль, повышается краем исполинской чаши противоположный берег. Вот такое озеро из берегов так просто не выйдет! Тут берег крепкий, и вода стоит не вровень с берегами.
Большую часть озера еще покрывал сизый ноздреватый лед; вдоль берега шла полоса чистой воды метров в сто, и в пронзительно синей воде плавали огромные ярко-белые птицы.
– Лебеди?!
– Представьте себе! – Епифанов усмехнулся, довольный произведенным впечатлением. – Тут их множество, ведь идет перелет…
Тут только Володя понял, почему столько птичьих караванов тянулось по синему небу: шел перелет, на север летели утки, гуси, журавли, кулики, лебеди, гагары. А на этих озерах они отдыхали, перед тем как отправиться дальше.
– На том берегу… Тоже соль?
– Нет, это гуси. Кажется, гуменники, но лучше посмотрите сами.
Володя кивнул, припал к окулярам бинокля. Впрочем, какого вида гуси, он все равно не разобрал. Видел, что белые.
Промчались мимо аккуратного хуторка: два новых домика под крашеными железными крышами, несколько кошар, основательно огороженный жердями огород с черной унавоженной землей. Дорога вела между этим хутором и озером, а потом вроде поворачивала к хутору.
– Здесь и будем делать лагерь?
– Нет, это хутор Камышовый, а нам на хутор номер семь.
– У него и названия нет?!
– А зачем ему название? Это просто такой пункт… в общем, место, где живут пастухи и где есть кошары для овец. Пригоняют туда скот, живут какое-то время, потом отгоняют скот в другое место.
– Современный вид кочевничества…
– Примерно.
Машина стала подниматься, уходить от озера вдоль русла крохотного ручейка. В степи, впрочем, и этот ручеек был важен; километрах в трех от озера открылся и хутор номер семь, оплот кочевников XX столетия.
Два бревенчатых дома на высоких бетонных фундаментах, но крыши шиферные и зияют огромными дырами. Вроде бы стоят довольно новые дома, а подойти поближе – разбиты окна, двери вырваны из петель, еле висят на каких-то матерчатых лоскутках. В самих домах уже не один месяц сваливали мусор, а одну комнату определенно использовали под туалет.
Между домами – какой-то сарай, а в стороне – две длинные кошары.
Что это?! Под забором, метрах в двух от дома, валялась мертвая овца: мученически перекошенные челюсти, вставшая дыбом шерсть, сведенные судорогой ноги… Судя по виду, животное умерло недавно, может быть, когда они выехали из Абакана.
Со смехом, с взаимными подначками выскакивала молодежь из-под брезента ГАЗ-66. Володю невольно кольнуло: вот совсем недавно и он так же выскакивал из экспедиционной машины: здоровье, энергия, готовность выполнять распоряжения… и полная безответственность. Ведь о том, где будем спать, что и когда есть, чем заниматься, – обо всем этом думает начальство. А когда который год сам начальство, что поделать, приходится думать о том, о чем не думает рядовой состав (то есть абсолютно обо всем).
– Здесь мы и будем жить?!
– Ой… бедная, что с нею?.. – это девочки заметили овцу.
– Куда тащить вещи? – это два парня покрепче.
– А вы сперва загляните внутрь, понюхайте…
Стоят, смотрят с недоумением.
– Да я серьезно! Заходите, ребятки, не стесняйтесь. Другого ничего не найдем, здесь и будем жить, а дерьмо вычистим.
М-да, ну и место! Днище неглубокой долины, наклоненной в сторону озера. У западного края долины бьют ключи, давая начало ручью. Тут все еще покрыто льдом, и стоило выключить мотор, как сразу же стали слышны два звука: тихое бульканье воды, текущей меж ледяных бережков, и курлыканье сверху: перекликаются журавли, летящие классическим своим клином. А в стороне еще какие-то стаи…
– Ну что вы стоите! Володя, давайте тут осмотрим…
Епифанов уже стоит возле одной из кошар, машет рукой. Он прав, Володе место там.
– Ребята, кто дежурный сегодня?
Недоуменное молчание.
– Тогда так…
Володя постарался сразу выделить тех, кто будет безотказно делать все, что надо. Вот те самые парни, что спрыгнули с машины первыми; кажется, они из Малой Речки.
– Вас как зовут?
– Андрей.
– Дима.
– На сегодня вы дежурные. Костер, дрова, вода – на вас. Договорились?
Парни кивают; не чувствуется недовольства, здесь вроде проблем быть не должно. Вот эта унылая девушка – завхоз. Географ и по совместительству – завхоз.
– Вас зовут Рита, и вы в экспедиции завхоз? Все верно?
– Ну да… – таким унылым и тягучим голосом, что впору тянуть его на полметра, как американскую жвачку.
– Выдайте им все необходимое!
Смотрит, как на марсианина.
– Я сказал что-то непонятное?
– Я подчиняюсь Виталию Ильичу…
– Рита, мне некогда. Я заместитель начальника, и я вас прошу: выдайте ребятам все, чтобы мы могли бы пообедать. А я спешу, буду искать нам всем жилье.
– Девушки! Кто сегодня приготовит еду? Вечером напишем график дежурств, а пока нужен доброволец.
– А давайте мы сегодня вместе?
– Не пойдет, много работы по лагерю. Так кто? А впрочем, разбирайтесь сами! Одна пусть дежурит, остальные будьте готовы, работать пойдем.
– Володя! Да сколько вас ждать?!
И Володя побежал к облезлой громаде кошары. Невелика дорога, метров сто, но и на этом ничтожном расстоянии Володе дважды попадались какие-то то ли трупы, то ли мумии овец, оскаленные страшные скелеты, на которых обрывки шкур покрывали кости со ссохшимися, почерневшими волокнами мышц.
Два длинных барака, стандартные, приспособленные только для овец: широкий коридор между загонами по обеим сторонам, широкие ворота с торцов и сбоку каждого сооружения.
– Эй, кто-нибудь тут есть?!
– Хозяева, отзовитесь!
Орали, надеясь найти кого-нибудь, но кошары казались заброшенными: хотя вот и навоз совсем свежий, и только что прибитая доска…
– Э-ээй!
Только эхо ответило ученым да какой-то глухой стон: сразу непонятно, животное стонало или человек.
– Вы слышали, Володя?
– Конечно… Отойдите-ка! Или, может, сходим за оружием?
– Не празднуйте труса! Лучше скажите, где это…
Опять стон, протяжный и болезненный.
– Вроде совсем недалеко, в этом загоне или в соседнем…
В полутьме загона странно крутилась овца. Почему-то здесь она была одна, эта овца, во всем загоне, предназначенном для сотен животных.
– Да что с ней, Виталий Ильич? Чего эта тварь крутится?
– Не знаю… Никогда не видал таких овец. Попробуем ее остановить?
– Давайте!
Но Володе не понадобился Епифанов. Перескочив через ограду, он легко поймал овцу за шерсть (но тут же пожалел, потому что запачкался в навозе) и как будто мог удержать ее на месте. Но помочь овце он не сумел: животное попросту не могло остановиться. Овца шла не потому, что хотела идти, неудержимая сила гнала надрывно стонущую овцу по кругу. Вот она остановилась, но не потому, что Володя удержал: с ней самой что-то происходило. Крупная дрожь сотрясала овцу, она стонала еще жалобнее, еще глуше.
Володя отступил, и животное пошло… словно споткнулось и упало, вскочило с безумным выражением в глазах, снова двинулось по окружности…
– Виталий Ильич! Тут еще…
В углу загона валялась еще одна овца. Эта пыталась встать и падала уже беззвучно, а упав, надолго замирала на боку, беспомощно дрыгая ногами.
– Володя, вы бы их не трогали… Может, у них что-то заразное…
– Вряд ли овечьи болезни заразные.
Но Володе хватило ума больше не хвататься за овцу, он уже оттер пучками прелого сена навоз.
– Может, хватит им мучиться?!
– Не хватайтесь вы за нож, Володенька, мы же не знаем, зачем их заперли здесь. Может, они могут оправиться, выздороветь. Вы их зарежете, и сами же будете виноваты.
– Или их заперли отдельно, чтобы не разносили заразу…
– Может быть и так, и я вам дам сегодня кое-что для дезинфекции. Но и в этом случае пусть вернутся хозяева и сами уж принимают решения.
– Да где они, эти хозяева?! Мне кажется, умирающие овцы – это все население хутора номер семь…
– А вот глядите – словно дверь в квартиру, даже обита дерматином!
– Действительно, странно…
В одном из углов овчарни была устроена бытовка – отгороженный и утепленный закуток с печкой и нарами, для людей. Сразу стало ясно, что овчарня точно обитаема… по крайней мере, была обитаема еще утром: печка совсем теплая, на нарах валяется ветошь, на столе валом немытые миски и какой-то подозрительный котелок. А из котелка валит такое зловоние, что страшно подумать – неужели люди это ели?!
– Мне еще в Абакане говорили, что тут должны быть пастухи…
– А если они как раз утром и ушли?
– Тем лучше – выбросим эту гадость и заселимся сами. Тут хоть не устроили сортира, как в домах.
– А вообще интересно, зачем так напачкано в домах? Вроде бы сами тут и живут.
– Может, у них народный обычай такой: поужинал – тут же и покакать, в том же месте? – предположил Епифанов.
– Таких примеров наука не знает.
– Вот и хорошо, мы будем первые…
Епифанов откровенно развлекался, Володя смеялся почти вопреки своей воле.
– Виталий Ильич, пойдемте в другую кошару!
И в другой кошаре было так же странно, неуютно – как в любом месте, оставленном людьми. Гулкое эхо под высокой двускатной крышей, сладковатый аромат навоза. Идти в эту кошару было даже как-то жутко – может, в ней уже не две, уже много гибнущих овец?!
Но больных овец тут не было, только у входа в овчарню лежала еще одна мумия. И второй бытовки тоже не было.
– Вита-алий Ильи-ич!
– Студенты зовут. Пойдем к ним?
Пока они осматривали кошары, парни выгребли все из двух комнат более целого домика, проветрили, вставили куски стекол, а разбитые стекла закопали. Они даже ухитрились замазать глиной и разожгли полуразваленную печку. Две девушки сосредоточенно возились у стреляющей плиты, мешали что-то в котелке. Две другие домывали пол в одной из комнат, и там в углах уже высились перенесенные сюда рюкзаки.
Значит, тут мы и будем жить…
Правда, на пороге дома сидел тощий парень-студент и очень задумчиво курил. Да и девушек вроде было с утра пятеро. И кадры Епифанова тоже делись куда-то.
Володя с удовольствием отметил, что шофер, Алексей Фомич, помогал – принес воды с родника, показывал девицам, как надо вязать веники, чтобы мести мусор. Вредный шофер – это, вообще-то, один из кошмаров начальника экспедиции, и слава Богу, если этот не капризный. А может, это рыночная экономика действует: Фомич хочет, чтобы его брали в экспедиции?
Что ж, кажется, начал складываться отряд, и становилось понятно, на кого в нем можно будет полагаться.
– Виталий Ильич, непорядок – вот одни работали, другие куда-то исчезли, третьи сидят сиднем. Я могу это исправить, но надо же знать, что происходит…
Оказалось, кадры Епифанова ушли осматривать ближайшие группы курганов: соответствует ли карта местности, можно ли ей доверять? Еще в Абакане они договорились, что сделают именно так – в первый же день, пока ставится лагерь, пойдут отмечать группы курганов.
Благое дело, и сам Володя, наверное, поступил бы так же. Но все должны понимать, что происходит, и не должно быть ни любимчиков, ни исключений.
– Виталий Ильич… Вы понимаете…
– Да-да, Володя! Я потом объясню все, что происходит, а этих бездельников…
– Я знаю, что с ними надо делать. Только тут же никто никого толком не знает, надо, чтобы вы представили…
Тут подлетела Маргарита:
– Виталий Ильич, от меня требуют продукты выдать! Я без вашего разрешения ничего выдавать не хотела!
– А что же это на плите варится?
– Это наши продукты, – распрямился Андрей, продолжавший кочегарить. – Нас просили с собой взять макарон, тушенки. Мы свое и варим: люди должны пообедать.
– Та-ак… Виталий Ильич, без вас тут и правда не разобраться. И если мы договорились, давайте представим меня отряду как заместителя. И пусть потом никто не обижается…
И был Володя официально представлен, объявлен заместителем начальника, которого надо слушаться. Маргарите велено было оприходовать все, привезенное ребятами, и неукоснительно выдавать. Уже находящийся при исполнении, возведенный в новый чин Володя спросил у мальчика, курившего у порога:
– Что, домой уже хочется?
– А?
– Бэ! Еще увижу, что бездельничаешь, когда другие работают, – тут же поедешь домой! Ты откуда, прелестное дитя?
– Из Новосибирска…
– Зовут как?
– Толяном… Я со второго курса.
– Вот в Новосибирск, Толя, и поедешь. На Малой Сые не бывал?
– Не-е… Я только на Фыркале.
– Ну, живо, помоги сколотить стол для еды и скамейки. Вон доски валяются… видишь?
– Угу…
– Вот и сколачивай! Чтобы мы уже сегодня пообедали нормально.
И сразу к девицам:
– Вы как будто Оля?
– Да… Я Оля.
– А остальных как зовут?
– Лена… Лариса… Наташа…
– Очень приятно, девушки. Я так понимаю, Лена и Лариса – из Новосибирска, да?
– Да, мы на Фыркале…
– Про это позже! А вы, девочки…
– А мы из Малой Речки, мы почти местные!
– Почему «почти»? Ведь вы живете совсем близко.
– А потому что все равно не местные…
– Ладно, это мы еще уточним, а вот почему одна девушка ушла куда-то? Ее как зовут?
– Она Лиза… Она тоже из Малой Речки.
– Так куда ее понесло?!
– Гулять… Тут все равно делать нечего.
– Та-ак… На будущее – что одним уходить нельзя, это вы понимаете?
– Не-а…
– Тогда пока просто велю: по одной никогда не ходить. Даже в уборную. А с Лизой я поговорю особо.
И тут же на улицу, к Толе, на того надежды мало. Володе казалось, алкоголь выходит из него с каждым ударом молотка; обедали правда за столом. Все немного ослабели, и не только от дороги – от удивительного весеннего воздуха, стянувшего кожу лица, пьянившего, как легкое вино. И от запаха… Аромат перезимовавших трав бил в ноздри, прочищал мозг, как нашатырь. Все были расслабленные, тихие, почти перестали разговаривать, а дела-то еще было полно. В тишине только звякали металлические ложки о такие же железные тарелки, свистел ветер в досках забора и в бревнах домиков, горланили птицы наверху.
– Володя, как вы полагаете, будет уместно, если я сейчас произнесу некоторую речь… выступление…
С ним уже и в таких делах советуются?!
– Несомненно, Виталий Ильич! Сейчас самое время, а потом, если не возражаете, скажу про график дежурств и мы пойдем мыть посуду, ставить до конца лагерь.
Епифанов покачал головой, очень довольный. И хотя Володя знал, о чем пойдет речь, его тоже захватила эта лекция. Стоя перед ребятами, усевшимися на скамейке, Епифанов говорил очень просто, артистично отмахивая рукой:
– Курганов известно несколько сотен тысяч, – рассказывал Виталий Ильич, – и это наверняка вовсе не все курганы, которые есть на свете. Каждый год находят все новые и новые, и насколько возрастет их число, когда мы будем знать все курганы – неизвестно.
Курганы всегда считались только способом сделать погребение большим и заметным, издали видным в степи. Во многом так и есть, и не случайно курганы назвали красиво и романтично – пирамиды степей. Действительно – пирамиды это тоже такие каменные курганы, только построенные народом вполне цивилизованным и располагавшим огромными возможностями… Пирамиду Хеопса строили почти тридцать лет, и каждый год тысяч по двадцать человек. Ни у каких степных народов не было таких возможностей.
Самые большие курганы строились для вождей и царей – в точности как для фараонов в Египте. Но очень часто большие курганы строили и могучие племена для всех своих покойников; накапливали в погребальной камере до сотни трупов и насыпали над ними холм побольше, чем над иными вождями.
Давно уже появились предположения: может быть, курганы выполняли и другую роль, кроме места погребения? Ведь курган – это не только толща земли, насыпанная над покойником. Задолго до насыпи делалась курганная оградка – те самые прямоугольники из огромных камней, которые сохраняются лучше земляных насыпей. Ведь землю разносят ветер и вода, а камни почти не изменились за две тысячи лет.
Курганная оградка была в свое время священным местом. Наверное, мы до конца никогда не узнаем, какие обряды в ней совершались, а главное – как долго могла использоваться оградка. В конце концов, выламывать в скалах и таскать камни, устанавливать их, вкапывая в землю, – очень нелегкий труд. Вполне возможно, что оградку ставили, и она становилась священным местом, как бы храмом под открытым небом, и в ней что-то делали и год, и два. А только потом, через много времени, делали погребальную камеру, попросту говоря, копали могилу, и клали в нее покойника… Наверняка иногда могло пройти много времени между сооружением оградки и захоронением человека.
Да и после того, как покойный был погребен, курганную оградку, эти огромные камни, вполне могли для чего-то использовать. Пусть себе покойник или даже несколько покойников лежат здесь же в своих могилах, мы ведь тоже можем ходить по кладбищу и заниматься здесь какими-то своими делами.
А о том, как могли использоваться курганные оградки, – особый разговор. Для древнего человека огромное значение имело наблюдение за небом. И для того, чтобы определиться во времени: сколько дней остается до сева? Через какой срок стает снег на перевалах и враги смогут ворваться в Хакасию через Саяны? Когда начнет прибывать день, а ночи становиться все короче?
И для предсказаний. Известно ведь, что теплые и холодные зимы, дождливые и сухие лета ходят циклами: скажем, каждое двенадцатое лето выпадает особенно дождливое, а каждая седьмая зима – особенно холодной. Люди накапливают приметы, следят за светилами. Можно как угодно относиться к астрологии, но еще недавно мало кто отрицал влияние небесных светил на судьбу людей и целых народов. Так что наблюдение за небом – это целая наука, и для древнего человека – очень важная.
Каменные сооружения для таких целей использовались – это совершенно точно. В знаменитом Стоунхэндже [6]6
Стоунхэндж – колоссальное каменное сооружение бронзового века, возведенное в Англии во II тысячелетии до Рождества Христова.
[Закрыть]в Англии проводились специальные исследования, и выяснилось: в определенные дни года лучи солнца проходили через щели в одних камнях и падали на основание других или свет встающего или закатного солнца падал поверх одних камней на расщелину между другими. И когда это происходило, жрецы точно знали, какой сегодня день в году. И могли предсказывать, что будет дальше.