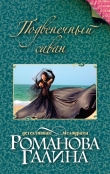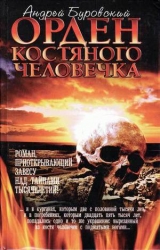
Текст книги "Орден костяного человечка"
Автор книги: Андрей Буровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
Ну не могло же статься, чтобы такая спорая работа, такой масштаб раскопок и не окупились ничем!
…Но вечером Василий Сергеевич вспоминал кабинет, в котором ему давали инструкции, его обитателя, и засыпал долго, в холодном поту и с сердечными перебоями. А по ночам снились сны… Каждую ночь Василий Сергеевич просыпался в холодном поту и порой начинал всерьез бояться, что не выдержит сердце – независимо от результата раскопок.
Уже возле камней курганной оградки находили скелеты людей; положенные на спину, покойники лежали вместе со своими нехитрыми вещами: топорами, бронзовыми ножами, шильями, наконечниками стрел. Костяные диадемы украшали черепа похороненных, в изголовье каждого из них стояли два сосуда – наверное, с погребальной пищей и питьем.
Наверное, это были стражи, которые должны были охранять курган снаружи.
– Что-то вроде внешней охраны, – с пониманием произнес Мордюков, и впервые на его лице мелькнуло что-то похожее на уважение. «Смотри-ка! Интеллигент, а знает свое дело!» – так читал Кислотрупов его выражение.
До чего заколотилось сердце, когда начали раскапывать дромос – наклонный спуск-вход в погребальную камеру. Дромос высотой в 2 метра вел в саму погребальную камеру. В дромосе нашли скелеты двоих мужчин. Один лежал вытянуто на спине, второй – вытянуто на животе. Наверное, это были положены стражи, которые должны были караулить вход в погребальную камеру.
Стражи не выполнили своего обязательства, потому что погребальная камера оказалась полностью ограбленной. Не было найдено даже костей скелетов тех, кто должен был покоиться в погребальной камере, – квадрате 5x5 метров, глубиной 1,8 метра. Наверное, когда грабители проникли в погребальную камеру, они вытащили скелеты… или еще свежие трупы, как знать? И ограбили их наверху. Или грабители оставили дудку, не стали ее закапывать, и лисицы проникли вглубь кургана, растащили человеческие кости.
С точки зрения науки, это все были пустяки – курган раскопан, уникальные данные получены. А с точки зрения политики?! Получается, нет и на сегодня того, за чем снаряжали экспедицию: кургана, который отражал бы могущество и величие государства древних скифов – одного из народов СССР, жившего еще до советской власти! Не было «изюминки», погребения с золотыми и серебряными украшениями, с десятками килограммов золотой утвари, как в курганах Чертомлык или Солоха, раскопанных буржуазными учеными в царское время. Что важнее – какие-то бумажки с записями (да и вел их Кислотрупов не очень старательно), какие-то планы раскопов (и их вел Кислотрупов не очень хорошо) или золотые изделия?! Которые сразу же усиливают мощь государства, потому что их можно продать, перечеканить, переплавить…
И вот всего этого – нет. Нет того, за чем его послали. Расставляя людей по работам, Кислотрупов думал с ужасом: вот, пошли последние дни на кургане… Еще дней пять – пора сворачивать работы. И… что тогда?!
Прислонившись к нагретому камню, наблюдал за людьми Мордюков. Он и правда был специалистом по Азии… Своеобразным, узким, но специалистом. Еще молодым он очищал Среднюю Азию от ее патриотов – басмачей. Он очищал Маньчжурию от страшных людей – от русских белогвардейцев, не желавших жить в Стране Советов, подчиняться товарищу Сталину.
Он привык не суетиться, не метаться, как эта долбаная интеллигенция. Все равно ведь все решится, все свяжется само собой, и не этими суетливыми дурачками. Чего они носятся, как дерьмо в проруби? Вот и этот – суетится, мечется куда-то… Что метаться? У Мордюкова большой опыт, он не позволит обидеть Кислотрупова. Ему приказано, и он сделает все, как велели.
А прикажут иное – и он выстрелит Кислотрупову в затылок или сначала допросит его, чтобы узнать, кто еще предавал нашу советскую Родину, кто разделял с ним нехорошие, немарксистские взгляды? Будет всегда то, что прикажут, – а этот дурак мечется и мечется…
Вытаскивая папиросу, Кислотрупов подошел к верному ординарцу.
– Вы знаете, Мордюков… Меня раздирают сразу два очень сильных чувства… Меня мучит интерес профессионального ученого, и прямо-таки злоба… Натуральная злоба…
Кислотрупов чуть не произнес, что его мучит тяжелая злоба царедворца, не оправдавшего доверия, но это говорить было нельзя. И Кислотрупов закончил иначе:
– Меня мучит натуральная злоба государственного человека. До чего бы я хотел узнать, какая сволочь и когда ограбила этот курган!
ЧАСТЬ IV
Грабители
ГЛАВА 23
Нехорошие люди
Май 1293 года
Еще не зазеленели откосы Караульной горы, травка пробивалась только там, где низко и тепло, – возле Качи и самого Кема. В такое время года дует теплый ветер, стягивает кожу лица – сильнее, чем в любое другое время. Лошади и овцы ходят тощие и не все остаются в живых. Рождаются ягнята и сосут отощалых матерей, а те крутят хвостами и блеют жалобно, ищут первую траву, стараясь остаться в живых.
Чуй поднял голову и наблюдал, как в вышине плыли белые птицы, одновременно поднимая и опуская крылья. Птиц нагоняло облако – такое же яркое, белое, заслонило лебедей от Чуя – значит, облако проплыло ниже лебедей. Высоко, стрелой их не достать. Весной зверей мало, они тощие, и лоси и олени почему-то уходят от человеческого жилья. Остается дождаться перелетных птиц, и очень часто птицы выручают. Вчера журавли плясали совсем рядом, где Кача впадает в Кем. Чуй уже стал подкрадываться с луком, но чуткие птицы взлетели. Легче всего, конечно, бить уток и гусей – они летают такими стаями, что можно почти и не целиться. Все время носят уток и гусей, а недавно старый Даган принес нескольких лебедей с Татышева острова, еле донес.
Конечно, стойбище сыто не гусями, а привезенным Альдо и Чуем. Многие даже говорят, что им это странно – дохнущие от весенней бескормицы лошади, летящие в небе журавли – и сытые толстые люди. Это Альдо привел караван старого Махмуда в такое время, когда не всякий тронулся бы с места. Чуй знает, зачем ему это.
Много лет назад… говорят, три поколения до Чуя, в тополь ударила молния. Когда погас огонь, все увидели, что от дерева осталась малая часть – примерно три человеческих роста. В переплетении тронутых огнем бурых древесных волокон, во вкраплениях черных углей просматривался облик, похожий на лик человека. После долгих размышлений племя решило, что это – воплощение удобного для жизни места, где обычно зимовало племя – там, где Кача впадает в Кем, под сенью Караульной горы. Наверное, это воплощение горы и воды двух рек – решило племя, и тогда люди помогли силам из мира духов, сами до конца вырезали лицо, проглянувшее из обгорелого ствола.
С точки зрения Чуя, мужик в три человеческих роста был уродливым и неприглядным. Сенебат, видимо, думал иначе, если мазал салом, куда только мог дотянуться.
Сенебат отошел от идола, подсел к костру Чуя, и Чуй протянул ему деревянную чашку с чаем. Сенебат – значит «старик-шаман». Старик – это не указание на возраст, а указание на опыт, на ум. Все уважают, почитают стариков. А Сенебат и правда стар, он видел уже больше сорока весен. Чуй невольно любуется узким жестким лицом в глубоких прорезях морщин, темным, как кора дерева, лбом. Сенебат в кожаной куртке, с кожаным ремешком поперек лба. На ремешке, на поясе штанов побрякивают амулеты. Главный амулет – странный человечек с поджатыми ногами – словно сидит.
Сенебат усмехнулся, рукой отодвинул угощение. Сенебат не пьет чая, не ест риса и другой еды из чужих стран.
– Ночью собирались старики.
Чуй наклонил голову. Он ждал.
– Старики говорят: надо уходить. Просохнет степь, и мы уйдем на север.
– Вы каждый год уходите на север, на Килькан.
Чуй знает – каждый год отсюда кочуют на расстояние трех полных дневных переходов, живут там, где кончается степь. Когда-то отец брал его туда. Там, на севере, течет тихая речка Килькан. До речки еще степь, можно пасти отары овец, лошадей. К северу от речки уже только тайга. Чуй знает – старик говорит о другом, его слова – скрытый вопрос.
– Мы пойдем пока на Килькан… Пока. Если монголы догонят нас, то уйдем дальше. Если хочешь, ты можешь идти с нами.
– На севере нельзя жить, как здесь. Там нет степи, где лошади находят себе пищу. Что мы будем есть, если заберемся в глухую тайгу?
– Олени кормятся и в тайге. В тайге водятся дикие звери.
В молчании слышался крик детей в стойбище, между чумов и юрт, крик гусей из пронзительной синевы сверху. И Сенебат добавляет, тихо, по-доброму усмехаясь:
– Птицы туда тоже прилетают.
Чуй понимает – Сенебат согласен поселиться сам и увести свой род куда угодно, лишь бы уйти от монголов. До монголов можно было жить так, как жил всегда его род. То есть и раньше эта жизнь тоже менялась – все больше юношей уходило служить кыргызам, учило кыргызский язык, пило чай, ело рис и фрукты. А что делать, если рис вкусен, вкуснее проса и гречки, если он дешев, да к тому же хорошо хранится? Что можно поделать, если чай пить вкусно и он дает новую силу? Что может сделать племя, если только на кыргызском языке могут договориться все живущие на берегах Кема? Ведь у каждого рода свой язык, даже других кетов род Лебедя понимает плохо. А самодийцев, тохар и тюрок вообще невозможно понимать, если говорить только по-кетски.
Это понимают они оба – и Чуй, и Сенебат. Сколько поколений назад жил общий предок? Тот, от которого происходят они оба? Чуй не помнил. Разница между родственниками в том, что еще прадед Чуя стал служить князьям-каганам кыргызов, стал жить, как кыргызы, и Чуй уже сам не знает, на каком языке ему удобнее говорить – на языке родного племени или на кыргызском языке. А Сенебат… Сенебат родился частью племени и умрет тоже частью племени. При кыргызах можно жить вот так – частью племени; жить так, как жили предки. Такая жизнь будет все затихать, умирать… И умный человек легко заметит это умирание, но мало почувствует его на себе, потому что умирает племенная жизнь медленно-медленно. Умирает сама, без насилия.
Если скоро везде будут монголы, уже никому нельзя будет жить, как привыкли. Только в большом городе Орду-Балык все равно будет продолжаться обычная жизнь – люди будут растить сады, строить дома, служить офицерами и чиновниками. А как будет жить под монголами племя? Скорее всего, никак; под монголами племя исчезнет. Потому Чуй при нашествии монголов начинает думать – как можно жить под монголами? Думает он про самого себя и потому находит много ответов – как можно под монголами прожить. А Сенебат думает про племя и сразу же понимает, что жить под монголами нельзя.
– Сенебат… Там, на севере, наш род будет жить не так, как здесь. Если кеты будут охотиться на зверей и птиц, ловить рыбу и не будут разводить скот и сеять зерно… Они ведь изменятся, Сенебат…
– Изменятся.
– Во-от… Неизвестно, где они изменятся больше, Сенебат, здесь или там. И под монголами можно пахать землю и разводить стада овец.
– И на севере будет так, как установлено. Там не будет так, чтобы мальчик говорил, как старик. И чтобы старик должен был уговаривать мальчика.
Сенебат опять усмехается – по-доброму, но непреклонно. Чуй понимает: Сенебат хотел бы, чтобы Чуй сейчас выслушал его и не спорил бы, ничего не говорил – даже в подтверждение слов старшего. Зачем поддакивать старикам? Они и так знают истину в последней инстанции. Они сообщат эту истину молодым, а дело молодых выслушать их и исполнить.
Сенебата оскорбляет даже то, что Альдо и Чуй привели караван, дали роду еду весной. Два мальчишки с их рисом, чаем и мукой становятся важнее стариков, а торговля оказывается важнее разведения скота или охоты. Сенебату это неприятно. Не будь каравана, несколько человек умерли бы? Да, это тоже плохо, но ведь они и раньше умирали… Весной всегда умирали от голода, и кто такие эти двое щенков, чтобы изменять жизнь людей и становиться главнее стариков?!
– Если хочешь, ты можешь уйти на север с нами, – еще раз повторил Сенебат.
Чуй понимает, что и это для него почти оскорбление – предлагать что-то молодому, уговаривать его. Он хочет иначе: чтобы молодому не приходило в голову, что можно жить не вместе с племенем. Или чтобы старик мог сказать – и молодой тут же сделал так, как он сказал. Если Чуй уйдет с ними на север, так и будет. Впервые Чуй подумал такими словами: «с ними». Раньше все кеты были «мы» – и разноплеменные жители Орду-Балыка, и свое племя.
Сенебат встал, пошел к другим чумам, и опять слышнее заголосили перелетные птицы наверху. А Чуй допил почти холодный чай, двинулся к их с Альдо юрте. Альдо только еще встал, садился около костра. Хлопотали, кипятили воду под чай рабы Альдо – Хороля с Асу.
Асу заулыбался, увидев Чуя. Он вообще часто улыбался, потому что был молодой и веселый, очень сильный и всякую работу мог делать хорошо и быстро. Асу часто смеялся, радуясь всему, даже самой малости: хорошей погоде, ветру, красивой лошади, а уж тем более – пиву или новым сапогам.
Лицо Хороля годы рабства превратили в неподвижную, всегда одинаковую маску. За этой маской могло скрываться все, что угодно. Хороля ничего не ждал, ничего не боялся, никогда ничего не просил. Хороля старый, больше тридцати… может быть, даже и сорока лет. Вот и сейчас – снял котел с огня и чуть не упал, еле нашел подходящее место, чтобы поставить котел. Он уже неуклюжий, как старик.
Оба раба хорошо понимали по-кыргызски, но совсем не знали по-кетски; в стойбище были словно глухие и немые. Альдо только потягивался, устраивался у огня. Чуй заметил, что Сенебат не пришел поговорить с Альдо, как подошел только что к нему.
– Что, опять уговаривал? – кивнул Альдо вслед Сенебату, и нехорошая улыбка зазмеилась по его заспанной физиономии.
– А что? Я все думаю – может, и нам уйти вместе с ними? – В свои шестнадцать лет Чуй уже умел быть хитрым змием… когда надо.
Альдо выразительно пожал плечами, не стал отвечать на глупые вопросы. Альдо – из знатной семьи. Отец Альдо, Кильда, много лет был чиновником у кыргызских каганов и занимался торговлей. Тот двор, который он держал, где останавливались купцы и караваны, давно уже называли тюркским словом караван-сарай, а самого Кильду – таким же иноземным словом караван-баши.
Альдо еще хорошо говорит по-кетски, а вот Кильда уже с акцентом, потому что Альдо часто бывает в этих местах, водит торговые караваны, а сам Кильда почти не говорит с кетами. Больше всего Кильда говорит с торговыми людьми из больших южных городов, и говорит на тюркских языках. Все они разные, языки тюрок, но похожие, а Кильда старается их знать как можно лучше. Или гости говорят по-кыргызски, но ведь и кыргызский – лишь один из тюркских языков.
Больше всех Кильда дружит с купцом Махмудом из торгового города Кашгара. Еще отца Махмуда поставили в стране Хягас монголы; монголы любят ставить во всех завоеванных странах людей не отсюда. Тех, кто происходит из других стран, говорит на других языках. А торговцев они очень уважают, монголы; даже их ханы любят беседовать с видными купцами и приближают их к себе. Кильда намекал, правда, что это ханы так получают сведения про дороги, про народы других стран и про их армии и крепости, – через рассказы купцов…
Это Махмуд послал сюда Альдо с караваном. Махмуд не боится, что его караван пропадет, – у него есть пайцзы, золотые и серебряные пайцзы, и он дал одну серебряную Альдо. Монголы не трогают тех, кто может показать пайцзу, – это знак, что такого человека знают монголы и он действует в их интересах. Махмуд из города Кашгара торгует пушниной; ему нужна пушнина, что бы ни делалось на дорогах.
А Чуя Альдо почему-то любит, и Чуй часто ходил с караванами Махмуда, которые водил Альдо. Они – близкие родственники, пятиюродные братья, что было важно для обоих. Но у Альдо есть и другие близкие родственники, а с караванами ходит Чуй. И Чуй знает, почему. Он знает, что надо Альдо от Чуя.
– Мы не знаем, что нас ожидает дома… – голос Чуя прозвучал напряженно, – может быть, лучше уходить вместе со всеми, на север.
Оба они, Альдо и Чуй, знали, что где-то далеко на юге двигалась грозная армия. 90 тысяч всадников ведет с собой Титуха, страшный полководец Хубилая. Если Махмуд говорит правду, Титухе велено потопить «в крови и в воде» всех, кто будет сопротивляться, «согнуть их шеи под колено победителя и привести к полной покорности». [11]11
Подлинный текст того времени.
[Закрыть]Если даже Махмуд преувеличил, армия точно идет; караван на север вышел за три дня до того, как армия кагана выступила навстречу Титухе. В любом случае это конец. Сенебат прав – уже ничто и никогда не будет в стране Хягас таким же, каким было до нашествия.
Удар монгольского кулака не мог не рухнуть на страну – вопрос оставался только в сроках. Зимой 1292 года Титуха, полководец Хубилая, был в Каракоруме и получил приказ «овладеть кыргызами». Удар обрушился.
Ранней весной 1293 года, в начале марта, Титуха перешел Саянский Проход по льду Кема, и ударил по кыргызам. Титуха шел на Орду-Балык, чтобы сразу захватить столицу мятежной провинции.
Таковы были события, которых не мог не знать ни один житель страны Хягас, и все это превосходно знали братья… Никак не могли бы не знать.
– Слушайте, жители! Не говорите потом, что не слышали! – гнусаво прокричал вдруг Альдо, подражая глашатаям кагана. – Сам каган даже не смог защитить Орду-Балыка, а ты думаешь спрятаться на севере!
Несколько дней кричали глашатаи на улицах, между домов, созывали всех способных держать оружие. Чуй сомневался, потому что знал, сколько сил и людей у монголов. Махмуд и другие купцы рассказывали ему, как страшны в бою, как беспощадны воины монголов, вместе с которыми воюют и их женщины, как беспредельна Монгольская империя и бесконечны полчища монголов. Чуй не верил в победу кагана, считал монголов слишком сильными и страшными.
– Что же ты не пошел с сильными людьми, бить монголов?! Что же ты теперь хочешь убегать вместе со слабыми?!
А Чуй потому и не пошел, что не верил в их силу. Много лет, до конца его жизни, будет жечь Чуя взгляд дяди Токуле. Дядя ничего не сказал, когда Чуй собрался с караваном на север… нет, он ничего не сказал. Он только смотрел на Чуя поверх деревянной чашки с чаем. Так и смотрел, сидя на кошме, такой знакомый, сильный и поджарый, такой невозможный без черного военного халата и сабли. Даже вот так, в собственном доме и на кошме, за чаем, было видно, что Токуле – человек сильный и опасный, и глаза у него Чуй много раз сравнивал с глазами рыси. Вот Токуле так и смотрел, упирался желтыми зрачками, пока Чуй не опустил своего взгляда. И не сказал ничего Токуле, не двинул лицом в сторону Чуя.
А наутро Чуй уже ехал на север, по зимнику, по замерзшему руслу реки, и знал: завтра дядя с обоими сыновьями, от обеих своих жен, идет вместе с войском кагана навстречу войску Титухи. Каган Аба-хан уводил дружину от города: считал, что защищать Орду-Балык бессмысленно, и если давать бой, то не в городе и не возле города. Чуя раздражало их нежелание понять, что воевать с монголами бессмысленно, – что Токуле, что самого кагана.
Только став совсем взрослым, Чуй понял, что ни Аба-хан, ни Токуле не надеялись победить. В марте года Собаки ополчение кыргызов вышло из города совсем с другой целю – умирать. Умирать, чтобы не видеть гибели своей страны. Пусть это будет после них.
А тогда, пряча лицо в воротник, отворачиваясь от порывов еще ледяного ветра, Чуй вел свою часть каравана со льда Абакана на лед Кема и остро чувствовал, что позади – огромный и прекрасный кусок жизни. Огромный дом дяди, глинобитный забор, выходивший прямо в степь, глухой стук яблок, падавших на землю в саду, рассказы дяди про службу в дружине кагана, спокойное уважение сородичей здесь, на реке Каче. Уважение не к нему, Чую, – а к тому, кто живет в доме владельца таких огромных табунов.
Почти половина скота, пасущегося в лесостепи, принадлежала Токуле; сородичи пасли овец и лошадей, умножая богатство и всего рода, и его городских представителей. А на Чуя ложился отсвет богатства Токуле, славы того, кто живет в Орду-Балыке, посреди фруктового сада, кто в дружине самого тюркского кагана и чуть не каждый день с ним встречается.
Слава ложилась на Чуя, на сына грабителя могил. Грабитель могил не мог стать таким уважаемым человеком, но тоже мог стать богатым человеком… если ему повезет. Наверное, отцу Чуя Диугу просто не успело повезти. Чуй уже начал постигать секреты страшноватенького ремесла, когда отец ушел и не вернулся. Чуй знал только примерно, что затеял Диуг, – на это дело отец его не взял. И тогда Чуй, не помнивший матери, оказался в доме родного дяди Токуле.
Только много позже Чуй вспомнит – ведь ни разу за много лет Токуле не говорил с ним про могилы. Его это не интересовало? Он считал это ремесло презренным, как многие? Уже по пути к реке Кача Чуй сообразит, что ничего не знает об этом. Вот о чем говорил дядя много – это о службе кагану, о войне, о службе, о победах. Токуле хотел сделать племянника Чуя воином кагана, как своих сыновей. Не получилось: наверное, в Чуе слишком густо текла кровь Диуга, – кровь кого угодно, только не воина.
Беседы Альдо и Кильды бывали куда интереснее – о путешествиях, караванах, других странах, пустынях и торговле. Кильда бывал во многих городах, и во всех он что-то покупал и продавал и, как подозревал Чуй, еще больше чего-то вынюхивал.
И еще… Кильда интересовался тем, как можно грабить погребения. Чуй мог быть ему интересен; Чуй знал что-то взрослое, серьезное и даже пахнущее тайной – то, что знают далеко не все. Это уравнивало их – известного богатого купца и нищего мальчишку, сироту, живущего у дяди.
Но вот кто гораздо сильнее хотел уметь грабить могилы – это Альдо! Причем Альдо охотно объяснял, зачем ему нужно все это, и его интерес сразу оказывался простым, понятным.
– Сколько стоило все, что принес твой отец Диуг из кургана? Все, что он принес три года назад?
– Наверное, тридцать или даже пятьдесят лошадей.
– Ха! Все, что выручает купец из торговли за год, может стоить гораздо меньше…
Что поражало Чуя в купцах – это умение всегда извлекать пользу из всего, что происходит вокруг. И знать все, что происходит во Вселенной. Что Титухе приказали выйти в поход, купцы узнали, судя по всему, раньше, чем воины кагана. И не успел прийти слух о движении войска Титухи, как оба засобирались: один в Кашгар, другой на север. О чем говорили, как договаривались Кильда с Альдо, Чуй, разумеется, не знал. Но что Альдо снова звал – вот это точно.
– Что здесь начнется – ты сам знаешь не хуже меня. У Титухи девяносто тысяч войска, а у кыргызов нет и двадцати.
Он так и сказал – «у кыргызов», а вовсе не «у нас» или «у наших». Тут тоже был урок своего рода – умения вовремя отодвинуться от потерпевшего неудачу, перестать связывать себя с ним.
– Хочешь погибнуть в рубке – погибай. Но мы тебе советуем другое: мы собираем караван на реку Качу.
– Токуле хочет воевать. Вдруг мы сможем разгромить монголов.
– Нет, кыргызы их не разгромят. А твое имя не Токуле, и я обращаюсь к тебе. Ты мой брат, и я не хочу твоей смерти.
Чуй не хотел умирать.
Выехали, когда бушевали последние метели, а лед на Кеме трещал от последних морозов. Возле устья Тубы встретили последних людей – жившие там самодийцы издалека заметили караван, вышли предлагать свою пушнину. Альдо не соглашался, все хотел довезти товар до дальнего становища сородичей. Через пять дней после прихода каравана к устью Качи лед стал трещать, а еще через три дня тронулся, начался ледоход.
– Много кетов уже потеряли язык, память о предках, стали тюрками. Они воюют с кыргызами против монголов. Много у них получилось? У этих двух, что не вернулись? У тех, кто сразу бежал, как только увидел монгола? Альдо умнее и хитрее… Он не хочет быть ни кетом, ни кыргызом.
– Кем же тогда ты хочешь быть?
– Альдо хочет стать жителем Кашгара.
– А если не примут в Кашгаре?
– Если в Кашгаре будет плохо, можно уйти и в другие города… Городов и стран на земле много.
– Да-а… И везде собирают дань – что тюркские каганы, что монгольские ханы.
– Даней нет там, где собирать нечего… Я останусь там, где блестит золото и можно жить не жизнью дикаря… И вот что, брат, – я говорил тебе множество раз, и говорю еще раз, и последний: давай возьмем золото в Большом Салбыкском кургане.
Впервые Альдо сказал все, что он задумал, и Чуй отшатнулся:
– Ты что?! Стража кагана следит, чтобы не был нарушен покой спящих там богатырей… и род тохар тоже охраняет своих…
– Род тохар охраняет то, что поручил ему кыргызский каган… или позволил.
– Тохары говорили мне, что Салбыкские курганы построены их предками для царей предков. Ты же знаешь, это очень древний род…
– Ты сам тохар по своей прабабке… Где твой знак этого рода? Не потерял?
– Ты же знаешь, что не потерял… И знаешь, что есть разница между тохаром по мужской и женской линиям.
Альдо кивнул. Чуй знал, что он кивнул головой, потому что зазвенели подвески. Разница есть. Настоящие тохары – по мужской линии. Самые настоящие – у кого и отец, и мать тохары; у кого никогда не было в роду никого, кроме тохар. Такие тохары стерегут могилы своих царей, и они умеют многое… не надо ночью говорить, что умеют. С каждым поколением тохар все меньше и меньше, но все больше таких тохар, как Чуй – тех, в ком течет хотя бы капелька их крови. Тохар даже Сенебат; Сенебат не хочет говорить об этом – но ведь и у него висит на шее человечек…
И опять ползет сдавленный шепот:
– Каган позволяет тохарам охранять могилы их царей потому, что это бесплатная охрана… Потому что есть поверье – пока стоят эти курганы, а в них спят древние цари, до тех пор длится власть кыргызского кагана. Но послушай: нет кыргызского кагана – нет и охраны из рода тохаров. Нет кыргызского кагана – нет и его стражи, а ведь сейчас кагана нет… А пока монголы поймут, что лежит в курганах, – очень много времени пройдет… Если им не расскажут специально.
– Ну… вот, допустим, мы взяли все золото…
– Сколько может быть золота в таком кургане? – перебил Альдо.
– Я же тебе говорил…
Но Альдо молчал, только сопел в полутьме, обдавая Чуя жарким прерывистым дыханием, и Чуй произнес еще раз:
– В таком кургане?.. Думаю, что ноша для сильного человека, не меньше. А может быть, даже для двух. Это стоимость табуна в несколько тысяч коней.
– Сколько нужно копать? Если пойдем мы четверо? Я, ты, Хороля, Асу?
– Дней десять…
– Тогда слушай меня теперь ты…
И Альдо просто, очень ясно рассказал, что надо делать, как только они возьмут золото. Надо бежать в город Кашгар, на родину купца Махмуда. Множество тюрок живет под игом монголов, в Кашгаре много богатых купцов, и там легко самим стать богатыми и видными купцами. Чтобы стать купцом – тут нужно золото. Еще нужны рекомендации купцов, но у Альдо есть знакомые купцы, кроме Махмуда, они поручатся за них.
– А почему нельзя остаться здесь?!
– Потому что здесь слишком многие знают, как выглядит золото из курганов.
– И тохары – даже если многие из них погибнут, то ведь наверняка многие и останутся. Ты помнишь, как поступают они со святотатцами?
Чуй кивнул… Святотатцев тохары отдавали священному огню, чтобы огонь мог выпустить из тела и очистить их загрязненные грехами души.
– И еще одно… Какой смысл оставаться в стране, обреченной на гибель?! Если и будет в стране Хягас что-то хорошее, то когда? При наших внуках, не раньше. Монголов ты сегодня уже видел…
Чуй слушал, и сердце его колотилось о ребра, как бабочка. Альдо прав: он сам видел монголов и понимает: здесь долго не будет ничего. Совершенно ничего, потому что монголы не дадут. И насчет Салбыкского кургана Альдо прав… Сейчас вполне возможно взять курган, а потом власть монголов установится и опять ничего станет нельзя сделать…
Во все времена бывали периоды хаоса и неразберихи, и во время каждого такого периода находились слабые духом, всерьез хватающиеся за голову: «Все пропало!». Для них несколько лет (или десятилетий) хаоса – блаженное время, когда можно спереть что-то и удрать в иные, более благополучные места. Чуй шел по проторенной дорожке.