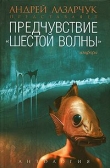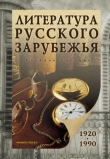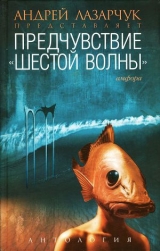
Текст книги "Предчувствие: Антология «шестой волны»"
Автор книги: Андрей Лазарчук
Соавторы: Дмитрий Колодан,Карина Шаинян,Азамат Козаев,Иван Наумов,Николай Желунов,Ирина Бахтина,Дмитрий Захаров,Сергей Ястребов,Юрий Гордиенко,Александр Резов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц)
Начальник проверочного поста махнул рукой, приказывая поднять шлагбаум, и наш штабной «сателлит» сразу же набрал скорость. Дорога была извилистая. Я не удержался и обернулся, чтобы бросить последний взгляд на город, но опоздал – его окраина уже исчезла за поросшим кустами каменистым склоном.
Покидая Сплит, мы проехали через старинные ворота, построенные ещё при римлянах. Сама стена цитадели была давно разрушена, но обветренная и замшелая каменная арка сохранилась. Она была необычайно массивна. Совершенно не средневековая конструкция. На имперских землях я никогда не видел таких.
Когда-то этот городок оказался свидетелем того, как иссяк натиск грозившей опустошить Западную Европу армейской группы Бату-хана. По крайней мере, обратно она повернула именно отсюда.
А спустя почти семьсот лет сюда пришли солдаты нынешней Империи – Третьей.
Красивая вещь – история. Один писатель хорошо сказал, что время похоже вовсе не на реку, а на ковёр. Широкий многоцветный ковёр с причудливыми узорами. В котором я – просто ниточка.
Почему-то прочувствовать это по-настоящему мне удалось именно сейчас. Именно здесь.
Странно было подумать, что с того момента, когда везущий меня бронепоезд «Фафнир» остановился на Сплитском вокзале, прошли только сутки. Всего-навсего.
Хотя я знал, что, если подсчитать время, всё сойдётся.
Первые два часа я просто блуждал по городу, разбираясь, где тут что. Торопиться абсолютно не хотелось. Если честно, большую часть этого времени я просидел на куче плавника на берегу Ионического залива. Даже не размышляя, а только глядя на скалы, на небо и на волны. Я знал, что теряю время, но почему-то уйти оттуда было очень трудно…
Следующие четыре часа ушли на поиски обиталища фельдмаршала, а также на бесполезный визит к нему. А может, и меньше четырёх часов – ведь разговаривали мы со стариком не так уж долго.
Со стариком? Мысленно обозначив так собеседника, я сам удивился. Из тех, кто видел Линдберга два года назад на посту командующего группой армий «Танаис», наверняка ни одному человеку не пришло бы в голову назвать его стариком. А из тех, кто служил под его началом в группе «Паннония», – тем более. Тогда господин фельдмаршал взял, так сказать, личный реванш за свои неудачи в Донском сражении, нанеся в прошлом году ряд серьёзных поражений партизанским отрядам – так, что им даже пришлось перенести свою главную базу с материка на остров Лисе. Остров, правда, взять уже не удалось. Хотя вины фельдмаршала тут не было. Он сделал всё, что было возможно. Достиг таких успехов, что наверняка очень скоро сам об этом пожалел… Во всяком случае, с той точки зрения, которую принято называть «чисто военной», прошлогодняя кампания Линдберга, несомненно, была шедевром. В ней вызывает восхищение почти всё – начиная с самого факта, что на этом театре вообще хоть кому-то удалось действовать осмысленно. В чудовищной ситуации, когда борьба местного населения с оккупантами наложилась на начавшуюся сразу же после гибели Объединённого королевства венгров и южных славян трёхстороннюю гражданскую войну…
Хотя гражданская война как раз отчасти помогала. Ведь благодаря ей партизаны очень часто били не столько шведов, сколько друг друга. А иногда та или иная сторона даже заключала с имперцами тайное перемирие – чтобы повернее врезать своему другому противнику.
Почему участвующие во всём этом люди давным-давно не посходили с ума? Почему непостижимо сложные вещи до сих пор кажутся большинству из них очень простыми? Даже здесь, на Балканах, где эта сложность – зримая, где война действительно похожа на залитый кровью многоцветный ковёр…
Странная вещь – психология людей.
И война – странная.
…Я начал удивляться ещё по дороге, подходя к месту, которое лейтенант-связист на вокзале назвал мне как последний адрес фельдмаршала Линдберга. Путь, намеченный по найденному на том же вокзале плану, вёл почему-то в пригород. Почему так далеко от центра? И от магистрали? И от порта? Кому вообще пришло в голову размещать тут большой штаб? Или штаба, как такового, уже нет?…
Впрочем, идти по этим местам было вполне приятно.
Здесь действительно чувствовалась весна.
Тонкие высокие тополя уже зеленели. Скоро эта улица станет тенистой – но, правда, сквозь листву всё равно будет пробиваться южное солнце.
Я остановился и потрогал стену дома – залитую всё тем же солнцем, поросшую внизу зелёным мхом, ещё не просохшую от потоков талой воды с крыши. И та же вода бежала ручейком в канаве по краю булыжной мостовой.
И наконец – как бы нарочно ставя на картине последний штрих – высоко над домами пролетел аист.
Я тогда ещё подумал: интересно, благое это предзнаменование или зловещее? Аисты – воздушные маги…
Вот она – та самая улица. А вот и тот самый номер. Обычный серый домик с маленьким садом. Просто не может быть, чтобы здесь размещался командующий группой армий. Никакой стоянки с автомобилями, никаких протянутых линий связи. Даже никакого часового у дверей. Может, кто-нибудь ошибся?
Или хуже?
На стук вышел немолодой ефрейтор.
– Фельдмаршал не принимает, – сказал он хмуро, успев в то же время скользнуть внимательным взглядом по моему мундиру.
– Меня примет, – сказал я уверенно. – Скажите ему, что пришёл поручик иностранных войск, у которого он год назад брал уроки классической латыни. Так и доложите – дословно. Не хлопайте глазами, ефрейтор, а выполняйте, – прибавил я, чуть повысив голос.
С денщиками всегда надо обращаться, как с денщиками. Игры в демократию на войне вредны. Делать исключений не следует даже для денщиков фельдмаршалов, ибо игры в чинопочитание на войне вредны ещё больше. Этот принцип, исповедуемый мною давно, сработал и сейчас. Правда, ефрейтору явно хотелось от души сказать мне что-то в ответ, но он сдержался и, буркнув «подождите», довольно быстро ушёл. Через щель, оставленную приоткрытой дверью, я видел, что он поднимается по лестнице на второй этаж.
Всё нормально. Я привалился к стене у дверного проёма и полез было за сигаретами, но спохватился: курить сейчас – не место и не время. Оглядевшись по сторонам, я подумал, что вся сцена выглядит очень по-книжному. Визит тайного гостя к низложенному императору. А такие истории имеют свойство кончаться плохо – например, пожизненным заключением в каменном мешке. Чем не плата за удовольствие?…
Тут вернулся ефрейтор.
– Экселенц ждёт вас, – сказал он на сей раз совершенно нейтральным тоном и отступил, пропуская меня.
Прихожая. Узкая лестница с тёмными вычурными перилами. На втором этаже была открыта дверь в комнату, выходящую окном на север. В этой комнате за овальным столом сидел человек. Сначала я не узнал его.
Он сам узнал меня быстрее. Я понял это по мелькнувшей в его глазах приветливой искорке, которая, впрочем, тут же потухла и сменилась иронией, когда я, поняв наконец, что сидящий передо мной человек – это всё-таки фельдмаршал, – машинально отсалютовал.
Возникла неловкая пауза.
– Заходите, мой друг, и садитесь, – сказал Линдберг совершенно обычным голосом.
Только голос, пожалуй, и остался от него прежнего. Это ведь был такой аристократ – подтянутый, решительный, остроумный. Конечно, суховатый в чём-то, но по-хорошему суховатый. Похожий на университетского доцента. Помню, что первое знакомство с ним вызвало у меня две мысли: первая – что облик и характер классического имперского офицера всё-таки поразительно шаблонен; и вторая – что это не такой уж плохой шаблон. Сочетание натренированного интеллекта с такой же натренированной волей, и всего этого – с кастовой вежливостью… Так выглядел фельдмаршал Линдберг прошлой весной. А сейчас передо мной сидел старичок-пенсионер с невыразительным лицом, хранящим разве что следы какого-то рассеянного добродушия. Его глаза близоруко щурились – он был без своих тонких очков. А ведь год назад он никогда не снимал их.
Я нашарил стул и сел, всё ещё не зная, что сказать.
Линдберг стёр с лица улыбку.
– Я сильно изменился, не так ли? – спросил он.
Да, тон был прежним. Уклоняться от ответа на вопрос, заданный таким тоном, нельзя.
– Вы очень сильно изменились, экселенц.
Он ещё раз слабо улыбнулся.
– Ну, так я вас слушаю.
Раньше, чем я успел заговорить, он продолжил:
– Только имейте в виду: обращаться ко мне как к официальному лицу бесполезно. Я в отставке. Уже пять дней как.
Вероятно, я подсознательно ожидал чего-то подобного.
Помню, во всяком случае, что я не удивился. Просто кто-то сидящий внутри меня сухо отметил: ну вот и всё.
Приехали.
– Извините, экселенц, – сказал я неизвестно зачем.
Голова была ясная, тело слушалось, но что-то в мире за эту секунду неуловимо изменилось. Что-то, чего я не смог бы сформулировать словами. Просто вот был один мир, а вот теперь стал – другой. В котором я ощущаю себя ватной куклой. Марионетка с оборванными нитями.
И вслед за этими чувствами пришло, разумеется, облегчение.
Наконец-то они оборвались…
– Извиняться не за что, – сказал Линдберг по-стариковски чётко. – Наверху решили, что оставшиеся здесь несколько второстепенных частей не оправдывают существования штаба целой группы армий. Все резервы, какие здесь ещё были, перебросили к Реншельду – там они нужнее… Неужели ваша разведка это прохлопала? – спросил он вроде бы даже с интересом.
Я молчал, не собираясь ничего отвечать. Так точно, ваше превосходительство. Прохлопала. Мы и не такое можем прохлопать. Наши возможности поистине безграничны…
Вместо этого я спросил, грубо нарушая субординацию:
– Почему же вы не уезжаете?
Я знал – почему. Фельдмаршал овдовел ещё перед войной, так что возвращаться в семейный дом ему не было смысла. Его единственный сын погиб на Восточном фронте, а дочь была, надо полагать, в относительной безопасности; во всяком случае, после приезда отца-фельдмаршала эта безопасность скорее бы уменьшилась, чем возросла. При таком раскладе действительно самое разумное было – остаться. Остаться и ждать.
Остаться и ждать. Я опустил глаза и положил руки на полированную поверхность стола. Переходить к делу теперь, наверное, не стоит. А с другой стороны – терять ведь тоже нечего. Так что немного поговорить, наверное, всё-таки можно… Я не полез за бумагой, содержавшей мои официальные полномочия, а просто сказал:
– Разрешите спросить, экселенц. Здесь ещё остались хоть какие-нибудь части, способные к обороне?
– Нет. Здесь теперь остались только территориальные гарнизоны, а им я перед отставкой дал неофициальное распоряжение – не сопротивляться. Надеюсь, что крови больше не будет. Сплит – фактически открытый город. Как Равенна.
Воистину: никогда не говорите «хуже быть уже не может». На самом деле почти в любой трудной ситуации – может. То, что сейчас сказал фельдмаршал, было самой плохой новостью, какую я только вообще мог бы здесь услышать. Дело настолько паршиво, что я даже боюсь пытаться это оценить… А переубеждать фельдмаршала бесполезно: он стремится избежать кровопролития и в этом, разумеется, тоже по-своему прав. Ох, дорого бы я дал, чтобы это кровопролитие всё-таки стало возможно… но тут дело уже, кажется, дохлое… И кстати: почему это он со мной так откровенен? А если я – агент ГТП? Неужели его до сих пор не приучили бояться? Всё-таки эти старые шведские генералы – в чём-то дети…
– Вам лично почти ничего не грозит, – сказал я.
Он пропустил это мимо ушей. И сказал, кажется, самому себе:
– Ничего. Для последнего парада меня ещё хватит.
– Рассчитываете на почётную сдачу?
Это были очень грубые слова – но мне ничего не осталось, кроме как произнести их.
И Линдберг меня понял.
Какое-то время мы с ним сидели, просто глядя друг на друга, – и я вдруг обнаружил, что читаю все его мысли, как в детской книжке. Это было не слишком интересно.
– Я не могу вам помочь. И не потому, что не сочувствую. Просто за этот последний год я окончательно перестал понимать – кто прав, кто виноват. Мы ведь на самом деле никогда этого не понимаем. Так много всего сплетается… Очень сложный мир. Людям нужна в нём хоть какая-то точка опоры. Вот почему нам, военным, так легко. У нас в любой, сколь угодно сложной ситуации есть приоритетный вектор. Выполняй приказ. Делай, что должен, и пусть будет, что будет…
Вряд ли он верил в то, что говорил. Да и вряд ли он говорил именно так. Просто я его так понял. И даже, кажется, посочувствовал ему каким-то свободным краешком сознания.
Не только посочувствовал, но и позавидовал.
Хорошо солдатам и влюблённым – у тех и у других всегда есть точка отсчёта. Как Полярная звезда. Хорошо выбирать путь по звезде.
Мне это уже не дано. Для таких, как я, небо – слепо.
Влюблённый человек или солдат похож на того, кто смотрит на предметы сквозь линзу или витраж.
Выбить стекло и устремить взгляд прямо в темноту. Почувствовать кожей холодный ветер.
На этом холодном ветру очень неуютно. Что ж, надо привыкать.
Выбить стекло не так легко. Но вставить его таким же ударом обратно – невозможно.
Пути назад нет.
И, осознав это, я испытал невероятное ощущение, похожее на счастье.
– …Стоп, – сказал я вслух, но спохватился. – Извините, экселенц…
За это мгновение заминки я чётко понял, что собираюсь сказать, – и понял, зачем я это собираюсь сказать. Задача: попытаться убедить Линдберга вернуться к активной позиции. Пока неважно, к какой именно: просто чтобы он начал делать хоть что-нибудь, а там разберёмся. Средство для этого я видел только одно: сыграть на его гуманных чувствах. Линдберг гораздо лучше меня знал, что по прямой или косвенной вине имперской армии в здешних краях пролилось очень много крови. Кровь продолжает литься и сейчас, так как начавшаяся одновременно с оккупацией гражданская война отнюдь не прекратилась. Лучшее, что могли бы в такой ситуации сделать местные имперские начальники, – это применить оставшиеся у них возможности, чтобы остановить или хотя бы затормозить бойню. И если фельдмаршал так и решит и сделает в этом направлении шаги – любые шаги! – то ситуация сдвинется с мёртвой точки. А уж там мы посмотрим, в чью сторону она повернётся дальше… Конечно, такой подход шит белыми нитками – но чем чёрт не шутит; именно сейчас, с человеком, находящимся в лёгком душевном кризисе, это может сработать…
У меня даже дух захватило от собственной подлости.
– …Не могу с вами согласиться, – сказал Линдберг. Сейчас он стал совершенно прежним. Он говорил, словно читал лекцию. – Не могу согласиться – потому что я не знаю, как отработать назад. Если бы мы имели дело хотя бы с двумя противостоящими силами… но тут этих сил – едва ли не десятки. Я убедился, что вся наша аналитика здесь бесполезна. Любые – понимаете, именно любые действия, направленные на изменение общей ситуации, скорее всего, сделают только хуже. А это «хуже» может стоить очень дорого. Вы не представляете, какая здесь была жестокая война…
– Представляю, – сказал я. За время службы на Востоке мне приходилось заниматься самыми разными вещами, в том числе и принимать участие в антипартизанских акциях. Говорить об этом не хотелось.
Говорить вообще больше не хотелось.
Будем считать, что агента-провокатора из меня не вышло. И этого не сумел. Так я, наверное, и сдохну универсальным дилетантом…
Ведь дилетант – это не характеристика умения или неумения делать какие-то конкретные дела. Это просто такой тип людей. К которому я вполне сознательно себя отношу.
Есть другой тип – профессионалы. Вот как фельдмаршал Линдберг, например.
Хорошо таким, как вы, господин фельдмаршал. Всю жизнь выполнять приказы и иметь чистую совесть. А когда всё рухнет – элегантно уйти. Опять-таки сохраняя чистую совесть. Получается, что чистая совесть – это личное дело каждого. Вроде платочка, который можно выстирать. Очень удобно.
Только мы не умеем соблюдать простейших норм гигиены.
Мы – дилетанты: мы воюем, не зная азов военного дела. Не говоря уже о военной этике. Впрочем, мы не знаем даже, что это такое – «военная этика». Вот насколько мы необразованны и глупы. Идиотская армия. Ландскнехты-волонтёры.
Таким, как мы, всегда достаётся грязная работа. Причём за неё даже не платят как следует.
И вот – находятся же любители…
Я уже собирался встать, но вспомнил, что у меня остался последний вопрос.
– Разрешите спросить, экселенц. Когда вы говорили о территориальных гарнизонах, вы включали в это понятие части Русской охранной бригады?
Линдберг посмотрел на меня задумчиво, но медлить с ответом не стал.
– Включал. Если вас это интересует, то ближайшая часть расположена под Церрой. Это в тридцати километрах отсюда.
– Как мне туда добраться?
Линдберг поморщился.
– Это не проблема. У меня ещё остались кое-какие связи. Вам дадут мотоцикл. И даже с бензином.
Опять мотоцикл…
Впрочем, ехать на нём здесь было значительно приятнее, чем на севере. Здесь хотя бы тучи не закрывали солнце.
Эта земля была – как мозаика. Камни, море и небо, но всё это – в тысяче изломанных отражений. Смятые выбеленные утёсы; изящные хвойные рощицы; маленькие кудрявые виноградники; громоздящиеся друг над другом лоскутики террасных полей; матовые волны под скалистыми обрывами…
Я подумал, что здесь ведь, наверное, красиво. Конечно, красиво. Просто заставить себя это почувствовать я никак не мог. Слово «красота» сейчас казалось чем-то вроде смятой бумажки с поблёкшими узорами. Отлепилась и улетела прочь.
Дальше.
После очередного крутого поворота мы показали морю спины и поехали вверх. Дорога теперь шла как бы в извилистом жёлобе между двумя скальными уступами. Сразу над нашими головами начинались заросли туи – мрачноватые, но в то же время они почему-то казались приветливыми.
Человек нигде так не чувствует матерь-Гею, как в горах. Ведь она – скромная богиня. Она не устраивает ярких чудес, не творит специально ни бед, ни несчастий. Мы – всегда на ней. Но когда и где мы это осознаём? Разве только в местах, где сама земля напоминает нам, что она – именно Земля.
Правда, этого обычно хватает ненадолго.
Наверное, мы так устроены, что наша участь – вновь и вновь устремляться, подобно безумным птицам, в слепое небо.
Почему же мы не хотим обратить свой взор на Землю? Почему?
…Но ведь и горные страны бывают разные. Есть конфетные красоты Альп. Есть ржавое золото Карпат. Есть скандинавские горы – чудовищные холодные громады, между которыми течёт фиолетовая вода; Норвегия – край титанов…
Здесь всё было другое. Здесь не было того совершенства прозрачного кристалла, которое превращает в вечное пугало для людей какую-нибудь Юнгфрау. Здесь было своё великолепие – не ледяное, а многообразное и тёплое.
На этой земле можно жить людям.
Вероятно, что-то подобное понимал и тот великий император, который полторы тысячи лет назад построил именно в здешних краях свой главный дворец. Вот он, этот дворец – совсем рядом, километрах в двадцати пяти отсюда…
При этой мысли у меня почему-то перехватило дыхание.
Совсем по-иному чувствует себя ведущий скучную жизнь, замкнутый одним своим окном человек, когда выглядывает ночью в это окно и понимает, что живёт не где-нибудь, а на огромной планете. Со всеми её городами и озёрами, огоньками, мостами и параллелями.
Точно так же и с историей.
Перефразируя афоризм одного выдающегося англичанина, я сказал бы, что империя – это, конечно, чертовски неудобная штука, только вот ничего лучшего человечество так и не придумало.
И можете сколько угодно кидать в меня камнями за очередную глупость…
Кстати. Возможно, я чего-то и не понимаю в порядках проклятой Третьей Империи. Но самая простая логика прямо-таки утверждает, что отправленный против своей воли в отставку крупный военачальник, к тому же популярный в войсках, к тому же давно и обоснованно подозреваемый в нелояльности, – такой человек просто обречён постоянно находиться под плотным надзором гвардейских спецслужб: так, чтобы мышь не проскочила. Чтобы ни один контакт не прошёл незамеченным. Это азбука. И, однако, эти элементарные, очевидные для любого профана соображения явно противоречат тому, что я видел сегодня собственными глазами. Что-то тут не так.
Или это у меня уже начинается паранойя?…
Тут мы ещё раз свернули на боковую дорогу, и думать стало некогда. Хорошие шоссе в здешних краях существовали разве что при римлянах. Просёлок, по которому мы теперь ехали, когда-то, видимо, пытались замостить камнями, но попытка оказалась неудачной, и только отдельные булыжники остались торчать на пути памятниками усердию неведомых рабочих. В результате я всё время боялся вылететь из мотоциклетной коляски или, что ещё хуже, прикусить себе язык.
Впрочем, очень скоро булыжники исчезли, а потом каменные уступы раздались и дорога пошла вниз. Мы въехали в маленькую долину. На противоположном склоне росли уже не туи, а сосны, и там среди них виднелось что-то вроде ворот. Но мы не поехали к этим воротам, а свернули направо. Две обозначенные в траве колеи вели к полосатому шлагбауму, около которого прохаживался часовой в голубой форме.
Стоп.
– Стоять. Документы, – сказал часовой почему-то по-немецки.
Само по себе это меня не удивило – немецкий и шведский языки в пределах Империи практически равноправны. Но почему не по-русски? Я сделал движение, чтобы вылезти из коляски, но часовой тут же повёл в мою сторону стволом автомата.
– Сидите. Документы протяните мне.
Чего они боятся? – подумал я. Как будто в случае нападения гвардейцев такие меры предосторожности могут им хоть чем-то помочь. Или это они опасаются партизанских диверсий?…
Между тем возникла заминка, связанная с тем, что я не знал, какой именно из документов сейчас следует предъявить. Командировочное предписание? Бессмысленно. Имперский паспорт? Ни в коем случае. Удостоверение Комитета освобождения? Не факт, что он когда-нибудь видел такую бумагу… Я пару секунд подумал, а потом перекинул ногу через борт коляски и, стараясь всё же не делать резких движений, просто встал у мотоцикла по стойке «вольно». Автоматное дуло следило за мной, но я был уверен, что часовой не выстрелит. Кишка у него тонка.
– А теперь вызовите сюда начальника караула, – сказал я опять же по-немецки. – Немедленно.
Я сгрёб горстью сосновые иголки и, не обращая больше ни на что внимания, некоторое время просто смотрел, как они высыпаются из руки. Интересно, как называется их цвет?…
Мы с начальником караула прапорщиком Дыбовским сидели прямо на земле, на пригорке, расположенном чуть выше по склону от контрольно-пропускного поста, но на таком расстоянии, чтобы сам пост было видно. В пределах визуальной связи. Выстланная сухой хвоей земля была тёплой. Мне очень хотелось лечь и растянуться на ней, но пока я себе этого не разрешал – деловая часть разговора была ещё не закончена.
– Поздно вы пришли, – сказал Дыбовский. – Вообще – многое поздно.
Я не ответил, потому что это замечание не предполагало ответа. Собственно, почти всё было уже ясно.
– Не вешайте нос, прапорщик, – произнёс я совершенно механически. Так военный хирург в приёмном покое раз за разом привычно говорит своим искалеченным пациентам что-нибудь вроде: «Мы ещё с вами водки выпьем, лейтенант»…
– Я не вешаю, – живо возразил Дыбовский. – Просто надо же реалистично смотреть на вещи…
Я с интересом взглянул на него. У прапорщика Дыбовского было типично юношеское открытое лицо. И сам он весь был очень молодой и открытый. Наполовину гимназист, наполовину студент, и вот уже почти два года – офицер. Он принадлежал к семье старых эмигрантов, но родился, когда Белая армия не только эвакуировалась уже из России, но и успела переменить свою зарубежную квартиру на Объединённое королевство. В Объединённом королевстве он и провёл всю свою жизнь. Вопроса, вступать или не вступать в Бригаду, для него просто не было. Правда, он прекрасно знал, что проблемы у Бригады начались почти сразу – когда имперские начальники отказались направить её на Восточный фронт, заставив вместо этого заниматься на месте охраной объектов и борьбой с партизанами; а чуть позже, когда выяснилось, что эмигрантские части действительно могут сражаться, их просто официально ввели в состав имперских сухопутных сил. Вот и всё. Почему мы должны были драться с этими партизанами – ведь они же правы, они защищают свою родину; в конце концов, в Королевской армии у наших офицеров было и есть немало личных друзей… Тем не менее – приказы приходилось выполнять. Командира Бригады, престарелого генерала Лорера, можно было понять, он оказался перед исключительно паскудным выбором. За само существование национальных частей надо было платить тем, что эти части выполняли фактически роль наёмников… Да, чёрт возьми. Наёмников. А вы знаете, с чем приходится иметь дело? Гетайры занимают хорватскую или мадьярскую деревню и взрослых режут сразу, а детей ставят к винтовке… А вот так. Кто оказался ростом выше винтовки – тех расстреливают. И вот их мы должны были ловить…
– Постойте, – сказал я. – Это гетайры так поступают? Как же так?…
Дыбовский напрягся и задумался.
– Вероятно, я не совсем точно выразился. – Речь у него была по-школьному чистая, чем-то совершенно неуловимо отличавшаяся от той речи, к которой я привык на родине. Вроде бы тот же самый язык – а другой. Наверное, надо иметь музыкальный слух, чтобы это оценить… – Когда я говорю «гетайры», я не всегда имею в виду регулярные формирования. Ведь отрядов, называющих себя гетайрами, очень много, и генерал Бонавентура, к сожалению, контролирует их далеко не все. Генерал – честный человек. Тех, кто виновен в расправах над мирным населением, он обычно расстреливает. Но всю свою армию он расстрелять не может… К тому же любое военное преступление, совершаемое гетайрами, сразу вызывает ответ со стороны внутренних сил мадьяр. В Далмации я, слава Богу, не служил; слава Богу – потому что там, говорят, творится вообще что-то страшное. Хотя уж я и не знаю, что может быть страшнее…
Он окончательно замолчал. Нет, мальчик, так не пойдёт. Мне нужна информация, и ты мне её дашь. Уж извини, если это больно…
– Хорваты, – сказал я. – Что собой представляют их боевые отряды? Они способны к сотрудничеству?
– Не знаю, – сказал прапорщик. – Просто – не знаю. Я с ними не общался.
– А с гетайрами?
Он помедлил, прежде чем ответить.
– С гетайрами – да. У нас даже были совместные операции.
Я не удивился – хотя удивиться в этом месте, может быть, и стоило. Просто об особенностях здешней войны я уже кое-что знал. Гетайры, которых теснили с трёх сторон, пытались заключать соглашения не только с Русской бригадой, но даже с частями Линдберга – и, насколько я понимал, не всегда безуспешно. Ведь шведы здесь тоже воевали на несколько фронтов, так что, независимо от официальных мнений на эту тему, локальные перемирия бывали им просто необходимы… Но, разумеется, все подобные секретные соглашения являлись сугубо временными. Тактические манёвры. Не более.
– И какое у вас о них впечатление? Что они собой представляют?
Тут он задумываться не стал.
– По-моему, гетайры чем-то похожи на нашу Белую армию. У них такой же состав и такие же цели. Только вот положение у них посложнее…
– А если мы им сейчас предложим совместную операцию – они рискнут?
Собеседник внимательно посмотрел на меня и замялся. Я его хорошо понимал. Момент был сложный. Даже если исключить возможность провокации, для ответа на мой вопрос надо было сначала просто понять – что я имею в виду. Говорить прямо я не мог – не имел формального права; я уже и так превысил свои полномочия. А с другой стороны – ну о чём тут особенно гадать?… Я молча ждал.
– Рискнут, – сказал прапорщик Дыбовский.
Я очень торопил мотоциклиста, и всё равно в Сплит мы въехали только глубокой ночью.
Ехать слишком быстро было нельзя – в наступившей темноте мы могли запросто соскользнуть по размытому краю дороги, и тогда пришлось бы в лучшем случае тратить время на то, чтобы втащить машину обратно на трассу. А в худшем – мы бы просто полетели в пропасть. Правда, глубоких пропастей здесь нет; но какая, скажите, разница – падать вместе с мотоциклом с километровой горы или с сорокаметрового откоса?
Но время, время…
Если утром я не спешил, то сейчас случилось какое-то переключение: мне хотелось лететь к очередной цели как на крыльях. В мыслях я ругательски ругал себя за то, что так сильно медлил…
Все проведённые мной за остаток этого дня «консультации» – с капитаном Балицким, с майором Ведерниковым, с подполковником Крафтом – в целом только подтвердили уже сказанное Дыбовским. Да, Бригада была боеспособна. Оставшиеся эмигранты поддерживали её организационную структуру, как свою последнюю надежду, и убить Бригаду можно было только вместе со всеми ними. Даже сейчас, когда они, вместо того чтобы освобождать родину, в течение четырёх лет вынужденно теряли людей и убивали людей в абсолютно бессмысленной резне… Закваска была крепкой.
Помимо Бригады, в здешних краях действовали ещё три реальные силы: имперцы, хорваты и гетайры. С империями всё было ясно. На хорватов стоило рассчитывать «в принципе», но очень многие их подразделения успели так замазаться в гражданских разборках, что использовать их для чего-то ещё было просто нельзя. Этот их президент Везич – сумасшедший тип; он поставил перед своей армией задачу: уничтожить сербскую часть населения Далмации. Не меньше. Что говорить, если на его жестокость жаловались даже некоторые гвардейские эмиссары. И что говорить о гетайрах, которые видят, как уничтожают их единоверцев, и пытаются бороться…
Да… С гетайрами всё было и сложнее, и проще. Сложнее – потому что их отношения с Корпусом в течение этих четырёх лет развивались, мягко говоря, неоднозначно. А проще – потому что гетайры и эмигранты во всех смыслах прекрасно понимали друг друга. Причём независимо от того, воевали они в данный момент или соблюдали очередное перемирие. Прошлогодний ультиматум генерала Бонавентуры был отвергнут генералом Лорером только потому, что его официальное принятие повлекло бы со стороны шведов немедленные репрессии; но враждебные действия Бригады против гетайров с тех пор практически прекратились. Во всяком случае, наша теперешняя задача – выставить объединённый заслон на пути врага с Востока – наверняка найдёт у руководства гетайров полную поддержку. Им ведь тоже некуда отступать, в точности как нам. Надо только провести с ними встречу, чтобы расставить все точки над «i»; и майор Ведерников брался такую встречу организовать. Вспомнив об этом, я подумал, что истратил время всё-таки не совсем напрасно…
И – последнее. По порядку, но не по степени важности. Всего в тридцати километрах к северу отсюда, оказывается, располагалась штаб-квартира кавалерийского соединения под командой генерал-майора Туркула. Вот при этом известии я ахнул.