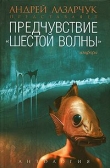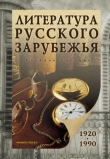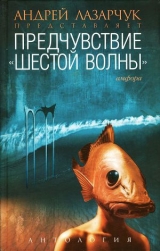
Текст книги "Предчувствие: Антология «шестой волны»"
Автор книги: Андрей Лазарчук
Соавторы: Дмитрий Колодан,Карина Шаинян,Азамат Козаев,Иван Наумов,Николай Желунов,Ирина Бахтина,Дмитрий Захаров,Сергей Ястребов,Юрий Гордиенко,Александр Резов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц)
Я не заставляю себя ждать. Чёрт возьми… Эта жидкость в полном смысле ошеломляет. Она не просто заливает белым огнём горло, но, кажется, бьёт куда-то прямо в основание мозга, так что я на короткое время снова теряю контакт с реальностью. Ну и напиток… Судя по гамме послевкусия, это что-то или венгерское, или балканское. Вот уж действительно, всё на свете объединила в себе славная Империя – поход двунадесяти, чёрт их дери, языков… И только через полминуты ко мне наконец возвращается нормальное дыхание.
– Совещание смертников? – Эту фразу я произношу ещё сдавленно.
– Точно, – откликается Костя. – Клуб самоубийц.
Обсуждаем вот, каким именно мылом мылить веревку…
Маевский едва заметно морщится, и я понимаю, в чём дело. Ведь «клуб самоубийц» – это в разговорах нашей верхушки почти устоявшееся прозвище для упсальского правительства. Подобные дела Михаил знает куда лучше нас с Костей – потому и морщится. Ещё бы… Я помнил, каким потрясённым вернулся полковник Любимов, побывавший ещё в конце тридцать шестого года на совещании в Имперской коллегии по делам протекторатов. Нам, разумеется, никто не сообщал, о чём именно там говорили. Но догадываться не запретили. И мы догадывались. И то, что некоторым из нас потом пришлось увидеть…
А Любимов прошлым летом пропал. Просто пропал: поехал по делу в один провинциальный городок и не вернулся. Расследования не было – кому уж там прошлым летом было до расследований… Такие дела.
Всё-таки это, наверное, хорошо, что нас разгромили.
Только вот незадача: в плен нас не берут. Шведов берут, а нас – нет. Для соотечественников мы – изменники. Гвардия преисподней.
Мы – Русская освободительная армия.
Бросив взгляд на Костю, я понял, что он думает примерно о том же. А Маевский, как почти всегда, невозмутим. Странно: у него черты физиономии вообще-то скорее неправильные, во всяком случае, красивым его никак не назовёшь. А получается… Чёрт возьми, у него ведь сейчас совершенно картинное лицо. Чуточку усталое и твёрдое – как у литературного капитана фрегата. У капитана во время бури. Между Сциллой и Харибдой. Справа водоворот, слева ураган – ну и куда, интересно, ты поплывёшь? Конечно, теоретически всегда есть один-единственный правильный маршрут, выводящий в спокойное море. Неужели ты и вправду надеешься его найти? А? Скажи, капитан…
Кстати, на самом деле он не капитан, а, как и я, поручик. И лет ему меньше, чем мне, – всего двадцать семь.
Только это неважно…
– Так о чём это вы, ребята? – Я пытаюсь перевести разговор на серьёзный тон. Хватит шуток, в самом деле. Успеем мы ещё пошутить…
– Вот о чём. – Михаил указывает на выдранную из школьного атласа карту Европы с пометками, часть которых – свежие. На карте вырисовывается узкая полоса от Голштинии до Далмации – всё, что на сегодняшний день осталось от континентальной части Империи.
Я склоняюсь над картой, делая вид, что внимательно её рассматриваю.
– Ну и что ты об этом думаешь?
Да боже мой, что тут думать?… Бывают вещи, о которых говорить просто нет смысла. Или потому, что ничего не понятно, или потому, что всё уж так понятно – дальше некуда. Правда ведь?
– Фазы Луны не в нашу пользу, – говорю я.
– При чём тут фазы Луны?
– При том, что прилив. Никакое военное искусство нам тут уже не поможет. Оперативные контршансы исчерпаны. И отступать больше некуда. Так что ещё один хороший удар, – я показываю на карте, где именно он будет, – и – всё… – Я делаю паузу. – Это всё тривиально. Гораздо интереснее, что по этому поводу думаешь ты.
Михаил чуть кивает.
– Сколько я тебя помню, ты всегда умел ставить правильные вопросы. Но никогда не умел на них отвечать…
Я развожу руками: чего не умею, того не умею. Такая вот у меня беда. Оракул наоборот, так сказать…
– Ну, тогда ты скажи что-нибудь, – включается Костя. – Ты же у нас умный.
Михаил смотрит на нас, явно к чему-то готовясь.
– Ребята, – говорит он медленно, – я очень хочу вас вытащить. Очень. После того прорыва, о котором говорил Андрей, здесь будет просто несколько громадных котлов. Не уцелеет никто. Тех, кто прорвётся, западные союзники выдадут, как миленьких, – на этот счёт уже есть конвенция. Уходить скрытно, пересекать границы под чужими именами – многие ли из нас на это способны? А главное, что есть не только мы – есть… небольшое, правда… количество людей… которые от нас зависят почти во всём… – Он замолкает, и мы не прерываем его молчания. Сейчас особенно видно, что он всё-таки очень молод. – В общем, картина господам офицерам ясна. И вот поэтому… Меня, я думаю, никто не заподозрит ни в простодушии, ни в сентиментальности. У нас всё очень сложно, ребята. Понимаете, наш мир – он не двухцветный. Он изменчивый и сложный, как облако… или как воронка в океанских течениях… – Его глаза смотрят мимо нас, и я могу только догадываться о том, что именно они сейчас видят. – Даже добро и зло – и те иногда меняются цветами… то есть местами. Чего я вам говорю, вы это знаете не хуже меня…
Знаем. Я не знаю, о чём сейчас думает Семёнов, а он не знает, о чём думаю я, – у каждого из нас свои воспоминания: суматоха потерявшей голову армии, когда начальники орут на подчинённых по каждому пустяку, и два-три раза в день – боевая тревога; паника, расстрелы дезертиров, сброшенные в кювет заглохшие машины, ощетинившиеся винтовками заслоны на дорогах, ведущих в тыл; бесконечные колонны бодрых серых солдат, пылящие на восток под чистым летним небом; города с немытыми окнами, встречающие победителей цветами; новые объявления на столбах – красивые, чёткие, некоторые ветер срывает и несёт по улице; и тот же ветер приносит из пригорода запахи тополёвых аллей, уютных садиков, замусоренных дворов, свалок и гари; и служба после «торжественной присяги» – пустые дни, бессмысленные тренировки, подсобная работа, караулы на задворках железнодорожных станций; и уже другие колонны, бредущие боковыми дорогами под охраной одетых в чёрную форму гвардейских автоматчиков; и доносящийся с окраин стук пулемётов, который все стараются не слышать… Как скучно. Скука – доминирующий тон воспоминаний всех этих лет. О, разумеется, мы понимаем, что на самом деле всё не скучно, а страшно, очень страшно, но вот беда – никто не удосужился прорвать картонный задник, а декорации на нём так выцвели, что уже почти не видны; и вот мы слышим шум, догадываясь, что где-то что-то происходит, но глаза наши заморочены… Хотя, конечно, это ни в малой мере не послужит нам оправданием. И кто-нибудь правильный и справедливый, кому повезло не выпачкаться в этой грязи, будет смотреть на нас если не с ненавистью и не с презрением, то – в лучшем случае – с брезгливой жалостью… Вот так, как смотрит сейчас Михаил, стараясь прочитать наши мысли. Кажется, он их уже прочитал… Интересно, а в зеркало он смотрит так же?…
– Короче говоря, ты предлагаешь нам измену? – спрашивает Костя.
– Да, – отвечает Михаил.
Вино всё ещё стояло на своём месте – очень высокая коническая бутылка без горлышка как такового: она просто стремительно сужалась кверху, господствуя над столом, будто странная башня. Жидкость в бутылке при плохом свете казалась непроницаемой, как чернила.
– Из Южной Франции, между прочим, – сказал Михаил, машинально подбрасывая бутылку в руке, как гранату. – Ну-ка, кто тут разбирается в винах?
Наше скромное общество сумрачно промолчало.
– Ты не форси, ты пальцем показывай, – вяло процитировал Костя столетний анекдот. – Наливай, короче.
– Что значит – наливай? – возразил Михаил, аккуратно ввинчивая в пробку штопор. – Это тебе не самогон и даже не шнапс. Пусть ты не разбираешься в марках и сортах, но проникнись хотя бы самим фактом, что перед тобой французское красное вино – то есть не раствор спирта, а концентрированное солнце, да ещё собранное на нарбонских или цизальпинских, – пробка хлопнула, – виноградниках, которые видели, наверное, ещё Цезаря…
Вкус вина оказался неожиданно вяжущим.
Ольга взглянула на нас вопросительно из-за своего бокала.
– Давайте за встречу, – отрывисто сказал Маевский. – За то, что мы все вместе. Именно сейчас это важно.
– За встречу, – повторил Костя, будто слова, как вино, надо было попробовать на вкус. – Как странно… – Он собирался продолжить, но осёкся, потому что во всей квартире вдруг погас свет.
Михаил шёпотом, но довольно слышно выругался.
– Романтический вечер при свечах, – тут же прибавил он. – Свечи-то у нас есть?
Свечи были – более того, они стояли наготове на полочке над баром, и Ольга зажгла две, переместив одну на стол.
Тени, тени…
Я полулежал на диване, который стоял почему-то у торца стола, а Константин и Михаил сидели в креслах по бокам. Было очень хорошо, спокойно и удобно.
Твёрдый профиль поручика Маевского – как у римского императора на медали.
Подпоручик Семёнов – совсем другой. Под клеймами, наложенными войной и контузией, упрямо проступает очень юное лицо, лицо восторженного мальчишки-поэта. Да он и есть такой – мальчишка-поэт.
В сторону Ольги я старался лишний раз не смотреть.
И не надо было. Она сама подошла сзади и положила прохладную руку мне на затылок. Покосившись, я увидел, что другой рукой она так же обнимает Костю.
– Постарайтесь вернуться. Пожалуйста. Я очень хочу, чтобы вы вернулись.
Сказав это, она перешла на другой конец стола и села там – на своё место, в кресло напротив меня. Совсем обычная. С умеренно блестящими глазами и, может быть, только чуть-чуть необычно раскрасневшимися щеками. Спокойная, как всегда, и держащая себя уверенно, как всегда. Готовая, если надо, к бою…
И вдруг я понял. Понимание пришло сразу и поразило меня, как будто огромный колокол ударил в груди, разметая в клочья никому не нужные внутренности…
Благословение. Вот что это было.
Я даже перестал ощущать боль. То, что случилось, было выше всякой боли. И выше целомудрия.
И кто-то ничтожный внутри меня сказал: вот за такое мы и прощаем им всё…
Чтобы отвлечься, я стал вертеть бокал с вином, наблюдая за красными переливами. Спокойный тёмно-красный, как залитая солнцем лоза; и мрачный тёмно-красный, как запёкшаяся кровь; и прозрачно-алый, для которого даже не подберёшь сравнения – нет в нашей обыденной жизни такого цвета; и почти чёрный… Враньё это – насчёт того, что «в бокале вина – целый мир». Ничего там нет, кроме красоты и смерти.
Потом я, кажется, заснул и во сне немедленно увидел Ольгу. Она была такая, как всегда. А на мне опять была военная форма, но не та, с андреевским крестом в пятиугольнике, которую я носил наяву, – нет, там на мне была всего лишь лёгкая кираса и поверх неё – белоснежный плащ с нашитым чёрным знаком… Я знал, что могу обнять Ольгу, но это ни к чему, потому что только отвлечёт мои мысли от чего-то другого… от чего – от другого? и, словно в ответ, на небе вдали, довольно низко что-то блеснуло; я пригляделся – это был шпиль замка, замка, названного именем нашего покровителя, святого Андрея… Всё замыкаюсь… Ольга начала удаляться, я уже не мог достать её рукой, но знал, что стоит позвать – и она вернётся, и не звал; знал, что вот-вот ляжет черта, делающая прикосновение невозможным, но не чувствовал по этому поводу ни малейшей горечи. Кажется, я так и не обнял её.
Там, во сне, это действительно не имело значения.
Проснувшись, я плакал. Не от обиды – при чём тут обида. Просто не помню, когда ещё мне было так легко.
– Небо на нашей стороне, – сказал голос Кости Семёнова. – Бомбить сегодня не будут.
Продрав глаза и обернувшись, я увидел, что Костя стоит около окна, штора которого отдёрнута. Это нарушало правила светомаскировки, но электричества всё ещё не было, а огонёк нашей свечи вряд ли смог бы навести на цель стратегические «летающие крепости». Хотя это и было бы забавно…
Взглянув на фосфоресцирующий циферблат, я увидел, что ещё только половина третьего ночи. Час Быка. За окном… Сначала я не понял, что за окном. Оно было как будто затянуто ровным серым одеялом. Потом я сообразил, что это просто облака.
– Я тут порылся в книгах, – сказал Костя. – Там в дальней комнате обнаружилась великолепная библиотека. Много старых книг – прошлого века, даже позапрошлого. Много поэзии: Новалис, Гельдерлин, Клейст… Вот у Клейста, оказывается, есть такая вещь – «Легенда об Уране». Не читал?
Я рассеянно мотаю головой, пытаясь окончательно проснуться. Откуда бедному латинисту так хорошо знать немецкую классику…
– Перед тем как заточить Урана в темницу, Хронос не только оскопил, но и ослепил его. С тех пор небо бесплодно и слепо. Видишь? – Семёнов показывает на окно. – Вот почему совершенно безнадёжное дело – обращаться по какому-либо поводу к небу. Так же, как и ждать чего-то от небес… А сам Уран теперь в подземной тюрьме. Причём не просто в подземной, а – «на таком расстоянии от поверхности Земли, как эта поверхность от небосвода». Представляешь, да? Его оттуда не выпустят, пока стоит мир. Он это знает – и всё равно бьётся, пытаясь расшатать стены. Расшатать, чтобы обрушить их – пусть даже на себя. Иногда от этого земная корка трескается и из глубины выплёскивает бурлящая лава. Она рвётся к небу…
Мы довольно долго молчим. Я кутаюсь в халат, пытаясь унять неожиданную дрожь.
– Как по-твоему – Михаил сегодня серьёзно всё это говорил?
– А что он говорил? – У Кости делается такой вид, словно он хочет спать. А может, и правда хочет – всё-таки поздно уже.
– Не валяй дурака, – отзываюсь я вяло. – Ты прекрасно всё понял.
Костя молчит, задумавшись. Что-то слишком долго длится это молчание…
– Да, я прекрасно его понял. Он предложил попроситься обратно на службу к тем хозяевам, против которых мы три года назад поклялись сражаться. Попытаться купить жизнь ценой нового предательства. – Живая половина Костиного лица искривляется в гримасе. – Очень литературно это звучит. Очень пошло. Я уже поэтому не могу согласиться.
– По-твоему, обещание сражаться за шведов звучит лучше?
– Да не знаю… – в его голосе проскальзывает досада. – Ну, во-первых, я просто не верю, что нам подарят жизнь. Насколько я знаю правителей Евроазиатского Союза, эти сволочи поступят так, как поступали всегда. Пообещают всё что угодно, а потом сделают, как захотят.
– Ну да. – Я совершенно неожиданно для самого себя начинаю злиться. На кого, интересно?… – Здешних-то в этом не упрекнёшь. Они у нас честные и прямолинейные. Паладины. У них слово с делом не расходится. Скажут, что какие-нибудь чернокожие им мешают – и уничтожат несколько миллионов.
Лицо Семёнова мгновенно делается безжизненным. Я ударил в больное место. Затронул тему, которая долго была под полузапретом. Мы отталкивали её, не позволяя своему рассудку собрать известные факты в законченную конструкцию. Потому что если эта конструкция сложилась, то жить по-прежнему уже нельзя. Невозможно.
Да, был такой правительственный указ о специальном статусе Шведского Конго. Эта страна очень богата всевозможными ресурсами. Стремясь её окончательно освоить, Имперский совет действовал предельно последовательно. Судя по всему, территорию Конго было решено полностью очистить, и сейчас гвардейский корпус «Африка» уже выполнил значительную часть этой задачи, уничтожив примерно три четверти местного населения. Даже теперь, когда под угрозой была сама метрополия, этот корпус не отзывали. Как сказал риксминистр экономики граф Мейерфельд: «…принципиальные соображения должны быть для нас выше личной безопасности».
Кстати, в других частях Африки имперцы такого не творили. То есть у них не было никаких предубеждений против негров как таковых. Конголезские банту просто оказались препятствием на пути идеального плана. А препятствие должно быть устранено. Вот и всё…
Совершенно бесполезны утешения – вроде того, что по другую сторону фронта сейчас творится почти то же самое. Там расстреливают дворян, священников, офицеров, отправляют в ссылку целые народы… Но это всё – там. А мы-то – здесь.
Мы – воины Империи.
Наследники Юлиана, Аэция, Велизария. Какая насмешка.
Иногда кажется, что само небо ухмыляется над нами, как рожа колоссального урода-клоуна. Прощальная улыбка Урана…
– Ты что-нибудь решил? – спрашиваю я без особой надежды.
Семёнов обречённо качает головой.
– Утро вечера мудренее. Давай-ка лучше спать. – Он неожиданно улыбается. – Спокойной ночи, господин поручик.
– Ага. И приятных сновидений…
Он опять легко улыбается.
– Нет. Этого я тебе желать не буду. Спи-ка лучше вообще без снов.
– А сам ты устроился?
Он кивает.
– Задёрнуть тебе шторы?
Мой ответ понятен без слов. Костя аккуратно, не оставив щёлки, закрывает шторы и, мягко ступая, удаляется. Он не обернулся, когда уходил, но мне почему-то всё кажется, что в воздухе ещё витает тень его растерянной улыбки…
Я подтягиваю к себе одеяло и гашу свечу. Удобно вытягиваюсь на кровати, чувствуя, как мои мысли выстраиваются вдоль этой кровати в волнистую линию: как хорошо, как тепло, и как хочется спать; и как здорово лежать в боковой комнате полупустой квартиры – в закоулке мира, где никто не знает обо мне, – и быть при этом всё-таки не в одиночестве; и как мне повезло, что у меня есть такой приют, и как ещё больше повезло, что у меня такие друзья; вот только что с ним делать, с таким везением?… Прекрасно, что в окне не видно неба, прекрасно, что вообще ничего не видно, – ведь иногда так хочется найти место, где можно содрать с мира покров света, ткнуться лицом в подушку, успокоиться в ласковом мягком мраке…
Покачай меня в колыбели, ночь.
2Итак, наше представление продолжается. Джаз может отдохнуть – антракт окончен. Господа, внимание на сцену! Возможно, некоторые из вас уже предугадывают развязку, и возможно также, что отдельные действия кажутся вам затянутыми более, чем предполагают обычные художественные каноны; но в обоих случаях виноваты не сценаристы, а проклятая природа вещей. Ах, какую великолепную пьесу мы бы могли поставить, если бы только режиссёру было разрешено творить мир не с середины, а с самого начала! Обещаю, что мы непременно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании художественного совета. Но пока – пока будьте снисходительны к нашей скромной труппе; а уж мы для вас постараемся! Так или иначе, вы уже заплатили деньги зато, чтобы побыть зрителями, и теперь, хотите вы или нет, но мы сделаем всё, чтобы развлекать вас до самого финала…
– Ну что, господа. Все, кого было возможно и необходимо видеть, вероятно, уже здесь…
Мы сидим в школьном актовом зале. Тяжёлые узорные занавеси на больших окнах, ряды одинаковых стульев с зелёной обивкой. Обстановка здесь напоминает какое-то карикатурное торжественное заседание. На низкой сцене сооружено подобие президиума – обычная парта с тремя стульями, на которые никто не садится. Полковник прохаживается по сцене взад-вперёд. Останавливается и оглядывает нас, сидящих полукругом.
– Прежде всего напоминаю господам офицерам, что это собрание носит… скажем так: не вполне открытый характер. При нынешнем состоянии систем власти Империи это извинительно. Мы были бы просто не в состоянии одинаково проинформировать всех, кто может заинтересоваться нашими проблемами…
По ряду слушателей пробегает лёгкое шевеление. Только шевеление, не более. Ясно, что в эту секунду все задают себе один и тот же вопрос: есть ли среди нас агенты ГТП? Почти без сомнений – да. Полковник это тоже великолепно понимает, из чего следует, что он уже махнул рукой почти на всё и сознательно выбрал игру на опережение. Информация, которую он нам сейчас выдаст, должна потерять значимость быстрее, чем агенты донесут её до своих сюзеренов и те успеют предметно отреагировать…
Между прочим, то, что Империя монолитна, – это вообще полная иллюзия. Так может считать только человек, никогда не видевший её изнутри. А любому, кто хоть чуть-чуть общался со здешней военной администрацией, ясно, например, что имперская армия – это одно, а имперский флот – это совершенно другое. А Гвардия – это совершенно третье. А ещё есть министерства внутренних дел и экономики, Консилиум протекторов, авиация… В общем, реально Империя – это набор из нескольких независимых организующих структур, каждая со своим руководством, со своими системами связи, со своими клерками и солдатами и, главное, – со своими интересами. Каковые интересы местами не пересекаются вовсе, а местами пересекаются в самых причудливых вариантах и комбинациях. Так что вместо мифической всеобъемлющей супербюрократии получается бардак бардаком, оркестр с тремя дирижёрами. Бюрократия же, которой здесь действительно хватает с избытком, значительно этот бардак усиливает. И иногда находятся умелые люди, которые всем этим творчески пользуются…
Вот только у нас таких умелых людей маловато.
Кажется, это ясно и полковнику – во всяком случае, в его взгляде сейчас явственно читается некоторый скепсис.
– Вы знаете, господа, что положение на фронте продолжает осложняться…
Ничего себе – осложняться. Противник уже перед обеими столицами: что называется, у ворот. И забавно, что он так упорно именует нас господами. Ведь он пятнадцать лет прослужил офицером в той самой армии, против которой сейчас сражается, – а там такие обращения, мягко говоря, не приняты…
– …Не стоит и напоминать, что в этой обстановке мы обязаны по-прежнему хранить твёрдость. Мы в любом случае должны показать, что умеем драться. Империя, которая доверила нам свою защиту… – Он делает паузу, подбирая слова. – Вы сами понимаете, какая это почётная задача – защита Империи. И ведь дело даже не в Империи. Защита цивилизации от варваров – вот чем мы сейчас занимаемся, если называть вещи своими именами. По крайней мере, это должно быть так.
В зале стоит тишина.
– Варвары – это наши противники с востока. Вы все знакомы с обстановкой на фронте – говоря точнее, на фронтах. Вы все понимаете, что если не произойдёт чуда, то через довольно краткое время под прямой угрозой окажутся главные имперские центры. И вы знаете, что нам с вами деваться некуда. Нам с вами лично и нашим подчинённым, о которых мы обязаны думать больше, чем о себе. Простите за риторику, – он устало улыбается. – Положение очень сложное – во всех смыслах этого слова. Потому я и собрал вас. Предстоящая нам оборона требует ряда срочных подготовительных мероприятий.
Вот она – ключевая ориентирующая реплика. Что ж, на что-то подобное мы и надеялись…
– Планом этих мероприятий владеют несколько штабных работников, каждому из которых поручено сформировать свою группу. Все руководители групп находятся здесь, в этом зале. Каждый из них может привлечь к своей задаче тех офицеров, которые ему, грубо говоря, понравятся, – без всяких кадровых ограничений. «Не по чинам, а по способностям», как пишут в таких случаях в приказах наши друзья шведы. – Он умолкает, видимо, проверяя, не забыл ли что-нибудь сказать. – Желаю удачи, коллеги.
Спасибо…
Люди расходятся как-то очень тихо. Видимо, почти каждому из них предписание уже было выдано заранее, а полковник сейчас просто озвучил общую установку – чтобы было понятно, чего именно ждать.
Меня самого майор Беляев из отдела контрразведки просил зайти в двенадцать часов – теперь ясно, зачем. Я смотрю на часы: до назначенного времени остаётся ещё минут двадцать…
Выйдя на крыльцо, я осматриваюсь – рядом никого нет. Знакомые мелькали в коридоре, но потерялись из виду. И слава Богу. Надо же наконец побыть одному. Я отхожу в сторону, под крону растущего в школьном дворе большого каштана, и лезу за портсигаром.
А между прочим, весна. Не то чтобы мы этого раньше не замечали – замечали, конечно. В минуты остановок оглядывались и говорили сами себе: да, весна. И шли сквозь неё дальше, как свет сквозь стекло.
Прозрачная весна.
Не было смысла смотреть в небо. Я перевёл взгляд вниз и от нечего делать поддал сапогом мокрую залежь прошлогодней листвы. Как всегда в такие вот перерывы, начали вспоминаться вчерашние разговоры. Но вспоминалось только внешнее – сцена со свечами, а содержание разговоров сейчас выглядело просто элементом декораций. Оно и к лучшему. Я начал осторожно перебирать впечатления вечера и ночи – слова, блики, силуэты – и всё-таки не уберёгся. Ольга… Вдруг включившийся образ полоснул, как острая сталь. Не смей, скотина, сказал я себе. Держись, иначе ты сейчас будешь ни на что не годен. Поздно. Нарыв прорвался, и содержимое хлынуло, заполняя меня тёмной, смешанной с кровью и болью, почти кипящей, бешеной нежностью. Как это, интересно, нежность может быть бешеной? А вот – может. Как буря. Ольга…
Где вы, слова? Слова не передают смысл, а искажают его – это банально, это известно всем; но бывают минуты, когда именно это воспринимается просто физически. Где вы, слова? И что такое смысл? Язык – это искажение. Слова – это язык. Но то, что мы в нашей примитивности называем смыслом, – это ведь тоже язык, только более низкого порядка; понять это иначе невозможно. И так далее. Значит, весь наш мир – это большая лестница искажений…
Опять слова. Слова порождают новые слова. Опять и опять, говорю я про себя с усталостью и горечью. Уйдите от меня, слова. Ну какое проклятие обрекло меня без конца вас произносить?…
А ведь есть ещё музыка. Раньше я думал, что знаю всего одно величайшее произведение, написанное, кстати, жителем близких отсюда мест, которое с космической силой выражает именно это: поток неудержимой нежности. Но даже эта вещь сейчас кажется пошлостью – в сравнении с тем, что…
Уйдите от меня, слова…
Я пытаюсь отбросить мысли, и звуки, и все символы. Сосредоточиться только на том, что грубый язык называет чувством. Только. Кажется, это сейчас важнее всего. Прозрачная весна, живущая своей жизнью снаружи, очень мешает – рассеивает, отвлекая меня от главного…
А главное только что было рядом – и ускользает.
Почему, интересно, такие прорывы чувств посещают меня обычно именно в моменты, когда объекта рядом нет? Уродство у меня такое, что ли? А может, и в этом есть какая-то непонятная мудрость?
Ведь вчера вечером я был вполне спокоен. Любовался тенями, пил вино, поддерживал бесполезный разговор. Держался на плаву, короче. И был уверен, что так и надо.
Кому надо?
…Я смотрю со сцены в зал – там сидят персонажи, хорошо знакомые по классическим книжкам. Боги. Красивое уверенное лицо Аполлона; покровительственное, чуть брезгливое спокойствие Зевса; широко раскрытые глаза Афродиты; скептическая ухмылочка Пана…
А мы играем. Ведь для актёра вопрос чести – довести спектакль до конца.
Наверное, бывают люди достаточно сильные, и смелые, и главное – достаточно добрые, чтобы нарушить правила, придуманные зрителями этого проклятого древнего цирка. Отринуть честь.
Но мы были дисциплинированны и упорны. Мы оба играли свои роли. И вышло то, что вышло.
Твердь воистину тверда…
Стайка голубей прошла в небе, меняя по пути свою форму. Живая метафора души. Не потому, что изменчива, а потому, что по составу своему проста и конечна. Хотя и жива. Но ведь живая – это и есть бесконечно сложная… И всё-таки враньё, что душа – это бездна. Это просто несколько маленьких птичек.
Интересно, что бывает, когда из клетки вылетит последняя?
На минуту кажется, что это уже случилось. Что внутри не осталось ничего, кроме пустоты и прохлады. К сожалению, так только кажется. Я знаю, что это пройдёт и даже длиться будет не очень долго.
Ольга… Ну что, считаем, что всё нормально? Когда всё равно ничего не изменить, надо считать, что всё нормально. Изощрён человеческий разум, слов нет, как изощрён и изобретателен. Легко и почти бессознательно выстраивает защиту вокруг чего угодно. Какие идиоты могли считать, что «разум – это светильник, который не указывает направление, но хотя бы освещает дорогу»? Светильник, да, – для того самого пьяницы, который ищет потерянный ключ под фонарем. Иногда Разум видится мне как мелкий слуга, всегда готовый принять и поддержать любое, самое подлое решение своего господина…
А всё-таки: мог ли я что-нибудь сделать иначе? Конечно, бесполезно так себя проверять. Если что-то возможно сделать, то это просто делается. А если я совершил какие-то ошибки, то узнаю об этом… ну, разве что в другой жизни.
Почему всё так сложно? Неужели я сам устраиваю себе эту сложность? Сам устраиваю, а потом без неё уже не могу. Это – как рост. Какой, скажите, смысл дереву горевать, что оно не может снова стать семенем или саженцем? Хотя это и некомфортно…
Или у меня всё-таки были шансы?…
Я смотрю на часы: без двух минут двенадцать. Пора возвращаться в здание. К привычным и уютным военным делам.
– Заходите, поручик, садитесь. – Майор сидит в пустом классе за учительским столом. Нам позволили занять школу, потому что занятий в ней сейчас быть всё равно не может – какие занятия, когда город на осадном положении. Я сажусь за первую парту. Учитель и прилежный ученик. Смешно.
Впрочем, мои отношения с майором Беляевым в самом деле немного похожи на те, которые могут в удачных случаях сложиться между учителем и учеником. За последние два года нам с ним не раз приходилось сталкиваться в довольно экзотичных сюжетах, когда опыт Беляева – как-никак в прошлом офицера Особого отдела самого напряжённого, Ингерманландского, военного округа – был для такого дилетанта, как я, совершенно бесценен. И я действительно многому от него научился. Майор тоже, разумеется, обо всём этом помнит – и потому начинает разговор прямо. Вернее, он начал бы прямо, но именно сейчас он, похоже, действительно не знает, как именно начать.
– Догадываешься, о чём пойдёт речь?
– Что-то не по программе вопрос, господин начальник. – Я устраиваюсь на стуле поудобнее и вытягиваю под партой ноги. – Кажется, вы спутали амплуа. Если есть приказ – отдавайте…
– Есть приказ, – заверяет меня Беляев. Моя наглость, кажется, таки помогла ему нащупать зыбкую опору для продолжения беседы. – Только прежде, чем я его оглашу, у меня к тебе будет несколько вопросов.
Я изображаю внимание.
– Ты служил в Рагузе?
– Служил. Хотя это сильно сказано. Мы там три месяца проболтались почти без дела…
– А то, что ты там стал доверенным лицом командующего группой армий, – это тоже сильно сказано?
– Это просто чушь. Ну, беседовали мы с ним пару раз. О войне и о литературе. И всё.
– А зачем ему это было нужно?
– Ему-то? Думаю, просто для развлечения. Заглянуть на досуге в загадочную гиперборейскую душу…
Я ненадолго ухожу в себя, вспоминая Рагузу – приморский городок, в который меня занесло на пятом году войны. Особого смысла пребывание там не имело; просто это был период, когда имперское командование в очередной раз перестало понимать, зачем мы всё-таки ему нужны, и стало потихоньку рассредоточивать наши части, затыкая нами все дыры. Рагуза как раз и была одной из таких дыр: спокойный провинциальный гарнизон. Там даже на улицах почти не стреляли. И мне запомнилась не служба, а именно сам город. Он был странный. Так мог бы выглядеть обычный германский или датский городок во сне ребёнка, знающего Европу только по сказкам Андерсена. Город на склоне горного хребта: сплошное скопление островерхих черепичных крыш, причудливых шпилей, маленьких куполов, тонких башенок и кирпичных террас, уступами сбегающих к морю… Так он выглядел чуть издали. А внутри он вполне отвечал портрету среднеевропейского города, только с мелкими несуразностями: как будто ход лучей в окне чуть-чуть искривился, сохранив для тебя картину, но исказив углы и оттенки. Посреди правильных бюргерских домов с крашеными ставнями и водостоками – вдруг мечеть. На подходе к площади ратуши широкая булыжная улица перегорожена тяжёлой цепью: по традиции, никакие экипажи сюда не допускаются. Сама площадь – вполне обычный квадрат брусчатки, окружённый домами с галереями, только эти дома непривычно далеко: площадь огромна, как поле. И холодный ветер с Адриатики… Этот ветер у меня с тех пор странным образом ассоциируется с понятием свободы. Может, просто от того, что у меня там было много пустого времени – службой-то нас загружали мало, порт почти не работал. А может, потому, что я немного знал историю этих мест. Пятьсот лет назад Рагуза была классической торговой республикой, «давно пустившей все свои леса на корабли». В тяжкие дни Балканского полуострова она сумела с помощью сложнейших экономико-дипломатических интриг сохранить фактическую независимость и, как следствие, оказалась универсальным убежищем, в котором находили приют любые эмигранты – от князей и философов из разбитых столиц до спускавшихся в буквальном смысле с гор албанских разбойников. Приветливее, конечно, встречали тех пришельцев, у кого водились деньги, – здешние нобили всегда были весьма прагматичны, – но не прогоняли никого. В результате Рагуза, сохранившая к тому же в качестве государственного языка латынь, на два столетия превратилась в культурный центр, сравнимый по славе с Флоренцией, Болоньей и Веной. Известность здешних поэтов, математиков, богословов разошлась на весь континент. Рагузский сенат всё это время продолжал держать внешнюю оборону, делая возможное и невозможное, а при необходимости просто покупая вооружённую силу у окрестных мелких деспотов; практиковался и такой метод, как прямое назначение за головы врагов города широко объявленных премий. Кончилось это только после захвата турками Константинополя, когда возможностей для политических манёвров больше не осталось. Я ничего не понимаю в социологии, и, может быть как раз поэтому, меня иногда посещает дурацкая мысль: если какое-то оптимальное общественное устройство вообще возможно, то его символ – именно вот такой вольный город. Разумеется, ничего никому не даётся даром, и островки будущего всегда расплачиваются за свои успехи более или менее тяжёлыми локальными прорывами прошлого: в Рагузе, например, был необычайно сильно для средневековой Европы развит институт рабства. И всё же… Всё же там было что-то особое, чего уже нельзя испытать на нынешнем Западе. Что-то от того города, который – единственный в мире. Который – Город.