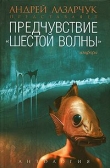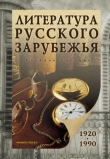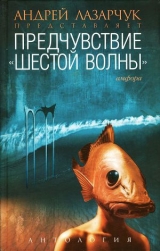
Текст книги "Предчувствие: Антология «шестой волны»"
Автор книги: Андрей Лазарчук
Соавторы: Дмитрий Колодан,Карина Шаинян,Азамат Козаев,Иван Наумов,Николай Желунов,Ирина Бахтина,Дмитрий Захаров,Сергей Ястребов,Юрий Гордиенко,Александр Резов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц)
Конечно, Рагуза – слабая метафора для столицы мира. Но ведь и всё без исключения, всё, что мы любим, – это, наверное, всего лишь метафора. Знак нашей судьбы, воздух наших дней, шум нашей бегущей крови, вечный наш спутник – Город…
Я ведь потому и пошёл в своё время в классическую филологию, что меня заворожила история о Городе. О Городе, который равен миру, к которому относишься, как к возлюбленной, с которым боишься расстаться. Разумеется, на самом деле там всё выглядело гораздо сложнее, чем можно вообразить, прочитав в переводе две-три главы из Цицерона, Боэция или Плутарха. Но в общем – да, так оно и было.
А увлечение классической филологией, в свою очередь, как раз и свело меня с фельдмаршалом Линдбергом.
Произошло это случайно. Фельдмаршал, командующий резервной – тогда ещё резервной! – группой армий «Паннония», объезжал с инспекцией периферийные гарнизоны. В Рагузе его штабу отвели квартиру в помещении бывшей духовной академии. Типичное здание, предназначенное не для жизни. Высоченные облупленные потолки, странные арки между секциями коридора, узкие комнаты, похожие на кельи. Но в том же здании была очень неплохая старинная библиотека, в которую кое-кто из офицеров, разумеется, полез и сразу обнаружил там массу интересных вещей – например, редчайшее, отпечатанное в Турине в конце XVI века, издание Тацита. Поскольку все знали, что фельдмаршал ещё со времён гимназии отличается любовью к античной литературе, это издание было немедленно отнесено к нему на стол. Перелистывая книгу на сон грядущий, фельдмаршал застрял на одном месте, где были, как ему показалось, непонятные разночтения. Свидетелем разговора на эту тему я случайно и оказался.
Впрочем, не так уж случайно: в том, что на караулах стояли именно солдаты нашего отряда, как раз заключалась некоторая идея. Главные командования всех стран мира часто использовали эту идущую со времён августов традицию: поручать ближнюю охрану не своим, а чужим – бывшим пленникам, перебежчикам, предателям, ренегатам, янычарам… В общем, людям, у которых оказалась разорвана большая часть связей с внешним миром – и которые именно поэтому надёжнее любых элитных коронных частей. Даже на самом пике войны, роковой зимой тридцать седьмого года, охрану штаба группы армий «Азия» нёс не кто-нибудь, а терские казаки. Надо сказать, что и в ходе той зимней битвы, и особенно после её конца казаки воевали прекрасно и умирали старательно, регулярно демонстрируя идиотские чудеса вроде атак степной кавалерии на танки. Им теперь действительно было на всё наплевать.
Но я опять отвлёкся… Так вот, услышав, как один из бездельничающих в данную минуту штабных офицеров пытается выдать по памяти латинскую цитату, я не удержатся и произнёс вслух правильный перевод. Офицер, разумеется, посмотрел на меня с огромным изумлением. Но мне тогда уже тоже было на всё наплевать, и я просто-напросто отрекомендовался: подпоручик такой-то, бывший магистр классической словесности. Если вам нужно разобраться в Таците – могу помочь.
Вот так меня и представили командующему группой армий. Беляев эту историю в общих чертах уже знал, поэтому особых вопросов у него возникнуть не могло. Или разведку заинтересовали какие-то подробности о фельдмаршале? Но – зачем? Какое нам сейчас до него дело?
Беляев между тем старательно состроил задумчивую мину.
– Видишь ли, – сказал он, – не исключено, что ваше общение было гораздо более серьёзным, чем ты думаешь. Вспомни, в какое время это происходило…
Я помнил. Моё знакомство с фельдмаршалом состоялось весной, а через полтора месяца – тоже весной, но поздней – случилось покушение на риксканцлера: знаменитый взрыв бомбы на совещании в Ставке. После чего ГТП исполнило свою давнюю мечту и прошлось по армии частым кровавым гребнем. Следствие было свирепое; дошло до того, что специально для замешанных в заговоре военных имперские юристы восстановили старые способы казни – по слухам, некоторые генералы были в Эльсинорской крепости натурально колесованы. Линдберг тогда уцелел, и я считал, что уж он-то к событиям непричастен. Хотя, конечно, разговоры с ним могли бы навести и на иные мысли – но что такое разговоры?…
– По-моему, вы порете какую-то ересь, – сказал я честно. – Был или не был Линдберг связан с заговором – какое это сейчас имеет значение?
– Такое, что мне интересна структура его личности. И не смотри на меня, как на идиота. Ты когда-нибудь слышал, что при чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры?
Видимо, у меня был действительно очень глупый вид, когда я хлопал глазами, пытаясь осмыслить это заявление. Беляев вздохнул и ничего пока не стал говорить, а просто развернул карту.
– Смотри. Вот расстановка фигур. Вдоль Ботнического залива сейчас идёт сильный прорыв, закрыть который уже ничем не удастся. Это означает, что падение столицы – теперь только вопрос времени. И только пока это время не истекло, у нас ещё сохраняется какое-то пространство для манёвра. Здесь единственно возможная предпосылка – то, что к югу от Польши позиционный фронт, как видишь, пока никто не штурмует. Видимо, они считают, что после того, как столица будет взята, все периферийные группы сдадутся сами. Правильно считают, заметим. Но нам это даёт последний шанс. Очень быстро поставить вот здесь, – он провёл карандашом по карте чуть южнее того места, где мы сейчас находились, – заслон, направленный на восток. Сколотить импровизированное соединение по типу нашей старой Добровольческой армии, включив туда всех, кому некуда деваться: чехов, хорватов, австрийцев… нашу Первую дивизию, если её успеют вывести из Саксонии… Ну, как раз это, слава Богу, не наше с тобой дело. Наша задача – обеспечить позиции для этого самого заслона.
Он перевёл дух.
– Устойчивые континентальные участки фронта сейчас заняты двумя группами армий. Группа «Сарматия» Реншельда, с которым любые переговоры бесполезны – это мы уже выяснили. – Тут Беляев сморщился, и я порадовался, что не знаю подробностей «выяснения». – И группа «Паннония» Линдберга. Линдберг сочувствует нашему движению. Но связи с ним у нас нет.
– А хоть бы и была… – Я внезапно почувствовал, что пол комнаты словно уплывает и меня против воли уносит в какой-то иной пласт реальности – в страну, где бывают чудеса, где небо другого цвета, где, быть может, даже эта война кончается как-то по-другому… – Если честно, я просто не понимаю, зачем всё это.
– Если честно, я тоже, – сказал Беляев. – Но что ты ещё предложишь? Раскол между союзниками, на который надеется высшее начальство, – это бред, конечно. Хотя – чем чёрт не шутит. А вдруг наша армия как раз и окажется тем клинышком, от которого пойдёт разлом? Конечно, это уже надежда на чудо, но бывают ситуации, когда надеяться на чудеса просто необходимо… И во всяком случае, мы можем хотя бы удержать оборону на востоке, чтобы те, кому надо эвакуироваться, успели оказаться в зоне оккупации американцев, а не попали под «паровой каток»,… В общем, не будем обсуждать, реальны такие планы или нет, потому что это всё равно единственное, что мы ещё можем сделать. Иначе, я думаю, нам всем лучше сразу умереть.
Он умолк.
– Ты хочешь, чтобы я полетел к фельдмаршалу и договорился с ним?
– Да. Я понимаю, что это дико звучит, но это – шанс. Пусть маленький, но нам сейчас выбирать не приходится. А то, что у тебя такое низкое звание, – это даже хорошо.
– Больше шансов проскочить незамеченным сквозь кордоны…
– Соображаешь, академик… – Теперь, когда главное было сказано, Беляев явно чуть-чуть расслабился. Но только на мгновение. Потому что умственную нагрузку, связанную с техникой вербовочного разговора (а что ещё это было?), тут же сменила нагрузка совсем другая – гораздо более тяжёлая. Он даже вдруг как-то постарел.
– Ладно, теперь о подробностях. Ты поедешь на бронепоезде…
– На чём?!
– На бронепоезде «Фафнир». Нас связывает с Сплитом рокадная дорога – очень удобно. Спрашиваешь, почему не на самолёте? Отвечаю: потому что реактивный самолёт нам не достать, а отправлять тебя на обычном транспортнике я не рискую. Сам знаешь, что сейчас творится в воздухе. К тому же поезд безопаснее ещё и в другом смысле – перемещения по воздуху исключительно легко контролировать…
В этом месте монолог майора был прерван стуком в дверь, и вошёл седой мужчина в штатском костюме. Первый штатский человек, которого я увидел сегодня в здании, – именно это сбило мой взгляд, так что я не сразу сообразил, где и когда я его встречал раньше. Прошлый август, конгресс соотечественников в Праге. Виктор Евгеньевич Лукашевич, кадровый гвардеец, кавалер ордена Белого орла, в гражданскую войну – командир дивизии в Забайкальской армии адмирала Тимковского, а потом – самый обычный эмигрант, двадцать лет перебивавшийся случайными заработками в Шанхае, Будапеште и той же Праге. А вот теперь – с нами. Правда, форму заново надевать не стал и присягу на верность Империи не принёс, отговорившись возрастом. Осколок Белой гвардии. Я почти непроизвольно встал по стойке «смирно».
Майор тоже встал.
– Познакомьтесь, господа. Это поручик Рославлев. А это…
Я прерываю его:
– С господином полковником я уже знаком.
– Садитесь, Андрей Петрович, – Лукашевич подаёт мне руку и усаживается сам. Рукопожатие у него не то чтобы очень сильное, но какое-то надёжное: мощная пергаментная лапа. – Я вас тоже помню. И по Праге, и по сводкам. – Он поворачивается к майору. – Как я понимаю, речь у вас сейчас шла…
– О плане «Эней». Я уже почти всё рассказал.
– Да-да… – Лукашевич на секунду задумывается. – Вы извините, что я… Ну, словом, в оперативные дела я лезть не буду. Просто хочется дать поручику небольшое – как бы сказать – напутствие. Разрешите?
Беляев кивает, но гость уже не смотрит на него. Кажется, он вообще ни на кого не смотрит. Он сидит прямо передо мной, подперев ладонью щёку, и я вдруг невольно думаю, что он очень красив. Это странно, потому что приметы старости его отнюдь не миновали. Просто бывает такое: человек, в котором вроде бы нет ничего особенного, ненадолго отвлекается, или задумывается, или Бог его знает что, – и вдруг всё меняется. Как витраж, на который падает солнечный луч, и тогда ты видишь, какой он на самом деле. Есть люди, которые умеют оставаться такими почти всегда, – их имена мы знаем из истории. Но большинство не удерживается и теряет себя: луч уходит – и снова серые стёкла и серые рамы… Глядя в ту минуту на Виктора Евгеньевича, я узнал о своей стране и о войне больше, чем до этого – из всех рассказов, и из всего прочитанного, и из всего моего собственного военного опыта. Так не было, но так должно было быть – а значит, в каком-то смысле и было. И даже наше поражение в каком-то смысле было победой. Белая лилия, вышитая на флаге, – знак триединого Бога.
– Вы только не думайте, что я собираюсь делиться с вами своим опытом, – сказал наконец Лукашевич. – Времена меняются, и всё, что было когда-то ценным опытом для меня, теперь ничего не стоит. Более того, старый опыт начинает мешать. Вот это и есть главное, что я хотел вам сказать, Андрей Петрович. Времена меняются. Я старый человек, и я прожил жизнь, в которой мне, как ни странно, почти не за что себя упрекнуть. Это довольно дорого мне обошлось, но зато я, кажется, теперь заслужил такое смешное право: давать советы. Будете слушать?
Я киваю. Я пока не понимаю, к чему клонит старик, но внутри уже появляется знакомое чувство, похожее на проникшую в тёплую комнату струйку ледяного сквозняка из щели в оконном переплёте. Вот сейчас скрипнут петли, и мне откроется новая сторона мира. Что-то ещё, чего я не знал и не предвидел…
– Когда мы воевали под знамёнами с надписью «Победа или смерть», мы действительно были готовы отдать жизнь ради победы. И сейчас мы готовы отдать всё что угодно, чтобы спасти хотя бы то, что ещё можно спасти. Но наша жизнь изменчива; если хотите, перемены – это единственное, что в ней вечно… И ещё есть наши принципы. Которые надо принимать буквально. Вы – солдат. Даже если вы отдадите свою жизнь, у вас останется честь. Но колесо перемен крутится, и может настать момент, когда ради вашей цели вам придётся пожертвовать действительно всем – то есть и честью тоже.
Он замолкает, давая мне время осознать сказанное. Его лицо по-прежнему прозрачно и красиво, только сейчас кажется, что ему не семьдесят лет, а сто или сто двадцать. Как жителю богадельни, уже забывшему собственное имя. Как Аврааму на горе Мория.
– Сейчас всё настолько перепуталось, что я не знаю, перед какими выборами вам предстоит оказаться, и не могу дать никаких конкретных советов. Кроме одного: будьте готовы ко всему. Мы с вами – Белая гвардия. Белая, понимаете? Спасать в этом мире то, что ещё можно спасти, – это наша, если хотите, святая миссия. Ради неё можно пожертвовать всем. Действительно всем. Вот что я хотел вам сказать, Андрей Петрович. Господин поручик. Действуйте, и удачи вам.
Когда дверь за Лукашевичем закрылась, Беляев встряхнулся и сказал:
– Ну так. Детали обсудим позже, потому что уезжаешь ты ночью, а до ночи мы ещё увидимся. Но, как видишь, дел у нас много, а надёжных людей мало. Так что перед отправкой на юг тебе будет ещё одно задание – так сказать, текущее…
– …И довести сведения об обстановке – так они выразились. Обтекаемо. Подробностей рассказать, извини, не могу.
Подпоручик Семёнов раскуривает сигарету, старательно прикрывая её ладонью, чтобы не затушило ветром. Его лицо при этом искривляется сильнее обычного.
– А кто с тобой разговаривал – сказать можешь?
– Майор Беляев. А потом пришёл полковник Лукашевич. Знаешь – старый эмигрант.
– А-а. Наш Нестор…
Я не сразу понимаю, что он имеет в виду.
– Мне он не показался похожим на Нестора. Он никакой не дипломат. Просто солдат. Так и не научившийся быть никем другим.
Костя отделывается какой-то неопределённой гримасой. Спорить он не хочет. Там посмотрим.
Разговор продолжается не сразу. Мы уже зашли довольно далеко в парк. Асфальта под ногами не видно, потому что осеннюю листву в этом году даже с дорог никто не убирал. А мы идём по липовой аллее – ещё не тенистой. Хотя почки на деревьях уже лопнули.
Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков…
– Интересно, а мы-то кто – ахейцы или троянцы?
Я задаю этот вопрос просто так. Чтобы заполнить тишину. Тишину, которая вдруг стала невыносимо пронзительной. Выгибающей землю и разрывающей барабанные перепонки, как вакуум. Огромная сила – пустота. Сильнее материи с её ничтожными атомами, сильнее жизни с её глупыми законами. Сильнее всего на свете. Титан по имени Пустота выигрывает в любом поединке, потому что он старше нас и его козыри – старше.
«Быть может, прежде губ уже родился шёпот…» [1]1
Ф. Тютчев.
[Закрыть]На этот раз я хочу произнести вас, слова. Я хочу нарушить вами тишину, чтобы превратить её во что-то постижимое разумом.
А может, наоборот – чтобы добавить к тишине нотку безумия.
– Ахейцы или троянцы?…
– Не знаю… Ты, наверное, ахеец. Хотя… – Костя, похоже, всерьёз задумывается. – Это как карты лягут. Да что там, пойди в любую контору или казарму – ну, где народу много – и посмотри, сколько ты их там найдёшь. Агамемнонов, Аяксов, Гекторов…
– А Одиссеев?
Константин высоко поднимает бровь.
– Тебе сказать?
Мы молчим, но я вдруг с противоестественной чёткостью начинаю видеть перед собой образ поручика Маевского. Как он сидит боком к столу, крутя воображаемый аксельбант, и умудряется почти всё время сохранять на лице неопределённо-значительное выражение – словно у какого-нибудь вшивого имперского посланника… Хитроумный. То есть просто очень умный. И очень смелый – не отнять. Только вот неясно, чему служит эта его смелость. А впрочем, чему служим мы все? Есть ли в нашей армии хоть один человек, способный ответить на этот вопрос сколько-нибудь чётко – в цензурных, разумеется, выражениях? Очень сомнительно… И всё-таки Михаил – немного особый случай даже на таком фоне. Я знаю его с перерывами больше двух лет – на войне это много; но я так и не понял, ради чего он воюет. Я видел его в деле, и нет, пожалуй, другого человека, которому бы я настолько доверял – как надёжнейшей из опор, как другу, который никогда не бросит меня ни в бою, ни в беде. И это – несмотря на абсолютную уверенность в том, что при необходимости… при том, что он сочтёт необходимостью – он может совершить ещё одно предательство, не раздумывая. То есть не то чтобы не раздумывая – думает-то он всегда, на то он и Хитроумный… – но совершенно над этим не рефлексируя. Странно. Мне, например, тоже скоро предстоит нарушить присягу, но я это по крайней мере чётко осознаю, и все мои дальнейшие выборы будут проходить на фоне этого осознания. А для Михаила присяга, похоже, просто не существует…
– …Для него присяга не существует, – говорит Костя, и я соображаю, что он уже давно говорит – просто часть монолога я пропустил.
Я произношу вслух то, что думаю:
– Вроде бы – катастрофа, а мы тут занимаемся непонятно чем. Гуляем по парку, цитируем «Илиаду»…
– Можно подумать, ты этим удивлён… – ворчит он, охотно меняя тему. – С тобой ведь такое закономерно. Я не знаю, как у тебя так получается, что ты никаких некрасивых сторон жизни не замечаешь. Или они вокруг тебя фильтруются. У тебя вообще странные отношения со временем. Смотришь на тебя иной раз и просто радуешься: какое милое дитя! А потом спохватываешься, что дитю-то уже под тридцать…
– Ты откровенен.
– Извини… – Он на миг замолкает. – Извини. Просто у меня было чувство, что именно сейчас мы можем говорить друг другу почти всё.
Мне становится неловко.
– Это ты извини. Так оно лучше – когда всё… – Повисает пауза. – А между прочим, про «Илиаду» первым заговорил ты.
– А это потому, что я с тобой. Ты же у нас любитель литературы и высоких материй… – Он вдруг усмехнулся как-то по-волчьи. – Уж если про «Илиаду» – знаешь, на кого из её героев ты похож? На Менелая. Такой же придурок. Влюбился в обычную стерву – а точнее, в стерву и блядь в одном лице. И потратил на неё всю жизнь. Ах, идеал, видите ли, нашёл. А главное – ладно бы он только себе из-за неё судьбу искалечил; так он же ещё вовлёк в это дерьмо огромную кучу народу! Вот так всегда с вами – с идеалистами. Почему-то ваши проблемы всегда очень дорого обходятся окружающим…
Я чувствую, что мне не хватает воздуха. Ничего страшного, это просто сердце даёт сбой.
– Костя. – Я останавливаюсь. – Ты понимаешь, что ты сейчас уже наговорил на две дуэли?
Он опять оскаливается. На асимметричном лице это выглядит жутко.
– Давай. Хочешь – прямо здесь?
Он не шутит. Сколько я его знаю, он никогда в подобных ситуациях не шутил. Я могу сейчас сказать: «Да», – и тогда мы оба достанем пистолеты, разойдёмся на положенное число шагов и одновременно выстрелим, и один из нас останется лежать в этом парке, распластавшись по мягкому влажному ковру из сгнившей листвы. А может быть, останемся оба.
– Нет, – говорю я. – Ты что – решил, что нам уже нечего терять?
– Совсем наоборот. Я пришёл к выводу, что нам как раз есть что терять, хотя это и неочевидно… Пойдём сядем, – неожиданно предлагает он.
Я оглядываюсь и вижу облепленную чёрными листьями парковую скамейку. Добротная дубовая конструкция, надёжная, как пристань, потемневшая от дождей и от времени, изрезанная перочинными ножиками многих поколений буршей…
– Так какие у тебя планы? – Костя задаёт этот простой вопрос, и его лицо опять меняется, становясь очень серьёзным. Я бы даже сказал – отрешённым.
Я пожимаю плечами.
– Да какие тут планы… Действовать по обстоятельствам… Вот и всё.
Семёнов кивает, словно он ничего другого и не ожидал.
– Ну, а у тебя?
Он долго не отвечает. Он о чём-то думает, и по ходу размышлений с него зримо сваливается некая тяжесть. Так что он даже делается опять похож на самого себя. На мальчишку-поэта.
– Помнишь, о чём мы говорили ночью?
– Но сегодня в школе, кажется, мы уже говорили о чём-то другом… Так что ты выбрал?
– Ни то, ни другое, – отрезает он, словно шпагой. – Ты, наверное, уже понял. Меня послали на позиции – и я поеду. Но возвращаться не буду. Примкну к какому-нибудь отряду и постараюсь сделать всё, чтобы он устоял до конца. Пока есть приказ.
– Чей приказ?
– Тех, кому мы присягали… Мы уже изменили один раз, дав эту присягу. Теперь готовимся изменить во второй раз, а может быть, и в третий. Я уже говорил, что это очень литературно: предательство тянет за собой новые предательства. С этим надо кончать. Поставить точку хоть где-нибудь. Потому что надо же как-то оборвать череду измен. И если не сейчас, то когда?
Я не знаю, что ему сказать. Нет, неправда: как раз знаю. Что чем дольше мы будем сопротивляться, тем больше людей погибнет зря. Что бывают ситуации, когда предательство необходимо, а хранить верность – преступно. Когда нужно совершить предательство, чтобы сохранить честь. Когда, наконец, сама честь обращается в символ предательства. Ты устал от бесконечных измен – а от бесконечных смертей ты не устал? Опомнись!..
Я уже готов всё это произнести, но в последний момент у меня перехватывает горло.
Я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты прав в каком-то высшем смысле, но по-настоящему ты не прав. А может, наоборот. Дело в том, что ты сознательно задумал невозможное. Потому что череду измен можно оборвать только вместе с жизнью.
Значит, вся наша жизнь – это бесконечно разрастающаяся цепочка измен?… А впрочем, так и есть. Становясь юношей, ты предаёшь детство. Влюбляясь в очередной раз, предаёшь всех предыдущих возлюбленных. И так далее. Он так устроен – наш мир. Ведь, в конце концов, даже весна – это предательство зимы. Мы можем или примириться с этим устройством, или взбунтоваться, чтобы попытаться его изменить.
Последнее – безнадёжно.
Но ведь как раз абсолютно безнадёжные мятежи – это едва ли не самое красивое, что только есть в истории.
Самый первый из таких безнадёжных мятежей – это, разумеется, война титанов против богов. Как они шли в свой отчаянный бой – эти древние варианты миропорядка, неудачные пробы эволюции, уроды и калеки, от которых каждый нормальный человек и каждый современный бог отшатнулся бы с отвращением; но сила у них ещё осталась, и они атаковали всей этой силой, понимая, что на самом деле всё зря, что ничего изменить уже невозможно… но ведь нельзя же так… что Они с нами сделали?! вы, осуждающие нас, посмотрите – что Они с нами сделали!! неужели такое можно простить?., и бешеная слепая ярость вырывалась из глубин, как магма; и бой против такой гвардии был страшнее всех земных боёв, вместе взятых; но Мысль не остановить даже горячкой безумного сражения, и она у каждого пробегала тенью – предательская мысль: хуже всего, если мы победим…
Вот если из тюрьмы вырвется наш безумный отец Уран – тогда-то и начнётся самое страшное.
Нам, солдатам Империи, в этом смысле легче. Нас в бою будет согревать хотя бы то, что победа невозможна.
Кстати: а что такое Империя? В переводе на мифологический язык, который, между прочим, сам по себе ничем не хуже научного, Империя – это структура, апеллирующая к чрезвычайно древним силам. Более древним, чем управляющие современным миром олимпийцы. Значит, все неправдоподобно кошмарные черты жизненного уклада Империи – это просто очень последовательный вариант всё того же мятежа против богов. Всё та же лава, рвущаяся к небу.
Иногда я пугаюсь собственных мыслей. Думаешь, думаешь – и выдумываешь порох…
Но у мысли есть тот недостаток, что её нельзя остановить на полпути. Бесполезно. Проще додумать до конца. Например: все красивые и страшные безнадёжные мятежи, описанные в истории, относятся к одному роду событий. Мятеж Брута против Цезаря и мятеж Империи против Европы суть одно: вызов, брошенный Мирозданию. Разница только в том, что в разных случаях погибает разное количество людей.
Если я против таких действий – то уж надо быть против. А если я их одобряю, то следует быть, чёрт побери, хотя бы последовательным.
Но тогда какое я имею право осуждать человека, решившего до конца защищать Империю? При такой постановке вопросов сами понятия «можно» и «нельзя» теряют смысл… – и, мысленно это выговорив, я с настоящим ужасом одёргиваю себя: не смей! не смей так думать! ты сошёл с ума! ты понимаешь, до чего так можно докатиться?!.
А единственная альтернатива – это измена и сдача. Череда измен и сдач, в просторечии именуемая жизнью.
Круг замкнулся.
Я не знаю, что сказать.
Костя откашливается.
– Я понимаю, что моё решение – это глупость и идиотизм. Более того…
Он не успевает договорить. От ограды парка доносится треск мотоциклетки и крик:
– Рославлев! Поручик! Поехали!
Ну вот и всё, и очередной разговор оборвётся незавершённым. Начала и концы, господа. Начала и концы. И вот подпоручик Семёнов остаётся у меня за спиной, всё дальше и дальше позади, по-прежнему сидящий на скамейке и погружённый в свои мысли, а может быть – наоборот, уже всё решивший, – ему сейчас легко… – а я почти бегу туда, к улице, не ища дороги, разводя на ходу руками мокрые чёрные ветки, – просто потому, что пора.
Кажется, мы даже не простились.
…Одиссей, сказал я. Ты не знаешь, зачем всё-таки это было нужно? Понимаю, что смешно такое спрашивать – при том, что войну-то вроде бы начал именно я. И именно я больше всех не понимаю – зачем. Мы воюем десять лет, война уже давно стала для нас нормальным состоянием. Я прекрасно помню все свои поступки. Когда Елена ушла на троянском корабле, я просто-напросто сделал то, чего не мог не сделать. Но почему-то от этого загадок становится только больше…
Ну что ты, Менелай, сказал Одиссей. Всё очень просто: молодая империя стремится переделать мир. Это как динамика кристаллических фаз. Не было бы твоей Елены – наследники Атрея прекрасно нашли бы другой повод двинуть войска в Ионию. С Трои-то в любом случае надо было начинать, она – стратегический ключ. Транспортный узел, нависающий с фланга. А уж где всё закончится…
…Швеция опоздала к разделу колоний. Всё закончится в Южной Африке, где зулусы генерала Врангеля до сих пор держат оборону против пижонистых мальчиков в мундирах цвета хаки. А может, всё закончится на просторах России. Или в каменистой пустыне Синая, куда всё-таки добредёт армия Агамемнона, чтобы рассыпаться под ударами фараона. Или в том же Эгейском море. Впрочем, юг или север – какая разница? Когда английский десант высаживался в Зеландии, его встретили пулемётами; те, кто выжил, говорят, что балтийская вода была малиновая от крови – буквально. И всё это случилось бы неизбежно, с такой же предопределённостью, как вода из опрокинутого кувшина растекается по столу; а знаменитое покушение на принца Эрика-Леопольда – всего лишь повод…
Чушь, сказал я. Катастрофы так не начинаются. Знаешь, почему невозможно задолго и точно предсказать землетрясение? Все, кто жил в Европе – не политики и не военные, – помнят, что в тридцать четвёртом году всё рухнуло на ровном месте. Вот – мир, в котором о войне никто и не думает, а вот – уже война. Как будто мы споткнулись на апельсиновой корке. Говорю тебе как специалист: в сложной системе реальное богатство возможностей всегда намного больше, чем можно предположить на взгляд извне. Там, где мы видим всего два-три варианта, их на самом деле – тысячи…
Вот эта война, например, началась фактически из-за агрессии шведов против Бранденбурга. А что, если бы кронпринц тогда не поехал в Берлин? Что, если бы Эгисф убил Агамемнона на десять лет раньше? Что, если бы Швеция вообще не стала империей? Что, если бы Алексей IV не отрёкся от престола? Могло ведь случиться всё, что угодно! Миллиарды пьес, в которых для нас написаны триллионы ролей… Когда я всерьёз задумываюсь о таких вещах, мне делается страшно. Мне начинает казаться, что нас всех – меня, Костю, Михаила, Ольгу – захватил и понёс какой-то странный спиралевидный поток; и я опять чувствую кожей прикосновение пустоты. Дыхание Хроноса. Мир сворачивается и разворачивается, как туманность – или как обёртка от детской хлопушки; и на этой обёртке нарисовано множество картинок… Вот варварская конница врывается в заснеженный город – всадник с зелёным рисунком на щеках пробует копьём ставни; сторожевые дозоры сбиты, а подмоги не будет: никому не выйти за пределы, поставленные Хроносом… Вот, разгоняя барашки, из волн показывается чёрная рубка, и изящный чайный клипер опрокидывается, получив в бок две торпеды: пожалуйте к Хроносу в гости… Ничто не предопределено, крушение было чистой случайностью – эта мысль высвечивается передо мной ясно, как ночная реклама, и сразу за ней – другая мысль: мы прошли через этот ад, потому что так было суждено…Кем суждено? – нет ответа. Вопреки всяческому вероятию – неужели так? Щупальца Хроноса смыкаются на моём горле. У меня начинает сосать под ложечкой. Всадники в панцирях несутся по пустому городу. Ненавижу тебя, Хронос! Ненавижу!!!
Когда мотоцикл притормозил на железнодорожном переезде и везший меня унтер-офицер на минуту задрал на лоб закрывающие пол-лица очки, оказалось, что мы с ним уже были знакомы раньше – всё по той же охранной службе. Звали его Павел Николаевич, фамилия его была Крюков, работал он до войны механиком в одном южном приморском городе, а в плен попал после морской десантной операции, будучи заброшен, по иронии судьбы, в свой же собственный родной город, к тому времени уже занятый шведскими войсками. Сама высадка десанта прошла блестяще: в штормовую погоду, зимой, ночью, штурмовые группы с катеров совершенно внезапно захватили порт, и подошедшие крейсера спокойно выгрузили всё – от пехоты до танков. Но потом почти сразу что-то забуксовало: поддержка с воздуха не появилась, никакого сообщения по суше со своими так и не наладилось, а единственный большой транспорт с боеприпасами был потоплен имперской авиацией, и тогда положение десанта стало безнадёжным: патроны кончились – ну и всё, лапки кверху… В плену он просидел полгода в так называемом «временном лагере», чуть-чуть не сдох там от голода, проводил в братскую могилу с десяток своих менее удачливых друзей, и, когда в качестве платы за свободу лагерникам предложили запись во вспомогательное формирование, согласился сразу, как и почти все, кто к тому времени уцелел и ещё мог передвигаться. Служил он сначала на родине в караульном отряде, сторожа порты и склады; потом их батальон перевели в Савойю и там долго гоняли в поисках маки – слава Богу, без особых успехов; и только четыре месяца назад грузовым самолётом его перебросили сюда. Дела здесь – полная жопа, да и как бы могло быть иначе – ты, поручик, наверное, и сам всё видишь, не слепой… У них на участках прорывов одной артиллерии – по триста стволов на километр; ну какая тут, на хрен, оборона? Да и эти, мать их, покровители… Ну армейские-то с нами ещё нормально, а вот гвардейцы, сволочи, как косились, так и косятся. Лишний танк доверить не хотят. Низшая раса мы для них, понял? И ни черта в этом смысле не изменилось, сколько бы там их великий магистр ни говорил, что мы, мол, союзники… Мы им, знаешь, зачем нужны, поручик? Мы им были нужны, чтобы делать самую-самую грязную работу – которой брезгует даже Гвардия. Это когда восстание было в Лемберге – так они сами туда лезть не пожелали. Они всё кордонами обложили, а внутрь запустили вот этих самых, любимых своих… Бригада Писарева – слышал про такую? Поставили им задачу: любыми средствами очистить город от подрывных элементов. И по периметру района гвардейцы замкнули кольцо. Наглухо. Что там внутри кольца творилось – не знает толком никто; да и слава Богу наверное, что не знает… Так вот эти герои – они привилегированные были, им всё полагалось: шоколад, кофе, талончики в бардак… (Тут Крюков длинно выругался.) А когда их всё-таки отправили на фронт, то в первую же неделю сорок человек расстреляли за трусость. И расформировали эту бригаду к чёртовой матери. А ты говоришь – оборона…