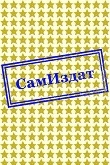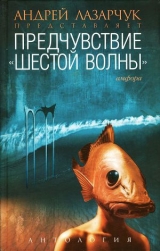
Текст книги "Предчувствие: Антология «шестой волны»"
Автор книги: Андрей Лазарчук
Соавторы: Дмитрий Колодан,Карина Шаинян,Азамат Козаев,Иван Наумов,Николай Желунов,Ирина Бахтина,Дмитрий Захаров,Сергей Ястребов,Юрий Гордиенко,Александр Резов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц)
Всё это я выслушал, разумеется, уже не на дороге, а в стоящем около неё укрытии для транспортных средств – что-то вроде открытого сарая или ангара. Ехать дальше было пока нельзя: над дорогой показывались штурмовики, и мы, как люди бывалые, совместно рассудили, что бережёного Бог бережёт. А под крышей не чувствовались ни ветер, ни морось, и вообще было непривычно уютно – самое место рассказывать истории.
Всё-таки через некоторое время я высунул голову из-под крыши и посмотрел на небо. Оно уже было чистым, если не считать облаков.
Я обернулся и взглянул на унтер-офицера: он уютно сидел, привалившись к дальней стене, на груде каких-то старых мешков. Стена над ним и вокруг была покрыта солдатскими граффити. Видимо, этот сарай служил армейским перевалочным пунктом, причём уже далеко не первый год. Когда-то кто-то здесь от скуки сделал на стене надпись, его примеру последовал другой, третий, а потом и солдаты следующей партии; мне ли не знать, как легко рождаются подобные локальные традиции?…
И вдруг мне тоже захотелось расписаться. А почему бы и нет? Спонтанные абсурдные поступки – неплохое средство для поднятия общего тонуса. Ну и как же мне себя увековечить? Просто писать свою фамилию – как-то глупо. Какой-нибудь знак. Чтобы запомнилось. Я задумался – обратил, так сказать, свой взор внутрь, цепляя им пробегающие мысли; мысли попадались невесёлые и, по преимуществу, недавние…
Я подобрал поблизости кусок каменной крошки и чётко вывел на кирпиче:
Marcus Junius Brutus. Anno MCMXXXIX
Потом я опять повернулся к своему спутнику.
– Всё. Расписались – теперь в путь.
3Создавая художественное произведение, автор всегда, сознательно или бессознательно, задаёт своей волей некоторую систему законов, в рамках которой его героям разрешается действовать. Иными словами, автор выступает в роли бога-создателя – в самом буквальном смысле. Так же как и Создатель нашего «реального» мира – на самом деле просто автор книги, героями которой являемся мы.
Сложнее, когда автор пытается вербализовать свою игру, обращаясь к герою напрямую. Тогда получается что-то вроде диалога Создателя с человеком. Хотя почему – «вроде»? Получается именно то самое. Это сильный художественный приём, но в книгах он применяется редко из боязни свалиться в безвкусицу. Впрочем, в жизни – тоже. Наши Авторы любят изящество. Они предпочитают не вмешиваться в сюжет лично, а выстраивать сцену за сценой так, чтобы герой совершал все предписанные ему действия как бы самостоятельно – возможно, даже ощущая при этом нечто похожее на свободу воли…
И совсем сложно, когда герой – он же автор – пытается представить себя в качестве постановщика и зрителя пьесы, в которой сам же играет.
В обыденных терминах это называется «взглянуть на себя со стороны».
Увидеть свою собственную жизнь как художественное произведение. Это возможно всегда, но почему-то удаётся очень немногим.
Творец, зритель и участник.
Ощутить себя не героем, а зрителем – значит в какой-то степени стать богом.
Андрей Рославлев сам не знал, когда именно он подумал об этом в первый раз. Для такого «взгляда со стороны» всё земное для человека должно немного отодвинуться в сторону. Возможно, что-то подобное произошло с ним три года назад, в лагере на медных рудниках; но он очень не любил вспоминать то время – точнее, сама память не пропускала эти воспоминания, сразу выставляя защиту. Возможно, «взгляд со стороны» пришёл раньше – во время боёв в окружении; тогда ломались убеждения у многих людей, наконец чётко осознавших, что имперская пропаганда в данном случае не врёт, что они преданы собственным бездарным командованием и теперь обречены… А возможно, новый взгляд пришёл позже – после новой присяги, когда, посмотрев в зеркало, Андрей увидел человека, совершившего предательство.
Предательство. Задумываясь на эту тему, Андрей всякий раз обнаруживал среди сложного вороха чувств странную сладковатую благодарность. Благодарность судьбе, которая заставила его это совершить. Предательство. Оно здорово расширило его представления о мире. Избавило от многих иллюзий. И от многих страхов. Разве можно напугать позором или смертным приговором людей, которые сами давно считают себя опозоренными и приговорёнными? Существуют пороги, за которыми бояться почти нечего…
Совершенно не страшно признавать, что наш мир, оказывается, невероятно прост. То, что мы считали живым существом, оказалось примитивной игрушкой с механизмом из ржавых шестерёнок. Все наши неповторимые впечатления, поступки и переживания суть только комбинации поворотов простого механизма – как в счётной машинке.
Боже, как здесь, оказывается, скучно, – говорим мы себе, а шестерёнки продолжают вращаться…
– …Значит, так. Командование Южной группы РОА напоминает, что надеется на вашу высокую стойкость, и подтверждает необходимость оборонять занятые рубежи до последней возможности. Но! В случаях, когда эта возможность исчерпана – например, если опорный пункт оказался под угрозой окружения, – следует, игнорируя все распоряжения имперских инстанций, немедленно прекратить оборону и обеспечить вывод людей на запад. Технику стараться не бросать, она ещё понадобится. На попытки гвардейской сволочи воспрепятствовать отходу – отвечать огнём, уничтожая заградительные посты до последнего человека. Всё это, разумеется, означает окончательный отказ от присяги, но похоже, что время, когда надо было соблюдать клятвы, уже прошло. Точкой сбора для всех отходящих групп нашего сектора назначается Бастия. Таков, господин капитан, приказ, который мне велели передать; есть ли у вас вопросы?…
– Бежим, – сказал капитан утвердительно. Он вообще держался очень уверенно, и чувствовалось, что такое поведение для него обычное; настоящий фронтовик, одно слово. – Понял я твой приказ, поручик. Так, значит, в Бастию? Похоже, что уже скоро. Пока, правда, ещё держимся, но пока они просто за нас всерьёз не берутся.
– Сколько вас тут всего? – спросил я для очистки совести.
– Вот именно тут? Кроме моей группы – рота ополченцев и три ягдпанцера…
Я молчал, не зная, что ещё сказать. Сотня стариков и мальчишек с автоматами и три неповоротливые бронированные коробки. Если с востока пойдёт настоящий прорыв, на сколько этого хватит? На полчаса? Меньше?
А ведь, не привези я этот приказ, они бы здесь так и держались – до последнего патрона. В этом я был совершенно уверен. Потому что уже видел, как это бывает.
Впрочем, собственно имперцы – то есть та самая рота ландштурма с тремя самоходками – будут драться до конца в любом случае. По многим причинам. Их очень жалко, но здесь мы ничего поделать не можем. Можно лишь надеяться на то, что этот узел обороны – не единственный в городе, и в принципе, раз уж командиры решили выполнять идиотский приказ о «превращении в крепость», на него могут подать подкрепление. Если успеют. Дороги здесь хорошие; но, правда, в подобных тактических условиях возможность подхода помощи менее всего зависит от дорог…
Собственно, мы стоим на перекрёстке. Какое-то странное, совершенно нелепое чувство надёжности возникает от того, что ты наконец-то попираешь ногами не грязь просёлка, а солидный булыжник.
Рядом – обычная улица с невысокими каменными домиками, с аккуратными ставнями временно закрытых магазинов, с водонапорной башней на углу. Обычный город. Когда-то он был зелёным – но сейчас ещё только весна. Когда-то он был мирным – но сейчас он по всему периметру ощетинился рвами, окопами, баррикадами, проволочными заграждениями, надолбами, ежами, дотами, пулемётными гнездами и укрытиями для фаустников…
Мне не хочется опять на это смотреть.
Я действительно устал.
Я даже больше не спрашиваю себя, зачем всё это нужно. Ибо смутно подозреваю, что на вопрос, поставленный в такой форме, ответа нет.
Вопрос «зачем?» – подразумевает цель. Но, скорее всего, в кипении чудовищного котла, именуемого Мировой войной, просто нет ничего такого, что в человеческих понятиях можно назвать целью.
Руководители наших противников считают, что их цель – принудить Империю к безоговорочной капитуляции. Стереть с лица Земли очаг зла, уничтожить варварский режим. Кретины.
Сама Империя более последовательна: у неё теперь вообще нет никакой цели. Разве что – достать до неба мечом. Чтобы из раненого неба хлынула кровь. Потому что мы не верим словам, не верим символам и объятиям – мы верим только крови. Это такая красная жидкость, которая всегда ритмично струится в наших жилах. Только в ней – движение. В ней – пульс Вселенной. Не бойся видеть кровь на своих руках – это всего лишь значит, что ты уже прикоснулся к сути вещей. Если кровь течёт из трещины в небе – значит, ты пробил фальшивый купол, и теперь тебе совсем недалеко до звёзд. До настоящих звёзд. До острых ледяных осколков. Когда в старину мужчины смешивали кровь, они становились братьями. Мы хотим породниться с небом.
Кстати, ведь в нашей, человеческой крови и в самом деле есть железо. Небесный металл – так его называли в бронзовом веке. Во время Мировой войны, более известной под названием Троянской. Разница в том, что тогдашним миром было только Восточное Средиземноморье – от Балкан до Египта. А сейчас век железный, и ареной безумия стал весь глобус. Так что невозможно даже угадать, в каком полушарии тебе предстоит погибнуть.
В октябре 1934 года последний рыцарь Империи, благородный капитан де Геер, затопил свой броненосец «Юхан III» у берегов Огненной Земли. До этого он крейсировал в Индийском и Тихом океанах и сумел потопить десяток неприятельских пароходов, не убив ни одного человека, – уникальное, надо сказать, достижение в практике рейдерских операций. Наконец у Фолклендов его поймала бригада английских крейсеров. «Юхан III» имел шесть 280-мм и восемь 150-мм пушек, крейсера «Бленхейм», «Гектор» и «Поллукс» – в сумме шесть 203-мм и двенадцать 152-мм. То есть бой был равный. Сначала крейсера попытались взять де Геера в клещи, и полтора часа все четыре корабля шли параллельными курсами, непрерывно стреляя. Потом крейсера, дымя пожарами, отвалились в стороны, а «Юхан III», у которого была серьёзная пробоина в носу, пошёл в Магелланов пролив. Это было временное решение: укрываться в узостях архипелага Тьерра-дель-Фуэго можно сколько угодно, но после выхода в океан повреждённый броненосец неизбежно ждала встреча с уже вызванной английской эскадрой. Де Геер счёл положение безнадёжным; он обеспечил выход команды на берег и, затопив корабль, застрелился – чтобы никто не заподозрил его в трусости. Членов команды, добравшихся до Европы через нейтральные страны, встретили на родине орденами и цветами…
Это было ещё до того, как обе стороны вцепились в войну зубами. Тогда, пять лет назад, ещё находились люди, пытавшиеся воевать по правилам.
Империя переоценила себя. Уже 20 января следующего, 1935, года датско-шведский линейный флот был разгромлен англичанами в Ютландской битве.
Это стало началом затяжной Скагерракской кампании. И это стало началом совершенно другой войны – насмерть.
Не надо увлекаться поисками символов. Они могут завести куда угодно.
Но вот железо – это всё-таки точно символ. Ибо должны же были Создатели что-то иметь в виду, добавляя к нашей крови небесный металл…
…И третий участник войны: монструозная громада Евроазиатского Союза. Если Империя – это нечто железное, то её восточный противник похож на колоссальный глинобитный замок. Или на огромное глиняное чудище, готовое тупо сожрать всё, что попадётся на его пути. Восток Ксеркса. Глина душит железо…
И люди, люди. Фанатики, обыватели, наёмные воины, романтики, глупцы, авантюристы, трусы. Французы, сербы, калмыки, румыны, индийцы, американцы. Те, кто мечтает пожертвовать собой ради великого дела, и те, кто готов отдать всё на свете, чтобы уцелеть. Цель не имеет значения. Каждый из миллионов стремится к своему, и в результате котёл кипит. Вот уже шестой год.
Зачем? Всё равно что спросить: зачем работает паровая машина? Наверное, об этом знает только тот, кто её запустил…
Ладно. Я тут задумался, а собеседник, кажется, уже нетерпеливо переминается с ноги на ногу. У него, в отличие от меня, сегодня ещё куча дел. Надо готовиться к обороне: расставлять людей, подтаскивать боеприпасы, вновь и вновь укреплять защитные сооружения, подбирая последние призрачные шансы. И надо прикидывать – что всё-таки делать, когда все эти шансы ничего не дадут. И надо прощаться.
– Мы возвращаемся. Желаю удачи, господин капитан.
– И вам тоже удачи, поручик.
Сказал он это или нет? Память путается, – может, это сказал кто-нибудь другой? Но кто? И почему после этих слов мне стало так легко?
Потому что я совершил ещё одно предательство. Отверг ещё одну присягу.
Чтобы спасти людей. Ха-ха.
Может быть, получив этот приказ, они и правда спасутся. Может быть, наоборот, быстрее погибнут. И уж наверняка из-за них погибнет раньше времени кто-нибудь другой.
Спасая одного, почти всегда губишь кого-то другого. Те, кто прошёл войну, очень хорошо это усвоили. Закон сохранения зла. Похоже, есть в нашем мире и такой закон…
Кто бы вы ни были, приведшие меня сюда управители, – спасибо вам. Мне легко.
Сволочи.
Нет, я не впадаю в суеверие. Конечно, мы сами создаём себе богов. Точнее, наши боги – отчасти и наши создания. Что не делает их менее живыми.
Ведь понятие бога – это изобретение самых грубых материалистов. Бог – это просто сложная регулирующая система с обратными связями. Понятно, что каждый из нас является составной частью не одной, а множества таких систем…
Копия Бога находится внутри моей черепной коробки: это сеть нервных клеток. Есть аналогичные сети более низкого ранга. Есть – более высокого. Бесконечная паутина.
Если у вас богатое воображение, можете придумать отдельным богам имена.
Аполлон. Гермес. Афродита. Зевс. Хронос. Уран.
А теперь попробуйте-ка освободиться от них.
Пробуйте осторожно, чтобы ваши мускулы не порвались от чрезмерного усилия. Которое, впрочем, всё равно ни к чему не приведёт.
А если приведёт – вам же хуже.
Следует основательно напрячь зрение, чтобы увидеть, что внутри каждого момента нашей жизни таится выбор из двух возможностей. Только из двух. Служба богам – или война титанов.
Любить богов нельзя. Это совершенно противоестественно. Любовь к богам есть нечто куда более дикое, чем, скажем, любовь к статуе.
Но вот служить им – всё-таки приходится.
Странная у нас судьба: служить тем, кого заведомо не любишь, а иногда и просто ненавидишь. Причём, в известной мере, – по собственному желанию.
Именно так мы и воюем. Не секрет, что в нашей «союзнической» армии ни один человек не испытывает особого почтения к Империи. Многие её ненавидят. Однако – служат. Действительно отдавая жизни. И вовсе не только потому, что деваться больше некуда.
Теперь, кажется, цвета фигур поменялись. Боги теперь играют не чёрными, а белыми. Менять правила по ходу игры – их право, которым они часто пользуются. И почему-то получается так, что я опять на их стороне.
Может, я всё-таки успею порвать с этой службой и присоединиться к братьям-титанам?…
А ведь Костя был прав. Если драться за Империю, то сейчас самое время.
Ладно, там посмотрим. Пока, во всяком случае, придётся доделать то, что я уже начал.
Можно порадоваться лишь тому, что игра переходит в эндшпиль. Это здорово, когда события ускоряются. Это возвращает нам кое-что почти забытое: надежду.
Сволочи, повторил я. Я вас ненавижу. Будьте прокляты за то, что вы со мной делаете.
Но, кроме этих слов, у меня больше ничего не было.
…Дополнительная универсальная творческая проблема заключается в том, что на свете практически нет новых сюжетов. Это понятно: набор сюжетов ограничен самим созданием мира. Сделав Солнце жёлтым, Создатель, конечно, не запретил придумывать миры, где оно зелёное, но структурировал сам спектр подобных выборов, ограничив поток нашего воображения определённым руслом. И так далее. С каждым шагом необратимого поступательного развития нашего Мира – иначе говоря, с каждым моментом времени – это русло усложняется, приобретая новые рукава, но тем самым парадоксальным образом становясь ещё более ограниченным, ибо чем больше изрезана береговая линия, тем труднее выйти в открытое море. Как на восточном побережье Адриатики. Проинтегрировав структуру этой береговой линии по всему времени существования Вселенной, мы получим абсолютно полную сюжетную схему – этакий, если угодно, метасюжет, который наверняка окажется на удивление простым. Сюжетные единицы Мироздания подобны узелкам крупноячеистой сети. Или обыкновенным атомам, число которых, согласно Демокриту, постоянно, конечно и даже не очень велико.
Поэтому в наших постановках очень многое повторяется.
Трясясь по разбитой дороге в коляске забрызганного грязью мотоцикла, я в тысячный раз говорил себе именно это: всё повторяется. Опять линия фронта. Опять весна. Опять возвращение. Всё вокруг настолько привычно, что проскальзывает как-то мимо сознания, и я почти ничего не чувствую, кроме бьющего в лицо холодного горького ветра.
Я узнаю этот ветер – он уже дул с серого моря, под низким небом, в каком-то странном северном городе… Или я что-то путаю? Может, этот ветер – не северный, а южный, и я помню его ещё со времён осады Трои? А может быть, это вообще ветер с Адриатики?…
Даже ветер возвращается. Всё, как предсказано.
Всё-таки здесь действительно очень скучно.
Поразительно однообразная вещь – война.
…Всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня.
Всадник возвышался тут же – в сквере перед школой. Я заметил его ещё утром, но тогда как-то не хватило времени подойти близко и рассмотреть. А теперь я мог, никуда не спеша, постоять рядом. Познакомиться и убедиться. Да, бронзовый всадник производил впечатление. Правда, длань он никуда не воздымал и коня на дыбы не вздёргивал – все четыре копыта уверенно попирали землю. Это был спокойный всадник. Он, конечно, был отважен в боях и много раз лично водил своих драбантов в атаку, но едва ли он когда-нибудь в чём-нибудь всерьёз сомневался. Выбитые на постаменте полустёршиеся буквы складывались в полный титул: Карл XII, император шведов, вандалов и готов, гегемон Рейнского союза. Создатель Третьей империи.
Почему-то мне ещё с юности был симпатичен этот странный герой. Здесь он был изображён уже пожилым. Статуя а-ля Марк Аврелий: повелитель мира, мерно шествующий по чугунной мостовой, торжественная мантия спадает складками; всё в порядке, и только вот лицо… Тут, впрочем, надо присмотреться. Не могло быть у Марка Аврелия такого лица. Этот всадник был вечным юношей. Несмотря на непрерывную войну, которую так и назвали – Вторая Тридцатилетняя. Что-то он за эти годы успел понять – что-то, почти уже недоступное человеку двадцатого века. Даже краешком сознания не уловить. Взглянешь в небо – и увидишь вечную битву волков…
Вечную – значит до тех пор, пока не развалится мир. А может быть, и дольше.
Рыцарь Валгаллы.
Надо же, как неожиданно встретились.
Школьное здание надвинулось на меня растущей слепой громадой, закрывая ещё не совсем потемневшее небо с тонкими перистыми облаками. Окна, завешенные изнутри чёрными шторами, как-то по-особому отражали вечерний свет. Впрочем, электрическое освещение пробивалось даже сквозь занавеси светомаскировки, и было понятно, что оно горит во многих комнатах – едва ли не во всех. От этого почему-то веяло тайной и детством. Казалось, что там, внутри, сейчас происходит что-то вроде подготовки к новогоднему празднику…
– Документы, – сказал мне на крыльце унтер-офицер с автоматом и нарукавной повязкой, на которой было написано, невесть почему готическими буквами: «ROA. Militarfeldsicherheitsdienst». За охрану здесь, видимо, взялись всерьёз: утром автоматчиков при входе ещё не было.
– Тридцать девятая комната, майор Беляев, – сказал унтер-офицер, вернув удостоверение, и даже распахнул передо мной дверь.
– Знаю, – сказал я утомлённо, уже входя в уютный сумрак вестибюля.
Беляев сидел в том же кабинете и за тем же столом, за которым я оставил его утром. Стол теперь был завален бумагами, рядом стояла пустая чайная кружка. Вид у Беляева был измученный, как после бессонной ночи. Ещё бы. У него дел побольше, чем у меня. Впрочем, от напряжённого ожидания тоже устают.
– Всё в порядке, – сказал я с порога. – Конечно, настолько, насколько что-то вообще может быть в порядке… Разрешите сесть?
– Садись, – сказал он, продолжая глядеть в свои бумаги. – Вернулся, значит. Молодец.
Пауза затянулась. Надеюсь, сюрпризов больше не будет, подумал я с некоторым беспокойством. Хотя нынче что ни час – то сюрприз…
Тут Беляев наконец посмотрел на меня.
– Готов? – спросил он резко.
– Куда деваться? – ответил я вопросом на вопрос.
Вдруг очень захотелось затянуться сигаретой. Я вспомнил, что не курил почти весь день.
– Ну, значит, так и будет. О чём мы с тобой говорили – ты помнишь…
– Помню.
– Не перебивай, – сказал он строго и замолчал, откровенно собираясь с мыслями.
Я тоже задумался. Точнее, со мной как раз случилось нечто обратное: я на время перестал думать. Зачем? Сколько можно? Красивый весенний вечер, уютная светлая комната. Тепло и хорошо…
Я включился, когда Беляев уже начал что-то говорить.
– …На тебя сейчас – наша надежда. Не скажу, что единственная…
Ну, спасибо на добром слове. Давайте теперь лепить из меня героя. Всю жизнь мечтал. Взять ключевой форт, подхватить упавшее знамя… Побыть – ну, пусть не спасителем мира, как герой фантастического романа, но хотя бы спасителем армии…
Самое забавное, что сейчас ведь примерно так оно всё и есть. Бойтесь ваших мечтаний, они могут сбыться… Ситуация критическая, здесь Беляев нисколько не преувеличивает. И – карты в руки. Только вот почему-то очень хочется сказать: а не пошли бы вы со своими историческими миссиями на…?
Но я, конечно, не сказал ничего подобного.
– …И очень тебя прошу: будь осторожнее. Не строй иллюзий: война ещё не проиграна. То есть проиграна, но не закончена. В Империи и по её краям сейчас идут такие политические игры, что ого-го. Дай-то Бог в это не вляпаться. Легко сказать – не вляпаться, – перебил он сам себя. – Если джентльмен берётся разгребать нужник, пусть не думает, что сохранит чистыми манжеты… Ладно, это, слава Богу, не твоё дело. Твоё дело – доехать, встретиться, передать. И обязательно вернуться. – Он вдруг провёл ладонью по лбу. – Так всё сложно. Такая, чёрт её дери, паутина…
Паутина. Крупноячеистая сеть. «Нет жизни рыбарю – пророку смерти…» [2]2
Ю. Лорес.
[Закрыть]– вспомнилась некстати строка из стихотворения. Хотя – почему некстати?…
– Домой-то я успею зайти? Хоть на час?
– Успеешь даже до рассвета. Поезд уходит в пять двадцать.
Теперь Беляев смотрит на меня спокойно, едва ли не выжидательно. Пожалуй, он вообще чересчур спокоен… и я вдруг понимаю, что он сейчас не только скрывает волнение, но и в чём-то колеблется. Похоже, есть какая-то новая малоприятная информация, в отношении которой он никак не может решить – сообщать мне её или нет.
Кажется, решил не сообщать.
Ну и ладно. Меньше знаешь – лучше спишь.
Надо, кстати, выспаться в поезде.
– Будь осторожнее, – повторяет Беляев. – Ты нам очень нужен.
Я хочу сказать на прощание что-нибудь бодрое – и понимаю, что у меня не хватает слов.
Та самая комната, откуда мы ушли утром. Почти вся обстановка осталась прежней – ну, разве что на столе переменили скатерть. И вместо свечи – опять электрический свет. Правда, теперь горит не люстра, а только настольная лампа.
Красивая такая лампа. Тёмно-жёлтый матерчатый абажур с изящными складками. И с бахромой. И на тяжёлой бронзовой подставке выступают львиные морды, почему-то очень похожие на открытых Винклером львов Хаттуса.
Раньше я эту лампу почему-то не разглядывал. Забавно, как глаз пропускает мелочи. И сами по себе эти мелочи – забавны. Почти любой заурядный предмет может таить в себе маленькое открытие. Стоит только присмотреться. Ну откуда на настольной лампе в обычном среднеевропейском доме – хеттские львы? Или это просто во мне опять проснулся классический филолог?…
Окно занавешено наглухо. Всё те же правила светомаскировки, ничего не поделаешь. Впрочем, к этому уже все привыкли.
А вот то, что мы сейчас с Ольгой вдвоём, – это редкость. Раньше в этой квартире почти во всякий вечер можно было найти кого-нибудь из господ офицеров – хотя никто из нас, разумеется, здесь не жил постоянно. Просто трудно было побороть соблазн завернуть сюда, возвращаясь с какого-нибудь очередного утомительного задания. Разумеется, нам с нашим опытом хорошая казарма уже давно кажется вполне уютным местом, больше ничего вроде бы и не надо… И всё-таки есть разница: прийти в казарму – или сюда.
Почти домой.
А ведь Беляеву я так и сказал о квартире Ольги: зайти домой. Оговорился, конечно.
Сама Ольга примостилась напротив меня в кресле. Я полулежу на диване и допиваю свой чай.
Мы пока молчим. Торопиться некуда, слишком многое уже сказано.
Да и хочется почему-то, чтобы подольше длилось это молчание…
Никогда оно на самом деле не длится долго.
– Тебе хочется помолчать? – Знакомый аккуратный сочувственный тон.
– Нет. Мне хочется говорить. Просто я не знаю, что тебе сказать. Как обычно… – Я пытаюсь изобразить улыбку.
Кажется, у меня даже получается.
Ну и что дальше? Вряд ли Ольга будет расспрашивать меня о делах или о положении на фронте. Не потому, что ей это неинтересно. Просто то, что ей нужно знать о таких вещах, она, как правило, понимает сама.
Я молча жду, что она произнесёт.
– Всё будет хорошо. Я уверена.
Вот это да. Господи, неужели всё уже настолько паршиво, что мой вид требует подобных утешений?… Я чуточку мобилизуюсь.
– Тебе это говорит женская интуиция?
Она как-то колеблется.
– Если угодно. – Пауза. – Ты ведь завтра куда-то уезжаешь?
– В тыл, – отвечаю я расслабленно и коротко. Расслабленно – потому что вокруг мягко и тепло. А коротко – потому что это последнее дело: хвастаться перед женщиной тем, что из тебя пытаются сделать героя.
Кстати, а в чём же, собственно, должно состоять моё геройское деяние?
Во-первых, дезертировать с фронта. Ну, за этим-то дело не станет. По военным законам Империи я уже сейчас заслужил даже не одну, а две немедленных смертных казни – причём совершенно между делом. За один сегодняшний день. Пустячки, а приятно.
Во-вторых, пройти через кордоны. Которые разнообразны и расставлены часто. Впрочем, полевых жандармов я опасаюсь мало, а патрулей Реншельда – ещё меньше. Болваны они, как правило. Хотя эти-то болваны сейчас запросто могут поставить подозрительного офицера к ближайшей стенке… Ладно, это всё мелочи. В случае чего попробуем отстреляться… Но есть и вещи, которых следует бояться всерьёз, – например, ГТП. Было ведь всё-таки в лице Беляева что-то такое… некий не прояснённый слепой уголок… Ладно. Пока проблема не обрела зримых очертаний, самое верное – не думать о ней.
В-третьих, я должен добраться до фельдмаршала. Соблюдая всё те же правила предосторожности. Добраться и добиться личной встречи. Вот об этом я не хочу преждевременно думать не из страха, а просто чтобы шестерёнки в голове не крутились вхолостую. Будет день, будет пища. Приедем – тогда и начнём импровизировать.
Надо вручить фельдмаршалу официальное письмо. А также, предъявив свои полномочия – немалые, нужно заметить, полномочия, бумага с подписью самого командующего РОА генерала Молчанова, – провести приватный разговор на ту же тему. Объяснить ему, что спасаться вместе – это лучше, чем погибать врозь.
Ох, не верю я в свою силу убеждения.
И ведь те, кто пока остаётся здесь, – они же будут… странно всё-таки звучит это слово: надеяться. Не очень, может быть, но – надеяться. Что им ещё остаётся, кроме как ждать призрачную помощь? Чёрт меня побери…
А отсюда следует четвёртая, самая главная часть моего задания: я должен вернуться.
Я смотрю на Ольгу.
– Я вернусь. Наверное, даже скоро. Дня через два.
– Возвращайся, – говорит она неожиданно просто и легко. Словно на окнах нет завесы затемнения и дело происходит в самый обычный мирный день. «Я заеду в контору, а потом, наверное, ещё вернусь. – Возвращайся…»
Наверное, вернусь…
Как это легко сказать: я вернусь.
– Я постараюсь. А теперь давай не будем говорить о войне.
Сам не знаю, почему у меня вырвалась эта фраза.
Она, вероятно, понимает это лучше меня. И потому спрашивает без иронии:
– А о чём ещё ты способен говорить?
Всё правильно. О чём ещё я сейчас способен говорить? После четырёх лет? Увидев столько всего своими глазами? Принципы оптимального расположения огневых точек. Оперативные идеи Гамильтона и Делагарди в условиях современного подвижного фронта. Сравнительные боевые качества бронетехники: «диктатор» против «элефанта», «леопард» против «кромвеля». И главное – рассуждения на тему: ну в какой же заднице мы все очутились! Ведь сразу после начала Восточного похода наши эмигранты буквально умоляли шведов: позвольте нам отправить на фронт крупное соединение! Хотя бы одно. Под национальным флагом и под лозунгами Белой гвардии. Поставьте его в первую линию – и посмотрим, что получится. Возможно, это была утопия. А возможно – и нет. В любом случае, отказ был абсолютно категорическим. И в результате в течение трёх решающих лет почти вся миллионная масса таких, как мы, добровольцев была старательно рассредоточена по отдельным батальонам, разбросанным на пространстве от мыса Акций до Нордкапа. Тыловые и вспомогательные подразделения Великой армии – вот и всё, чем нам позволили стать. Даже после битвы при Каспии, когда перелом в стратегической ситуации обозначился совершенно ясно, высшее руководство Империи всё ещё надеялось справиться с врагом своими силами. Имперцы вообще много раз демонстрировали, что они способны гениально решать очень сложные конкретные задачи, но поразительно слепы там, где речь идёт о картине в целом. Такие вот особенности национального военного искусства. При этом я вовсе не иронизирую над шведской армией. Каждый, кто видел эту армию в бою – неважно, с какой стороны, – подтвердит, что чего-чего, а иронического отношения она не заслужила. Большинство её звеньев, от штабных оперативников до рядового состава, за эти пять лет проявили себя совершенно блестяще. Так, блестяще, они и проиграли войну. И мы – с ними за компанию…
Я уместился на диване поудобнее.
– Я могу не только про войну. Могу, например, про роман, который я когда-то мечтал написать. О Петре Первом.
– Я ничего о нём не знаю…
Вдруг я почувствовал, что рассказывать расхотелось.
– Он царствовал недолго и неудачно. Начал войну со шведами и попал под Нарвой в плен, так что пришлось заключать мир любой ценой. Пришлось отдать не только завоевания, но и некоторые русские города – Псков, например. Но начало его правления – оно очень интересное. Похоже, что он хотел спешно сделать из России сугубо западное государство – как Ататюрк из Турции. И так же, как тот, ни перед чем бы ради этого не остановился. Если Ататюрк ввёл смертную казнь за ношение фески, то до чего бы дошёл Пётр – я уж и не знаю. Пройти за двадцать лет путь, на который у всей Европы ушло полтысячелетия, – кто мог до такого додуматься? Взнуздать коня Хроноса… Конечно, его убили, и при Алексее Втором всё встало на свои места. А в русской литературе Пётр – это такой, знаешь, герой вне морали. Стремящийся к невозможному. Не очень популярный, правда…