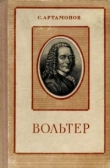Текст книги "Том 4. История западноевропейской литературы"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
Драма кончается трогательной сценой глубокой любви и гармонии двух отдающих себя в жертву идеалистов. Она исполнена с большим мастерством и, конечно, должна тронуть публику тех пятидесяти семя театров (не французских), которые сейчас же взялись поставить эту пьесу.
Смысл пьесы совершенно ясен. Ромен Роллан противопоставляет историческому строительству судеб человечества гуманизм, цепляющийся за святость каждого момента. Он разрушает самый смысл истории. Постановка вопроса делается при этом очень ловко. В том-то и большое достоинство драматургии, как оружия, что она дает возможность автору окружить свои тезисы самыми благоприятными условиями, художественно подкупающими публику.
В самом деле, революционно-исторические строители взяты в момент, когда, осажденные со всех сторон, они вынуждены форсировать необходимый террор. Мы ведь тоже пережили в свое время период террора […]
Мы знаем, что и о коммунистах в то время говорили те ужасные слова насчет деспотов, кровавых тиранов, фанатиков и честолюбцев и т. д., которые бросает теперь Ромен Роллан в упрек якобинцам. Беда якобинцев заключалась, однако, в том, что они не победили, несмотря на колоссальное напряжение энергии поддерживавшей их бедноты и несмотря на их решительность в расправе с врагами революции. Коммунисты в России победили. Как только они победили, террор отошел в сторону. В настоящее время смертная казнь чрезвычайно редка, и мы уже совсем недалеки от того момента, когда революция упрочится настолько, что сможет вернуться к своей основной юридической идее, которую в нормальное время она полностью осуществит, к идее самых мягких исправительных форм или форм гуманной изоляции личности, могущей быть вредной для общественного строительства. Конечно, остатки разбитых врагов могут и сейчас скрежетать зубами, но, несомненно, существуют сотни тысяч, может быть, миллионы таких людей, которые были готовы проклинать Советскую власть в тяжелые годы военного коммунизма и террора и которые сейчас уже поняли абсолютную необходимость этих мер, поняли и то, что отдельные ошибки, даже, как правильно говорит Карно, отдельные эксцессы и преступления не заставляют отшатнуться остальных от главного, от той формы войны, которая становится необходимой для революции на известном этапе ее развития.
Конечно, наиболее удобным условием метать молнии морального негодования против строителей будущего является атаковать их в момент самой напряженной борьбы за это будущее, и не тогда, когда они являются преследуемыми, а когда они являются преследователями, то есть после внутренней победы революции, хотя победа сомнительна еще, благодаря проискам нелегальной контрреволюции и могущественному контрреволюционному окружению. Вот тут-то, потеряв всякие перспективы, можно говорить о неслыханной жестокости «этих фанатиков и сектантов».
Надо отдать справедливость Ромену Роллану, Карно говорит у него на более или менее естественном языке; может быть, не нужно было только заставлять Карно так отгораживаться от своих ближайших сотрудников по революции. Во всяком случае, Карно с гордостью берет на себя общую ответственность, говоря о том, что тяжелая цена победы поставлена не нами, а самой природой вещей и что перед ним есть два пути, – отказаться от борьбы за лучшее будущее и оставить все, как есть, или взяться за эту борьбу и заплатить ту цену, которая поставлена историей, – он ни на минуту не поколеблен возражениями Курвуазье.
Мы должны спросить себя, сносно ли, терпимо ли живет огромное большинство человечества в исходный момент революции? Если Курвуазье заявляет, что для него священна жизнь сегодняшнего дня, то ведь, значит, для него священна жизнь всех тех миллионов бедняков, которых затаптывают, мучают и эксплуатируют. Как же, во имя святости этой жизни, он согласен терпеть, так сказать, повседневный, будничный, но тем не менее ужасный террор уродливого социального строя? Разве может мириться с ужасающими жизненными условиями огромного большинства человечества тот, кто гордо заявляет, что для него священна всякая жизнь в данный момент? Разве он не должен броситься на помощь угнетенным?
Конечно, можно придумать версию, будто помочь угнетенным можно какими-то мирными, соглашательскими, реформистскими путями. Но Ромен Роллан ни слова о них не говорит. Вероятно, ему самому противно говорить о них. Он хороню знает, что реформизм есть только хитрая уловка господствующих и их лакеев для того, чтобы безболезненно для себя выпустить часть пара из переполняющегося гневом народного, общественного котла.
Ромен Роллан скорее склоняется к вере, будто такая помощь может быть оказана по-толстовски, путем пропаганды карася-идеалиста перед пастью господствующей щуки, путем дачи блистательного примера святости жизни.
Но эти соображения уже нисколько не спасают Ромена Роллана от того, что он и его Курвуазье являются подлинными идеологами обывателя. Теория Ромена Роллана есть сплошная обывательщина. Обыватель хочет жить-быть. Ему дороги его будни, и отсюда его порою истерические заявления, что жизнь ценна в каждый данный момент, что нельзя жертвовать ею для разных там великих целей. Обыватель – это человек из среднего класса, которому живется не так уж плохо, которому можно терпеть, поэтому он терпит и преподает долготерпение. Но так как обывателю несколько стыдно перед лицом окружающей нищеты и несчастья, то для своего собственного успокоения он придумывает мнимую работу, мнимые пути, мнимое оправдание. Он начинает красно разговаривать о медленных реформах или о честной жизни, как примере, и т. д.
Среди обывателей очень редко бывают герои вроде Курвуазье, так же редко, как среди духовенства настоящие святые.
Но, как всякий грешащий попик страшно любит чувствовать себя оправданным образом какого-нибудь мученика, так и обыватель любит разглагольствовать о своих собственных героях, о героях, которые пассивность и будни готовы защищать в качестве ценнейшего идеала даже ценою собственной жизни. Повторяю, таких людей очень мало. Огромное стадо обывателей просто хочет жить-быть. Но и оно имеет не только своих идеологов, претворяющих эту убогую философию в красивое сочетание мысли и слов; оно имеет иногда, большей частью легендарно раздутые, фигуры своих героев и мучеников. Большей частью идеологи обывательского житья-бытья превращают это житье-бытье в вечную категорию. Они говорят: «Что там прогресс, что там переход от худшего к лучшему! Все это пустяки. Существуют ценности вечные: неповторяемая личность, беспримерные доброта, честность и любовь к правде, дружба и любовь, объединяющие людей». Некоторые прибавляют к этому еще и бога. Вот широкая возможность для жизни не только сносной, но даже прекрасной, даже святой!
Тот же трюк превращения узора, как песок рассыпающегося, ложного строительства и целеустремления обывательской жизни в процесс вечный, отражающий неведомое божество, проделывает не без удовольствия и Ромен Роллан. Его отклики достаточно ярки в разбираемой нами драме.
Редко, однако, обыватель (по крайней мере, действительно интеллигентный обыватель) решается начисто оспаривать гипотезу прогресса. Обывателю все-таки, в большинстве случаев, бывает стыдно сказать, что он одобряет и приемлет жизнь как она есть, он все-таки знает, что огромное большинство человечества не обыватели, а каторжники, подневольные труженики и страдальцы, и ему приятно думать, что со временем все будет лучше. Обывателю нравится, так сказать, маниловская теория прогресса: будем жить-быть, но вместе с тем все будет улучшаться, и наступит когда-нибудь весна благоприятная. Можно и помечтать об этом.
Моральное крушение героя Курвуазье заключается именно в том, что, напуганный кровью, не имея моральной мощи Карно, он отрекается, якобы во имя науки (знаем мы эту науку!), от самой идеи прогресса.
Вместо того чтобы видеть перед собой грандиозную картину постепенного роста самосознания огромного большинства человечества, вместо того чтобы видеть постепенный процесс его организации и приветствовать в революции колоссальное стремление человеческой воли к подлинно разумной жизни, разрушающей всякую нечисть на своем пути, вместо того Курвуазье, забывая всю действительность, вперяет глаза в одно: революция, вызвав на бой силы физические, гораздо большие, чем ее собственные, в самообороне своей вынуждена быть жестокой, и среди жестокостей этих оказывается часто несправедливость. С точки зрения «житья-бытья» это ужасно, это гора, которую невозможно переступить; с точки зрения исторически-творческих людей, как Карно, это неизбежный порог, который надо переступить и за которым стелется другого типа работа.
Курвуазье заранее предвкушает в своем героизме, как другие крошечные Курвуазье будут оплакивать его геройскую смерть и во имя ее проповедовать необходимость песку рассыпаться на индивидуумы и на моменты и саботировать тем самым великие усилия массовых организаций. Умирая стариком и разбитым человеком, он считает, что воскреснет для вечной жизни в благодарной памяти гуманистов толстовского и роллановского типа. И великолепно звучит ответ на это Карно: «Наплевать мне на твою душу». Этого типа бессмертие и вечность для Карно просто пустяки, но Курвуазье он ценит. Почему? Потому что это хороший работник. Для Карно вся жизнь есть тяжело воздвигаемая постройка. Карно, действительно, живет в веках – Курвуазье, действительно, живет в моменте.
Что касается самопожертвования Софи, то тут имеются некоторые довольно отвратительные черты. Софи несколько раз во время своего душевного кризиса говорит о мертвенности таких понятий, как долг, добродетель и т. д., понятий, благодаря которым она была прикована к колеснице Курвуазье, всегда пользовавшегося ее уважением и никогда – любовью. Как же понять, что Софи, которая всей своей молодой кровью как будто должна была бы кричать именно об этой святости всякой данной жизни, об этой святости момента, на самом деле отдает свою молодую, красивую, умную жизнь зря, только для того, чтобы оказаться верной своему супругу, а также его идеям? Далее мы видим, что Ромен Роллан, чтобы усилить трогательность своей пьесы, заставляет Курвуазье принять совершенно напрасную жертву молодой жены и прибавить ее кровь к своей старой крови как раз во славу долга, добродетели и прочих пустых «призраков», – и на этот раз это, действительно, пустые призраки. Долг и добродетель противопоставлены здесь не только голосу всякого исторического строительства, но даже голосу права на жизнь, на любовь. В жертве Софи не только нет настоящего революционного героизма, но, нет и того самого реалистического гуманизма, во имя которого как будто написана вся пьеса.
Ромен Роллан чувствует, что путь революции – это путь героический, что он подкупает прежде всего великим пафосом своей целестремительности и, конечно, своей жертвенности, ибо каждый революционер, выходя на дорогу революции, убежден на 99 процентов в своей гибели.
Как же противопоставить этому прекрасному пафосу – обывательщину? А вот как.
Вот вам Балле, который кладет голову в пасть революционного льва, только чтобы посмотреть на любимую женщину. Ромен Роллан восславляет его за это в своем предисловии 20 , но к концу своей пьесы он отбрасывает Балле, и вся эта музыка высокой преданности женщине превращается в собственную противоположность, когда он бежит, покидая женщину в объятиях своего старого соперника и среди опасностей, не почувствовать которых мог бы только идиот. Поэтому Ромен Роллан не слишком настаивает на героизме Балле.
Теперь ученого-обывателя Курвуазье возводит он на высшую вершину. Правда, Курвуазье не то революционер, не то нет. Правда, он нам говорит о своей слабости. Слабость – ведь это ужасно симпатичная вещь для обывателя. Но в момент, когда изменила ему жена и когда он запутался в собственных своих противоречиях, Курвуазье решается открыто выступить и пасть жертвой политического осуждения. Приносимая им жертва, да еще при ослабляющих ее ценность обстоятельствах, нисколько не может закрыть от нас того, что вся философия, под нею таящаяся, есть обывательская мудрость, что тенденция Курвуазье клонится к защите спокойных будней сытых средних классов. Но все же жертвенность бросает на все это ореол, заставляющий симпатически биться сердце публики.
Наконец – Софи. По существу, в ней преобладало рабье женское чувство. Муж и жена должны быть заодно. Несмотря на все внешнее спокойствие, чувствуется истерическая экзальтация, – может быть, продукт общих перенапряженных нервов той эпохи, – в этой готовности умереть, в сущности совершенно бесполезной. Софи, в разговоре с Жеромом, говорила разумные вещи о том, что перипетии революции не должны заставить отступать людей, знающих ее глубокие принципы и ее великие цели, но теперь она этого не думает и просто хочет умереть с мужем. Софи, в разговоре с подругой и в диалогах с Балле, противопоставляла непосредственное право молодого существа на любовь всем мещанским добродетелям, но сейчас она очень легко отбросила все это и только хочет умереть со своим мужем. Разве это не трогательно?
Но что, собственно, таится за этой трогательностью? Те самые мещанские добродетели супружеской верности, над которыми Ромен Роллан мимоходом чуть было не посмеялся. Таким образом, мы не находим в героических фигурах Ромена Роллана ничего другого, кроме экзальтированного и приподня того обывательского духа.
Философы обывательщины, рыцари обывательщины, мученики обывательщины, поэты обывательщины? Конечно, они в известном случае оказываются и философами, и мучениками, и поэтами.
Но как жаль, что все это уходит на то, чтобы восславить обывательщину; как жаль, что за всем этим пацифизмом, сверкающим такими украшениями, в сущности, живет человек, жаждущий амбюскады [22]22
убежища (от франц.ambuscade). – Ред.
[Закрыть], жаждущий спрятаться в искусстве, уклониться от воинской повинности, дезертировать с острых постов, предуказанных историей. Когда Ромен Роллан в эпоху мировой войны говорил о необходимости прекратить ее, боролся против нее 21 , презренные политики буржуазии или одураченные ими легковеры упрекали Ромена Роллана и говорили: «Ваша будто бы благородная, интернациональная, гуманистическая позиция приемлется в особенности теми, кто хочет уклониться от дани крови своему времени под ее кровом».
Это было в высшей степени тупое обвинение. На самом деле было ясно, что активная борьба против войны гораздо опаснее, чем самое служение ей в траншеях. Но вот пришло время, когда во имя действительно последней войны, когда во имя действительной ликвидации всякого империализма – люди взялись за оружие, когда началась, со всеми ее перипетиями, та война, которую Маркс назвал «единственной священной войной», – война всех угнетенных против угнетателей 22 . И что же? Ромен Роллан опять занял позицию «над битвой» и опять говорит о святости жизни и зле кровопролития и т. д. Теперь возражения, казавшиеся тупыми в первом периоде роллановского пацифизма, становятся острыми и ранят его позицию. Теперь становится уже очевидным, что настоящим стадом Ромена Роллана являются уже действительно социальные трусы. Мы знаем очень хорошо, что социальному трусу стыдно признаться в своей трусости. Трусы очень рады, если они могут схватиться за какого-нибудь фанатика-толстовца, который претерпел всякие гонения и неприятности, защищая свой пацифизм. Хорошо, как было бы хорошо, если бы можно было найти мученика пацифизма! Тогда можно было бы также возложить на него все свои самоутверждения, как делают это вышеупомянутые попики по отношению к христианским мученикам или какому-нибудь полусумасшедшему аскету, живущему в грязи, морящему себя голодом в том или ином монастыре. Но о мучениках нового пацифизма, пацифизма роллановского и толстовского типа, слышно очень мало и редко. Недурно создать, по крайней мере, художественную легенду о таком мученике. Ромен Роллан изо всех сил создает ее и достиг немалого успеха в своей драме «Игра любви и смерти».
Теперь, если вы будете говорить с каким-нибудь человеком из средних классов, мелким адвокатом, фотографом или кем-нибудь в этом роде, который будет махать на все руками, заверяя вас, что кровь ни в каком случае не следует лить, что нужно держать одежды свои чистыми и что самым настоящим алтарем является домашний примус, и вы не воздержитесь от того, чтобы упрекать его в обывательской трусости, – он победоносно ответит вам: «А Жером, а Софи Курвуазье, которые пошли навстречу гильотине только за то, чтобы протестовать против крови, проливаемой революционерами?»
Жером и Софи Курвуазье, это, так сказать, – Христы обывательские, которые раз навсегда, и при этом только на сцене, пролили свою искупительную кровь за всех обывателей. Понятно, что, кроме французских театров, пятьдесят семь других театров уже выразили желание заняться «Игрою любви и смерти» и отпраздновать эту мессу обывательского самовлюбления. Не менее, понятно, свидетельствует об одичалости некоторых кругов нынешней Франции то, что театр Французской Комедии отказался даже прочесть эту пьесу, несмотря на настояния директора. Почтенные сосьетеры 23 Французской Комедии заявили, что они считают оскорблением уст своих даже простое чтение какой бы то ни было драмы человека, осмелившегося осудить звериный милитаризм «великой войны».
Кроме обывателя типа овечьего, есть еще обыватель волчьего типа, и самая большая беда Ромена Роллана заключается в том, что, всячески стараясь укрепить в человеке овечьи инстинкты, он, сам того не сознавая, укрепляет инстинкты волчьи.
Мы ни разу не видели, чтобы пацифистская пропаганда, толстовская ли, роллановская ли, мешала тому, чтобы, по команде волков в офицерских мундирах, овцы в солдатских мундирах не шли бы на смерть и на убийство. На одного Курвуазье, который пискнет что-нибудь против войны, придется девяносто девять Курвуазье, внутренне несогласных с войной, но приученных всей обывательской сущностью своей к пассивности и повиновению.
Нет, Ромен Роллан нисколько не опасен для волчьего царства. Волчье царство при его помощи еще более себя обезопасит, отнюдь не давая ему своей санкции, как не дает волчье царство своей санкции лисьему царству II Интернационала. Тем не менее лисицы II Интернационала делают свое дело. И овцы толстовского и роллановского стада фактически делают то же волчье дело, мнимо находясь в борьбе с волками, но растекаясь речами перед буржуазным Васькой, который доедает курчонка. Они являются смешными, отвратительными и опасными. Чем благороднее те фразы, которыми украшают они себя при этом, тем большую опасность они собой представляют.
Вне лагеря волков, лисиц и овец возвышается растущий лагерь подлинных людей, а между ними залегли огромные массы существ еще не определившихся, но желающих быть людьми. И в то время как мы зовем к активной человечности и к жестокой жертвенной, строительной работе во имя будущего, Ромен Роллан расписывает перед ними овечьи идеалы, одевая своего ученого агнца Курвуазье во всевозможные религии героизма и мученичества, и тем самым оказывается нашим противником в величайшем деле пропаганды подлинных человеческих идеалов и подлинных путей к ним.
Комментарии
На протяжении всей своей общественной и научной деятельности Луначарский уделял много внимания изучению и популяризации литератур Европы и Америки. Вынужденный до 1917 года подолгу жить за рубежом, он пристально следил за развитием художественной литературы, театра, музыки, живописи на Западе, был лично знаком со многими писателями, поэтами, художниками и деятелями театра; владея несколькими иностранными языками, занимался переводами зарубежной литературы на русский язык. Еще совсем молодым человеком он издал свой перевод поэмы «Фауст» австрийского поэта Н. Ленау; в дальнейшем Луначарский переводил и других поэтов – среди них талантливого швейцарского поэта К.-Ф. Майера. Как переводчик Луначарский обращался чаще всего к авторам действительно выдающимся, но в то время еще мало известным русскому читателю.
Западноевропейская тематика занимает большое место в творчестве Луначарского-художника. Его драмы «Оливер Кромвель» (1920) и «Фома Кампанелла» (1922) привлекают, кроме своих прочих достоинств, еще и ярким изображением жизни европейских народов, порожденных ими могучих характеров.
Эти многообразные формы восприятия и усвоения западноевропейской культуры, активное отношение Луначарского к культурному наследию народов Западной Европы надо иметь в виду и при оценке его работ, посвященных зарубежным литературам, которые были для него и неисчерпаемым источником ценностей, созданных прошлым, и сгустком живых явлений современности.
Владея огромными знаниями в области истории многих литератур Европы, Луначарский мыслил научными категориями всеобъемлющего характера, сохраняя при этом отчетливое представление о национальном своеобразии отдельных литератур. В этом смысле он представлял подлинно новый тип советского ученого, активно боровшегося за развитие советской литературы, следившего за развитием современной зарубежной литературы и участвовавшего в этом процессе. Многие статьи Луначарского печатались за рубежом.
Глубокое проникновение Луначарского в сущность литературного развития той или иной страны, в художественный мир писателей и поэтов объясняется в первую очередь тем, что, будучи ученым-коммунистом, вооруженным марксистско-ленинской методологией, Луначарский вносил в свою деятельность творческую страсть художника и боевого партийного критика, борющегося за успешное развитие советского общества и его социалистической культуры.
Верный традициям боевой марксистской науки о литературе, Луначарский выступал и как историк литературы, и как острый литературный критик, непременный участник дискуссий и споров, шедших в нашей стране. Он писал о культуре и литературе капиталистических стран, подвергая убедительной критике упадочное буржуазное искусство, поддерживая авторитет крупных писателей-реалистов, разъясняя советским читателям значение зарубежной революционной литературы, популяризатором которой он так часто выступал.
Среди многочисленных работ Луначарского, посвященных зарубежным литературам, наиболее значительная – курс лекций «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах», читанный в 1923–1924 годах в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. Курс был издан в 1924 году двумя выпусками и рекомендовав Государственным ученым советом в качестве пособия для высших учебных заведений. В кратком предисловии, предпосланном первому изданию книги (1924), Луначарский говорил о той необыкновенной аудитории, «той превосходной молодежи», для которой он создавал ичитал свой курс. Эта молодежь – недавние бойцы и командиры Красной Армии, партработники, активные участники боев за Советскую власть и борьбы за восстановление народного хозяйства молодой Советской республики, люди с огромным и самым разнообразным политическим и житейским опытом, посланные партией учиться. Им, строителям первого социалистического государства, рассказывал Луначарский о сокровищах мировой культуры, ставших доступными людям труда.
В те бурные годы Луначарский был очень занят. Он вел огромную работу как народный комиссар просвещения РСФСР, деятельно участвовал в многообразной жизни советского искусства, выполнял ответственнейшие партийные поручения, много писал. И все-таки он нашел время для того, чтобы собрать, изучить и осмыслить по-новому, в свете великого опыта революционных лет, множество фактов художественного развития человечества, начиная с зарождения устного народного творчества и кончая рождавшейся литературой социалистического реализма. Конечно, в книге сказалась богатейшая эрудиция Луначарского, сказались десятки лет труда, вооружившего его обширнейшими знаниями в самых различных сферах гуманитарных наук и искусства. Но весь этот богатейший материал надо было систематизировать и ввести в рамки краткого концептуального курса. Луначарский справился с этим блестяще. После окончания лекций слушатели Коммунистического университета поблагодарили Луначарского через своих представителей. В пределах всего тридцати лекционных часов Луначарский содержательно и захватывающе интересно охарактеризовал важнейшие моменты в истории мировой литературы от Гомера до начала 1920-х годов, не пропустив ни одно действительно важное имя, ни одно действительно важное направление.
Помня о том, что в его аудитории были люди с самой различной подготовкой, Луначарский не ставил перед собой задачи прочитать обычный академический курс. Он вел курс популярно, увлекая слушателей богатством образов и идей, созданных литературой за тысячи лет ее развития. В этой форме лектор прежде всего стремился выполнить поставленную перед собою основную цель курса – «наметить марксистский подход к литературе» (стр. 7), внушить своим молодым слушателям «любовь к литературе, умение считаться с наследием прошлого не только как с каким-то проклятым мусором ненавистной старины, а как с целым рядом великих усилий мысли, чувства и фантазии, направленных к победе гуманных начал (положенных и в основу нашего современного социализма) над всякого рода тьмой» (стр. 8). В лекциях Луначарского сохранился пафос тех лет, когда они были прочитаны, выражено горячее желание помочь советской молодежи в осуществлении великой ленинской идеи освоения культуры прошлого как необходимой предпосылки для построения коммунистического будущего. «Весь смысл тех лекций, которые я вам читал, – сказал Луначарский, заканчивая последнюю лекцию, – заключается в том, чтобы хотя в некоторой степени помочь вам выполнить завет, оставленный вам Владимиром Ильичем. Владимир Ильич сказал: коммунист должен целиком овладеть культурой прошлого» (стр. 366).
Приводя примеры марксистского истолкования истории литературы, Луначарский насыщал свой курс важнейшими теоретическими положениями марксистско-ленинской эстетики, рассказывал о литературных вкусах Маркса, Энгельса и Ленина, об их активном отношении к литературной жизни. Он воспитывал вкус своей аудитории в духе эстетических идеалов социализма.
Соединение истории и теории в пределах одного небольшого курса составляет важнейшее достоинство лекций Луначарского.
Вспомним, что эти лекции читались в те годы, когда советская наука делала свои первые шаги в изучении западноевропейских литератур. В курсах, которые читались тогда в учебных заведениях, в работах, которые велись в научно-исследовательских учреждениях, еще сохранялись различные немарксистские теории. Методология культурно-исторической школы, наспех подкрашенная под марксизм, компаративистская методология, «формальный метод» еще имели широкое распространение, хотя уже велась борьба за коренную перестройку и преподавания и изучения литератур.
Какими пособиями располагала к началу 20-х годов советская высшая школа для изучения истории западноевропейской литературы? Старые курсы лекций Н. И. Стороженко, коллективная история западной литературы XIX века под редакцией Ф. Д. Батюшкова быстро и безнадежно устарели со своей методологией культурно-исторического типа, как и курсы лекций Де ла Барта, пытавшегося перенести на русскую почву в годы первой мировой войны новые веяния французского компаративизма. Многократно издававшиеся «Очерки по истории западноевропейской литературы» П. С. Когана были откровенно эклектичные в соединении того, что Коган заимствовал у известного датского литературоведа – позитивиста Брандеса, и того, что он привнес в изложение материала, увлекшись вульгарно-социологическими построениями. Более последователен в методологическом отношении был курс В. М. Фриче «Очерк развития западных литератур», тоже выдержавший к тому времени несколько изданий. Но эта последовательность была и слабой стороной книги, так как в ней весьма выразительно сказались вульгарно-социологические воззрения этого талантливого советского ученого.
Правда, в советских журналах и газетах к тому времени уже появились статьи молодых советских критиков – зачинателей марксистского изучения современной западноевропейской литературы. Но и на этом фоне книга Луначарского выделяется как крупное событие в истории советской науки: она противопоставляет культурно-историческим, компаративистским, формалистическим и вульгарно-социологическим концепциям опыт рассмотрения истории литературы в духе марксистско-ленинской методологии.
Что же относит Луначарский к важнейшим моментам истории западноевропейской литературы?
Окидывая общим взглядом панораму, намеченную в курсе, мы убеждаемся, что эти моменты Луначарский определяет, исходя из марксистского учения о смене общественных формаций в общем историческом развитии человечества. Он показывает, что именно было внесено каждой из формаций в общую сокровищницу человеческой культуры, в чем заключалась классовая сущность литературных явлений, рожденных той или иной формацией, и какое значение они имеют для строителей социализма. Он внушает своим слушателям необходимость критического, но очень заботливого, «хозяйского» восприятия культуры прошлого.
Наряду с общей характеристикой искусства рабовладельческого, феодального и буржуазного обществ Луначарский определяет специфику античного искусства и искусства средневекового, дает представление о сложности развития искусства в эпоху Возрождения, знакомит слушателей с барокко и классицизмом, рококо и сентиментализмом, раскрывает значение просветительского реализма XVIII века, указывает на многообразие романтического искусства, показывает ценность и своеобразие реализма XIX и XX веков. Он подвергает разносторонней критике декадентское искусство буржуазного общества, клонящегося к упадку, и завершает свой обзор рассмотрением тех явлений мировой литературы, которые развиваются под знаком социалистических идей. Луначарский учит свою аудиторию подходить с критерием историзма и к самым современным литературным явлениям, к литературе 20-х годов. Впервые в истории нашей науки он говорит о возникновении в западноевропейской литературе революционно-пролетарского течения и указывает на его историческую закономерность, на его великое будущее.
Политический темперамент ученого-большевика вдохновляет Луначарского на великолепные характеристики целых эпох в истории литературы. К литературному факту Луначарский подходит от фактов жизненных, общественных. Поэтому такое заметное место занимают в его лекциях краткие, но очень содержательные, очень живописные характеристики различных эпох. Вот как говорит он, например, об эпохе Шекспира: «Для того чтобы хорошенько понять Шекспира, надо. присмотреться к личности человека эпохи Возрождения, в частности англичанина того времени. Личность была в эту эпоху более свободной от всяких пут, чем когда бы то ни было ранее. Раньше родился ты крестьянином, слугой, цеховым мастером, мелкопоместным барином или знатным человеком, – и вся твоя жизнь точно расписана, всякий знал, как этому человеку надлежит жить. Целые поколения жили-были, как жили-были отцы, и никто из наезженной колеи не выходил. А тут все сошло с рельс, все перемешалось, стала строиться новая жизнь, начались революции, сопровождавшиеся большими народными бунтами и подлинной гражданской войной, заговорами, арестами, казнями. В таких социальных бурях совершался переход от феодально-земледельческой Англии к Англии капиталистической» (стр. 145). Эта выразительно и верно намеченная характеристика времени Шекспира, конечно, немало способствовала тому, что и все творчество великого английского писателя, «влюбленного в жизнь», по выражению Луначарского, рассматривалось в конкретно-историческом плане.