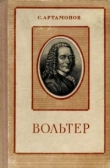Текст книги "Том 4. История западноевропейской литературы"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 45 страниц)
Такие произведения занимали главным образом первую часть жизни Байрона. К ним надо отнести и его поэму «Чайльд Гарольд». Это – вещь, которая имела большое и, можно даже сказать, определяющее значение на протяжении тридцати лет для европейской литературы.
В сущности говоря, «Чайльд Гарольд» не поэма, там нет последовательно развертываемой темы. В произведении этом изображается, как такой же барин, как и сам Байрон, в живописном плаще, имея немало денег в кармане, проклинает свою родину, коварную Англию, и уезжает странствовать по свету. В дивных стихах, лучезарными образами описываются разные местности, которые Чайльд Гарольд посещал. Среди удивительных по силе пейзажей и картин нравов он беспрестанно обращается к своей тоске, к своей обреченности, к тому, что его никто не понимает, разражается диатрибами, полными гнева против человеческого рода, которому приписывается ненавистная мораль и быт английского общества. И все это говорится с огромным красноречием, сверху вниз, в величавой позе. Здесь «высший человек» величаво громит несчастное «человеческое стадо».
Это произвело неотразимое впечатление. Почему? Дело в том, что всякий романтизм представлял собою продукт самоощущения тогдашних лучших людей, лучшей части тогдашней интеллигенции, – самоощущения их прежде всего как лишних людей. Некуда деться, некуда пристроиться, все пути заказаны! И они уходят в философские, религиозные и поэтические мечты или пытаются изо всех сил – во Франции это было возможно – трясти решетку той клетки, в которую они попали. В произведениях Байрона этот самый лишний человек оплакивал себя, страдал, но в то же время заявлял, что эти-де мои слезы, эти мои страдания – единственно ценное в мире. Я плачу и страдаю от того, что я гигант, а вы, карлики, хотите посадить меня в ваш мир. Я не могу его разрушить, он железный, у меня не хватает сил, чтобы его разбить, но все же я – гигант, головой касаюсь звезд, а вы остаетесь ничтожными паразитами. Я не признаю человека, я вышел из всяких орбит вашего человеческого общества, из всяких норм вашего существования. Мы – разные породы. И чем больше я скорблю, и чем больше я бесплоден, тем это большее доказательство того, насколько я перерос землю и земные условия. Великим людям не жить с остальным человечеством, великим людям нельзя уместиться на земле, и единственное, что отвечает хотя бы сколько-нибудь моим страстям, – это природа или, может быть, моя страсть к женщине. Но и женщина обыкновенно не может быть на такой же высоте, и поэтому вскоре следует разочарование. Лучшая женщина – это та, которая ближе к природе, какая-нибудь цыганка, какая-нибудь дикарка, не претендующая на высшую культурность, а просто красивая, как красив лес и ландыш, – ее можно любить, как часть природы.
Это крайне выигрышная, утешительная для ее носителя идея. Несколько позднее передовые люди ее очень сильно и правильно осуждали. Это о «Чайльд Гарольде» и его подражателях говорил Некрасов, что он «по свету рыщет, – дела себе исполинского ищет, благо, наследство богатых отцов освободило от мелких трудов» 3 .
Среди бесчисленного количества людей этого типа были и бедные интеллигенты; путешествовать им было не на что, чайльд-гарольдовский плащ их был очень дыряв, но внутренняя гордыня в них не была сломлена. Они в этом возвеличении романтической, героической личности искали себе выхода.
Чайльд Гарольд прошел большую дорогу в истории культуры. Особенно интересно проследить его эволюцию в русской литературе, где сначала появляется Онегин – ведь это и есть «москвич в Гарольдовом плаще» 4 , лишний человек, – затем Печорин, со всем его загадочным скептицизмом. Эта же личность переходит затем в критически мыслящую личность Лаврова 5 , родоначальника интеллигентского революционного движения в России, – как только появились возможности приложить свои силы к делу и началось искание основ для политической борьбы, которая докатила свои плодотворные результаты вплоть до современного пролетарского революционного движения, при зарождении которого эти революционные бациллы протестующей интеллигенции сыграли более или менее значительную роль.
История революции не может быть написана, если мы не поймем, как интеллигент-революционер определял себя во время Великой французской революции, как он был в то время разбит, как он вследствие этого рухнул в фантастику, мистику, растекся грезами, – хотя и превосходными, в которых сказывались его талантливость и его глубокий идеализм, но совершенно уводящими от жизни, – и как вместе с тем он, наконец, в известной своей части, занял позицию революционную.
Гордыня, неуступчивость, отказ от компромисса – это большая заслуга байронизма. Русские ученики Байрона – Пушкин и Лермонтов – были в этом отношении в известной степени учителями русской интеллигенции. Хотя байронизм проявлялся у них в задрапированной велеречивости, он тем не менее много способствовал тому, что оба эти поэта в конечном счете были положительными учителями нашей общественности и оставили после себя плодотворный след.
Во второй период своей деятельности Байрон мощно развился в глубину. Первые его произведения дали целые снопы света, почти неиссякаемый материал для разных подражателей, создали определенную моду, но были до некоторой степени поверхностными. А такие вещи, как «Еврейские мелодии», как «Тьма» и «Шильонский узник», – уже настоящие шедевры. О «Еврейских мелодиях» скажу только, что здесь Байрон, ища восточных грандиозных мотивов, наткнулся на еврейские песни, разбросанные в Библии, и перевел их в английские гимны. «Тьма» переведена на русский язык Тургеневым. Это – апокалипсическое видение крушения мира, написанное с огромным пафосом, с колоссальной мощью. «Шильонский узник» переведен на русский язык Жуковским, и переведен хорошо. Сколько там жажды свободы, сколько там проклятия тюремщикам и как удивителен конец, когда Шильонский узник, получивши свободу, оглядывается на свои цепи и на свою тюрьму и чувствует, что он к ним привык, что какая-то связь создалась между ним и ими. По удивительной гамме человеческих переживаний и богатству образов это произведение навсегда останется одним из первых в мировой литературе.
Затем, в этот же период своей деятельности, Байрон создал два шедевра, которые не только не забываются, но составляют предмет все новых обсуждений. Это – «Манфред» и «Каин». То, что в «Чайльд Гарольде» почти смешно, в «Манфреде» становится действительно грандиозным. Гёте находил, что «Манфред» есть какое-то перелицевание Фауста; 6 но «Манфред» гораздо уже Фауста. Для нас Фауст гораздо более приемлем. Вспомните, как развивается трагедия Гёте. Фауст, разочарованный в схоластической науке и мудрости, которой отдал всю свою жизнь, очутился перед разбитым корытом; он жаждет уйти от реальной жизни. Мефистофель старается примирить философа с этой жизнью, но мы видим в Фаусте все ту же жажду высшего, более прекрасного. И он находит успокоение лишь в социальном строительстве. Он отвоевывает землю у моря, он поселяет там свободный народ, он завещает ему отстаивать свою свободу и говорит, что человек, возродивший себя в лице растущего человечества, есть настоящий человек. И когда он видит, что все расцвело вокруг него, что он привел человечество к счастью, тогда только он говорит: стой, мгновенье! Гете учит, что в этом и есть настоящий залог победы человечества, вечно идущего вперед. В этом смысле «Фауст» есть великая проповедь активности. Гёте, опережая значительно свой век, дал в Фаусте социального героя. В этом смысле «Фауст» есть, пожалуй, самое яркое, что мы имеем до последнего времени в области социальной поэзии.
В «Манфреде» герой ничего не хочет, он знает, что ему предстоит крушение. Но Манфред не сдается ни природе, ни духам, ничему существующему вне его. Это – человек невероятной гордыни. Рисует его Байрон довольно загадочно и довольно невнятно. У него было какое-то тяжелое прошлое, какое-то преступление, в котором он кается, какие-то отношения к какой-то женщине, – все это, несмотря на ряд работ комментаторов, трудно привести в ясность. Мы видим только большого человека с огромной волей, мага, то есть человека, мудрость которого сказочна и привела его к тому, что он доминирует в некоторой степени над природой и духами. Но лицо его всегда искажено гримасой горячих страданий. Он чувствует, что не годится для мира и мир не годится для него. Он мечется, предвидя свою гибель, все презирая, кроме чисто внешней красоты природы. И мы видим умирание такого человека, который не хочет подчиниться ни богу, ни смерти, ни чести, хочет остаться до конца абсолютно непокорным. Это – поэма замкнутой в себе гордыни.
Если поставить вопрос социально – для чего это было нужно и Байрону и группе, которую Байрон выражал, то можно сказать: лучший человек, интеллигент, окруженный со всех сторон морозом реакции и ужасом тогдашней послереволюционной жизни, в этой гордости себя консервировал, закупоривал себя от воздействия вредной ему среды. Интеллигенция уходила в себя, закостеневала в позе неприятия мира и не желала заключать никакого компромисса с ним, а мечтала о том, что добьется когда-нибудь хотя бы моральной победы.
Между прочим, маленькие «манфредики» – в высокой степени отвратительные существа: их расплодилось тогда много, встречаются они даже и теперь в Советской России, несмотря на полное изменение всей социальной жизни. Это такие люди, которые играют в гордыню, в загадочность. Из-за этих отвратительных типов, «манфредиков», на весь байронизм лег отпечаток несколько иронического отношения со стороны последующих поколений, так как в их время золотые монеты Байрона разменивались уже на медяки. Если при этой внешней гордости и недоступности внутри человека нет ничего, то все это становится пустейшей и пошлейшей позой.
«Каин» идет в этом направлении еще дальше. Это – уже протест против бога. Байрон совершенно переиначивает и переоценивает всю библейскую историю. Он выводит Каина таким, каким он сам, Байрон, чувствовал бы себя на его месте. Это – человек глубокой мысли, который спрашивает: для чего создан мир, справедливы ли устои этого мира? В то время как Адам, Ева и Авель успокаиваются на том, что господь так создал, стало быть, все – благо, Каина не удовлетворяет этот ответ. Он хочет получить ответ перед лицом своего собственного разума, что значит бытие? Почему есть верх и низ, почему есть бог, которому нужно служить, почему есть в жизни боль, скорбь, смерть? Ему нужно все знать. И когда он пытливо ищет и знания этой действительности и оценки ее, то приходит к выводу, что оценку, пожалуй, приходится сделать отрицательную и признать, что бог сам преступник, раз создал такой отвратительный мир. Он осуждает творца за его творение. Ему навстречу приходит дьявол, Люцифер, который чувствует в Каине родственную душу и предлагает ему заключить с собою союз. Союз этот заключается, и Люцифер вместе с Каином отправляется по всяким фантастическим мирам, описанием которых Байрон пользуется, чтобы развернуть целую пессимистическую философию. Здесь – критика и пространства, и времени, и законов природы, которая показывает нелепость мира и законность протеста против него. И тут уже дело идет не о протесте против общественной неправды; Байрон хочет подняться до мироосуждения, до опорочения самого бытия.
Какой же вывод можно сделать из мироосуждения вообще? Маркс сделал такой вывод, что надо истолковывать мир именно для того, чтобы переделывать 7 . Но в силах ли человечество переделывать его, и подходящий ли это материал? Мы знаем, что материал богатый и человек может его по-своему переделать. До такого оптимистического, основанного на знании взгляда не может дойти Каин, который просто обрушивается на нелепость бытия. Бог – это злобное существо; Люцифер – существо более доброе, более разумное, он протестует, но не в силах что-либо сделать. Люди делятся на божью скотинку, на божьих коровок и на сатанических людей. Но эти последние могут только скорбеть, бесплодно скорбеть, так что выхода ни для кого нет.
Здесь нет мысли о том, что человек есть творческая сила. Но это все же революционное произведение, замахнувшееся на бога, на всякое представление о добре и зле. Оно дало большой толчок протестующей мысли. И, кто знает, – может быть, великие революционеры Маркс, Лассаль, когда были еще мальчиками, читали «Каина» и получили от этой поэмы первый толчок к критике всего существующего. Надо сказать, что в «Каине» слишком много рассуждений, затрудняющих чтение, и для нас они уже не все нужны. Его следует прочесть, чтобы познакомиться с этой великолепной критикой, но нельзя думать, что от этого мы получим какой-нибудь реальный плюс. Можно сказать, что и все вещи Байрона должны быть исторически переоценены; но влияние его в ту эпоху было благотворно. Протест его был красив, и много душ он поддержал и удержал от компромисса, от перехода в мещанство. Он долго сиял, как красная звезда на небе, мешая поддаться разлагающему влиянию среды. Но все же теперь мы должны учитывать его сочинения скорее как величину историческую, чем как величину для нас живую.
Совершенно другая фаза развития Байрона ознаменовалась поэмой «Дон Жуан». Пушкин и Лермонтов вышли из байроновского романтизма, но к концу жизни начали переходить к реализму. Такой же путь был пройден и самим Байроном. Дон Жуан – это просто «молодой человек приятной наружности», довольно милый, довольно добродушный, не очень умный, не лишенный благородства. Приключения его происходят в Испании, Турции, России, и рассказ о них дает Байрону возможность рисовать картины общественной жизни, начиная с самых интимных ее сторон и кончая широкими политическими. «Дон Жуан» – очень интересный роман с целым рядом веселых перипетий, большею частью смешных и пересыпанных, как цветами, огромным количеством афоризмов, замечаний, исторических справок, песенок, портретов и т. д. Байрон постоянно отходит в нем от своего главного сюжета, делает громадные экскурсии в сторону и остается все время настолько блестящим, искрометным, что каждая глава, которая выходила в свет, вызывала восторг.
В этой поэме Байрон (уже шедший к своей смерти, но вместе с тем достигший расцвета) выявляет такое фейерверочное остроумие, иронию и веселость, какой от него не ждали. Странно, что в «Дон Жуане» нет и следов его обычной скорби, как будто бы он сделал какое-то усилие над собой и перешел от вечной борьбы с обществом, борьбы тяжелой, полной ненависти, к осмеянию – к великому осмеянию сверху вниз.
К сожалению, поэма осталась неоконченной, она была прервана смертью Байрона и, таким образом, осталась рядом замечательных эпизодов.
Шелли родился в 1792 году, умер (утонул) в 1822 году, следовательно, прожил всего тридцать лет. За десять лет своей литературной работы он сделался одним из величайших поэтов мировой литературы. (Большинство его вещей переведено на русский язык Бальмонтом, переведено хорошо, хотя неточно.)
Шелли жил в ту же эпоху английской истории, что и Байрон, но он не был барином, а происходил из среднего слоя.
Точно так же, как и Байрон, он был необычайно чуток и восприимчив. Кто из англичан не мог примириться с лицемерием общественного уклада? Конечно, самые благородные и чуткие люди, разбуженные Французской революцией. Революция встряхнула Европу и оставила по себе могучие следы, которые определили жизнь этих людей, родившихся в самую эпоху революции, живших под обаянием ее идей и под знаком разочарования вследствие ее крушения.
Шелли развился под влиянием французских идей. Он проникся убеждением, что тирания есть корень всяческого зла и что человечество должно быть свободно. Быть несвободным и оставлять других несвободными – это позор. Шелли пропитался этим революционным воззрением.
Вместе с тем это был удивительный поэт, влюбленный в природу гораздо больше, чем Байрон. Он не верил, что природа есть подножье божье и что бог создал природу из ничего. У него родился протест и против этой потусторонней тирании. Уже в колледже, еще молодым учеником, школяром, он написал трактат «Необходимость атеизма». Это – глубоко атеистическая книжка. В целом ряде тезисов, в высокой степени убедительных, он доказывал, что нельзя признавать высшей власти ни в природе, ни в обществе. Само собою разумеется, все «общественное мнение» всколыхнулось. Шелли выгнали из учебного заведения и стали говорить, что это – человек злонамеренный, в высшей степени вредный, от которого нужно держаться подальше. Началась обычная в Англии история. Человек нежной души, очень обидчивый и гордый, замыкается еще больше и начинает отвечать обществу дерзостями. Общество травит его, как преступника. И Шелли погублен.
У него и личная жизнь сложилась чрезвычайно странно, опять-таки в значительной степени под давлением общества. Он сначала женился только потому, что ему казалось, что женщина эта несчастна. Шелли, рыцарственно настроенному, взбрело в голову, что ее обижают и он должен ее защитить. Оказалось, что они были неподходящими друг к другу по характеру. Они разошлись. В то же время происходил разрыв Шелли с обществом, которое считало его человеком подозрительным и даже преступником. Когда он женился вторично – на Мери Годвин, которая действительно была нежной, преданной ему подругой, – общество почло это за величайшее оскорбление нравов и церкви. Он попросил отдать ему детей от первой жены, покончившей вследствие какого-то несчастливого романа самоубийством. Ему отказали в этом. Английское «свободное общественное мнение» заявило, что так как он человек безнравственный, что видно из его сочинений, то ему вообще отцом быть не следует.
Тогда Шелли пришло в голову, что у него и маленьких детей от Мери Годвин также отнимут. Вместе с женой и маленькими детьми он бежал из Англии – притом не так, как Байрон, не для того, чтобы странствовать, а потому, что чувствовал себя в опасности.
Уехал он в Италию. Его отлучили от церкви, английская публицистика и английская полиция заявили, что он утерял всякие права гражданства и даже всякие права на человеческое достоинство. Когда один английский писатель посетил его в Италии, он ожидал увидеть настоящее чудовище. Ведь о нем говорили, что он что-то вроде антихриста! И писатель этот был совершенно поражен, увидев не дьявола, а скорее ангела 8 . Действительно, Шелли был необычайно красив; его лицо преисполнено доброты, нежности и кротости, – лицо, которым можно любоваться, как прелестной картиной (правда, в этом лице не было энергии, мужественности, скорее это – женственно-прекрасное лицо).
Изгнанник Шелли бедствовал, всегда недоедал, всегда возился с изданием своих сочинений и не находил издателей. В 1816 году он познакомился с Байроном, который сразу понял его огромное поэтическое дарование, благородную натуру. Байрон признавал его поэтом более великим, чем он сам. Шелли, в свою очередь, ценил Байрона чрезвычайно высоко и написал роман, в котором описывает их. взаимоотношения в чрезвычайно поэтическом виде 9 . Они нашли друг в друге опору и поддержку, в особенности Шелли в Байроне, потому что Байрон всегда стоял крепко на ногах и не боялся общества.
То обстоятельство, что Байрон судил о Шелли как о великом поэте, могло иметь большое значение и могло бы способствовать его признанию. Но Шелли очень скоро после того, как сдружился с Байроном и под его влиянием написал несколько более крупных и менее расплывчатых чем обычно произведений, утонул в бурю во время небольшого путешествия в лодке по Средиземному морю.
Произведения Шелли чрезвычайно интересны, прежде всего лирика. Но в ней вы не найдете много революционных откликов; это – главным образом прелестные воздушно-мечтательные описания природы. Вся природа у Шелли приобретает характер изменчивый, полный метаморфоз, моментов, переходящих один в другой. Лучшее его произведение – «Облако», в котором он описывает все перемены в тонах и формах тучки. И вся природа представляется ему в виде красивого калейдоскопа, она развертывается в его произведениях всегда полная настроений, мерцающих красот и тайн. Многие считают Шелли величайшим лириком на свете.
«Восстание Ислама» – романтическое произведение, на наш взгляд, несколько смешное. Действие происходит во время Великой французской революции, с байроновскими восточными типами, вмешанными в ее гущу.
Драма «Ченчи» – история тирана из эпохи итальянского Возрождения. Этот сеньор влюблен в свою собственную дочь и употребляет все средства, чтобы добиться обладания ею. Дочь, несмотря на то что это кроткая, милая девушка, должна была убить отца в самозащите и была за это казнена. Шелли чувствовал что-то родственное с этим загнанным существом, которое, будучи кротким по существу, идет на такое преступление, как отцеубийство, потому что до этого довел ее тиран.
Наконец, шедевр Шелли – это «Освобожденный Прометей» (переведен на русский язык Бальмонтом).
Я рассказывал вам про Эсхилова Прометея, который похитил огонь с неба для того, чтобы дать его людям. Вы помните, как за это Зевс приковал его к скалам Кавказа и посылал коршунов, которые терзали его. Зевс знал, что Прометей опасен для него тем, что предвидит будущее и знает какую-то комбинацию сил, которая может погубить Зевса. Поэтому Зевс старался выпытать тайну Прометея. Но Прометей гордо молчал. Мы знаем, что Эсхил потом повернул на примирение – Прометей рассказывает все Зевсу, Зевс прощает его, и все кончается гармонией. Эсхил в то время не хотел быть революционером. Революционна трагедия Эсхила только в первой, дошедшей до нас части.
Совершенно другое у Шелли. Шелли делает предсказание, что через несколько веков произойдет великая космическая революция. Он предвидит, что люди разобьют цепи всяческой тирании. Эта революция освободит мысль человека и весь мир от всякой зависимости от бога, от идеи потустороннего мира, от всяких предписаний морали и каких бы то ни было физических и духовных пут. Это – преображение природы. Конечно, в этой поэме мы не найдем научного или точного выражения того, как мы можем представить себе эту грядущую мировую революцию. Все взято сквозь туман, все выражено в образах, полных пафоса и символов, в образах мифических, очень далеких как будто бы от жизни. Но внутренний смысл глубоко революционен. Вся поэма проникнута горячим энтузиазмом. Вся она звучит как триумфальный марш.
Творчество немецкого поэта Генриха Гейне является переходным моментом от романтики к реализму. Родился Гейне в 1797 году, умер в 1856 году, то есть прожил всю первую половину XIX столетия и на восемь лет пережил революцию 48-го года.
Одним из оружий романтиков была ирония по отношению к миру, некоторая насмешка над бытом, над добродетелью, над истинами, которыми руководится обыватель, Эта ирония иногда переходила в пафос, в торжественное противопоставление своей души всей этой обывательской мелочности; иногда она носила характер юмора или сатиры, как, например, у Гофмана. Романтик как бы говорил про себя: я гораздо умнее и гораздо лучше того, что меня окружает. И так как у меня нет оружия, которым я мог бы сражаться и изменять действительность, мне остается только подтрунивать над ней и над тем, что окружающие считают святым.
Гейне был, так сказать, иронист в квадрате. Он находил, что смешнее всех сами романтики. Гейне сознавал, что вокруг него начинается живая жизнь, что слышны революционные громы, что все сдвинулось с места; слышалась уже и железная поступь Бисмарка, империализма. Гейне чувствовал, что скоро придут мускулистые люди, которые будут не мечтать, а работать, и ему казалась очень смешной фигура мечтателя, который ставит себя выше людей и иронизирует над ними. Множество страниц у Гейне направлено как раз против романтиков, причем с особенной злобой он бьет их за бесплотность и бесплодность, за то, что они утеряли чувство действительности, подменили реальность фразами и расплывчатыми видениями. Когда он переходит к их мистике, к их церковщине, тут уже нет конца сарказмам.
Но сам он все-таки был романтиком, так как не мог найти реальных, творческих, боевых выходов. Он был под давлением тех же обстоятельств, которые заставляли романтиков быть мечтателями. Ему тоже хотелось вырваться из этой душной обстановки хотя бы в мечтах, и он часто мечтал. Но вдруг он выливает на себя и на читателя холодный душ. Вдруг из мечтателя он превращается в паяца, хохочет и дает почувствовать, что все эти мечты – чепуха в сравнении с жизнью.
Этот критический ум, эта самоиздевка придают особенный привкус его произведениям. Вряд ли есть хоть одно произведение Гейне, где бы он выдержал до конца лирический тон. Начинается с лунного света, с нежных трепетов сердца, – и вдруг он высовывает язык, делает почти неприличный жест, смеется над собою и над читателем.
В нем жила сильнейшая жажда реальной любви, реального успеха, реальной борьбы. Он говорит, что людям сладкий горошек важнее вечного блаженства и что небо надо оставить богам и воробьям 10 . Все выспреннее раздражает его. Грезам и химерам он предпочитает вкусное, сладкое, пышное и вместе с тем справедливое, братское, гармоническое, здоровое, земное. Он ухватился за социализм потому, что считал, будто его программа заключается в том, чтобы люди утопали в наслаждении. Если он примыкал к социализму, то к какому-то чрезвычайно утопическому. Но серьезно-то он и в это не верил и направлял иронию и против социалистов. Он часто говорил: вся эта борьба за будущее – не химера ли и это?
Когда Гейне встретился с Вейтлингом и тот рассказал, что в течение нескольких лет пробыл в кандалах в тюрьме, он в ужасе отшатнулся 11 . Ему казалось страшной вещью, чтобы человек пошел на такие страдания ради «химеры». Сам он этого не мог.
Он был слишком веселый человек, слишком любил жизнь, чтобы отдать себя для вещей пока еще гадательных. И вообще о революционерах он говорил несколько иронически и указывал на то, что он, поэт бесконечно утонченный, вращающийся в мире высших ценностей, странно себя чувствует с такими плохо одетыми, малообразованными фанатиками; конечно, это самые лучшие люди, но в них есть некоторая грубость, неуклюжесть, туповатость, дубоватость, потому-де он и к ним относится иронически.
И еще одно обстоятельство отталкивало его от социализма. Он страшно боялся, что социализм, как царство бедных, отринет всякую культуру, что в нем невозможно будет никакое искусство, что этот строй просто повыбрасывает из музеев все, что там имеется, и устроит вместо них какой-нибудь детский дом, займется главным образом прозаической заботой – о пище, питье и одежде, а не высокими ценностями. Это будет крахом. Не будет тогда невежества, не будет голытьбы, не будет голода, но не будет и утонченности, не будет и роскоши. Поэтому так хотелось ему противопоставить социальному равенству какой-то пышно раскрашенный идеал социализма. Однако Гейне с восторгом относился к Марксу, называл его величайшим пророком рабочего класса, читал с восхищением все, что выходило из-под его пера, а после свидания с Лассалем написал восторженное письмо, в котором говорил, что идут-де грядущие на смену нам, великолепно знающие жизнь, практически умеющие к ней подойти люди, у которых есть программа, подлежащая выполнению 12 .
Словом, Гейне – человек, который колеблется между двумя мирами и не умеет отдать ни тому, ни другому всего своего сердца.
И в отношении религии у него было странное колебание. Он был сначала атеистом (вернее, пантеистом). В высокой степени остроумно, почти с вольтеровским остроумием, он издевался над всякой религиозностью, над всякой церковщиной.
Но к концу жизни он тяжело заболел болезнью спинного мозга, приковавшей его на много лет к постели. В то время он опять обратился к богу. Он пишет, что, подумавши хорошенько, он решил, что как-то удобнее с богом-отцом 13 . Но и здесь во всем сквозит ирония, неверие. И, может быть, религия занимала у него место рядом с более мягким матрацем. Ему, больному человеку, удобнее с богом, а есть он или нет – это почти безразлично.
Многие считают Гейне глубоко безнравственным и этой безнравственностью, беспринципностью объясняют его разорванность. Но это не безнравственность. Просто стоял он на таком социальном месте.
Гейне – первый импрессионист и первый моменталист. В его мелких стихотворениях необыкновенно сильно, необыкновенно остро схвачены чувства, и большие произведения его – это сверкающая груда отдельных бриллиантов. Он никогда не заботился о построении, а одну за другой давал вспышки, блестки. Чувства его были разорваны; он мог любить и тут же и иронизировать над тем, что любит. И мысли его тоже были разорваны, – он мог утверждать сейчас одно, а потом прямо противоположное.
Поэтому во всем у него какая-то невероятная внутренняя свобода, переходящая в беспринципность.
Скрябин сказал, что самое очаровательное, что есть в искусстве, – это полная свобода. Я чувствую себя творцом и богом, когда создаю какую-нибудь музыкальную поэму и знаю, что могу ее изменить, могу заставить ее смеяться и плакать, совершенно переменить все ее формы и т. д. 14 .
Нечто подобное вы чувствуете и у Гейне, хотя я не помню, чтобы он говорил, что наслаждается такой свободой. Наоборот, Гейне страдал. Он говорит в одном месте, что через его сердце прошла какая-то трещина, которая разделяет мир, – «вот отчего мое сердце болит» 15 . Он понимал, что он больной человек, он завидовал людям, которые имеют прочные убеждения, хотя и подтрунивал над ними. Он говорил, что можно разделить всех людей на «иудеев» и «эллинов» 16 . «Иудеи» – это люди, которые верят во что-нибудь высокое, будь это Иегова или социализм, и всю сбою жизнь этому отдают. Для них неинтересен их день: прогулки, любовь, вообще повседневная жизнь, самая их личность, им интересно только высчитывать, приблизились ли они или отдалились от заветного идеала. Они по одной линии выстраивают все свое существо. А эллинская натура не такая. Для нее не важна какая-то цель, которой нужно служить. «Эллины» заботятся только о том, чтобы каждый день был красив, чтобы строить свою жизнь как произведение искусства. Гейне говорил: хотя я и еврей по племени, но по натуре эллин. Но за его эпикурейством иногда слышалась настоящая дрожь обиды в голосе, чувствовалось, что веселье его не настоящее, вы видите в нем страдания часто от того именно, что неустойчива была ось, вокруг которой он вращался.
И в личных его отношениях, в его любви к женщинам, в дружбе было также много иронии. Он слишком легко видел оборотную сторону всякого явления, слишком хорошо видел он во всем недостатки. И это скоро его расхолаживало. Он мучился этим раздвоением, но оно делало для него доступными всякие краски, всякие чувства, освобождало его от обычной ограниченности. Он – великий виртуоз. Можно было бы понять некоторые его произведения как намеренное виртуозничанье, если бы это была только формальная игра. Но когда он описывает какую-нибудь страсть, то описывает ее так, что вас хватает за сердце; когда он шутит, вы хохочете; когда берется за философские рассуждения, – проявляет огромную глубину знания и умения формулировать. Его «История германской философии» 17 , небольшая книжка, является драгоценнейшим пособием для изучения германской философии.