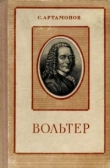Текст книги "Том 4. История западноевропейской литературы"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
В «Свадьбе Фигаро» мы видим уже другое. Граф Альмавива живет со своею Розиной, которую добыл ему в первой комедии Фигаро. Состоя в услужении у графа, Фигаро хочет жениться на хорошенькой горничной Сюзанне, но Альмавива покушается на его невесту. Фигаро в таком положении, что он должен склониться перед волею барина, который вправе сорвать цветок, ему трудно бороться, у него нет никаких ресурсов, кроме изворотливости ума. И вот на сцене изображается, как Фигаро ловкостью и хитростью добивается того, что Сюзанна остается за ним, а барин оказывается в глупом положении. Фигаро его побеждает. Кроме того, Фигаро произносит речи, высказывает взгляды на дворянство и буржуазию, развивает почти революционную агитацию. Но это было до такой степени весело и шутовски сделано, что многие не замечали революционного момента пьесы. Даже Мария-Антуанетта нашла, что это очень веселая комедия, сама участвовала в ее постановке и играла в пьесе роль Сюзанны. Это является показателем того, как эзоповский язык бывал полезен. Сама королева разыгрывала эту пьесу, а ведь это значит, что ее могут играть и все. И началось столпотворение. Публика ломилась на «Свадьбу Фигаро», смотрела ее с громадным наслаждением, покрывала взрывами аплодисментов все выходки Фигаро.
С тех пор Фигаро должен был бы стать представителем революции, человеком, который бросает свой свист в лицо всякому чванству, лицемерию, ханжеству. Нужно было бы, чтобы он остался таким. Но сейчас именем «Фигаро» называется одна довольно грязная газета французская, занимающаяся часто шантажом. Был случай, когда жена министра Кайо, одного из радикалов, убила редактора этой газеты за грязное преследование ее мужа с использованием украденных писем. Тем не менее в этой газете тот же самый Фигаро со своими насмешливыми глазками и всегда смеющимся ртом подсвистывает тому, что делается в мире. Но теперь это человек, который имеет акции в разных банках и служит крупной буржуазии целиком, защищает ее консерватизм. «Фигаро» – это консервативный и, внешним образом, лицемерно, наиболее степенный орган всей французской прессы. И можно сказать, что Фигаро как тип именно так и выродился. Тип Фигаро появился как представитель буржуазии на заре ее жизни, а затем он приобретает и дома, и акции, и живет со своею Сюзанной добропорядочной жизнью, являясь каким-нибудь адвокатом по буржуазным делам, получающим громадные гонорары. Фигаро нашел свой буржуазный фарватер.
Во всяком случае, «Свадьба Фигаро» была по тому времени чрезвычайно революционной пьесой. И сейчас нельзя без смеха видеть всю эту живую сатиру на тогдашнее общество.
Бомарше написал затем третью вещь – «Преступная мать», которая представляла собою слезливую мелодраму. Тогда впервые театр переносил центр внимания на буржуазную семью.
Такова в общих чертах дореволюционная литература. Во время самой революции литература во Франции как бы заснула. Нельзя назвать почти ни одного крупного писателя за этот период. Писавших было много. Писал Ретиф де ля Бретонн, младший Шенье, Луве, но все это была второстепенная литература конца XVIII века. Художественная литература побледнела.
Жил, правда, в это время великий поэт Андре Шенье, но он был далек от жизни. Он не хотел связывать свою судьбу ни с аристократией, ни с демократией, не входил в революцию. Это был напуганный мягкий интеллигент, который старался уйти в область античных мифов, воскресить образы Древней Греции. Он был мастером формы. Но этот чистый художник и барич от искусства, когда развернулась революция, бешено восстал против нее. Он бросил несколько памфлетов в лицо якобинцам и был за это казнен. Эту казнь обыкновенно ставят революции в упрек. Но что делать! Поэтический талант отнюдь не является такой броней, которая давала бы поэту право безнаказанно вести белогвардейские интриги. Андре Шенье был, в сущности, так же виновен перед своей республикой, как поэт Гумилев перед нашей. И в этих случаях меч правосудия республики, выполняя великую службу по ее обороне, не может не опускаться и на головы талантливых людей. Французская революция, – об этом можно сказать только со скорбью, – вынуждена была не только казнить крупного поэта Андре Шенье, но и одного из величайших гениев науки – Лавуазье.
Брат этого Шенье был крупным поэтом-якобинцем (потом, впрочем, он пошел вслед за Наполеоном). Он создавал тенденциозные драмы, которые интересно читать, как и драмы его подражателей, для изучения того, как Французская революция старалась создать агитационный театр. Но в них ничего талантливого нет. Я очень долго думал, что это буржуазная клевета. Казалось, что должен был в эпоху революции создаться интересный агиттеатр, – ведь он имел тогда большой успех. Но, за исключением отдельных блестящих штрихов, я ничего там не нашел. Я перечитал порядочное количество пьес, но из них ничего ставить нельзя. Они грубо тенденциозны и довольно бездарны.
Не совсем так было в других областях искусства. Если в области литературы революция дала толчок только всем своим размахом, а образцов не создала, то нечто вроде образцов создала она в других областях искусства. Во-первых, революция продолжила стиль Людовика XVI и окончательно возродила строгий стиль – стиль добропорядочной, добродетельной жизни. Где можно было найти такой стиль, который был бы изящен и строг? Его можно было найти в лучшие времена античной жизни. Поэтому устремились к Греции и Риму, республиканскому Риму, с его господством буржуазных, вернее, частно-земледельческих классов, с его строгим обиходом, строгими экономными одеждами и солидными рационализированными постройками. Это было новое возрождение Рима. Всякий раз как буржуазия торжествует, она стремится найти образец в прошлом. Мы уже говорили, что в библейский наряд оделась английская революция XVII века. Буржуазная революция XVIII века во Франции оделась в римскую тогу. Ей не нужна была Библия, которая была ее противником, идеи которой она в известной степени отвергла; ей нужен был языческий Рим. В Риме были левые партии, и Бабёф назвал себя Каем Гракхом в честь братьев Гракхов, – на традиции и имена этих плебеев старались опереться республиканцы-якобинцы после одержанной ими победы.
В кратких чертах остановлюсь на характере народных празднеств во время Французской революции. Народные празднества были очень важным проявлением тогдашнего стиля. Младший брат Шенье, который перешел на сторону революции, и художник Давид очень много таланта затратили именно на то, чтобы создавать эти народные празднества, на которых, как выражался Робеспьер, народ дает спектакль самому себе 19 . В этом отношении нам можно многому у них поучиться. Они устраивали гигантские хоры, они очень удачно умели строить соответственные смыслу праздника временные здания, арки, трибуны, которые являлись центром празднеств. Вырабатывался церемониал, чтобы придать разнообразие и символически выразить смысл данного празднества. Устраивались и торжественные похоронные шествия, когда умирали вожди, празднества в дни тревоги и празднества, выражающие радость по поводу различных юбилеев, и т. д. Очень много такого есть у нас, но мы не умеем так организовать эти торжества, хотя у нас самая масса больше организована, чем тогда. Нам, конечно, нужно превзойти в этом отношении Французскую революцию. Вся тогдашняя интеллигенция помогала им в этом отношении чрезвычайно усердно – младший Шенье придумывал текст, Давид в своих картинах давал образцы новой конструкции. Целый ряд музыкантов – Керубини, Мегюль – давали музыку. И очень характерно, что Бетховен в 9-й симфонии отчасти воспользовался характером музыки этих празднеств, – в ней изображается такое гигантское народное празднество. Вот в этих искусствах – в музыке, в народных празднествах, в стиле зданий, мебели – революцией дан был толчок к дальнейшему.
В дальнейшем революция выродилась. Следующей за революцией эпохой была буржуазная империя. Империя Наполеона I старалась не порвать с буржуазными тенденциями революции, а как бы продолжать их, и это было естественно, так как Наполеон мог сказать: как Цезарь вышел из Римской республики, так я из Французской. Но Наполеон был буржуазным монархом. Без рода и племени, выдвинутый революцией, объявивший войну всем венценосцам прошлого, опираясь целиком на свою мелкобуржуазную армию и на буржуазные слои, на ту силу, которую народ сам выдвинул и которая стала самодовлеющею силою, Наполеон был своеобразным продуктом буржуазной революции.
Всякая армия, противопоставляющая себя гражданскому населению, заботясь о своей собственной выгоде, стремилась свой штаб и своего полководца сделать господином судеб страны, и этому было трудно сопротивляться. Для того чтобы такого перерождения не было, надо, чтобы армия постоянно жила жизнью народа. Во Франции этого не было. Их синяя армия 20 стала самодовлеющей армией, которая стала грабить за пределами Франции, и эта грабительская самодовлеющая сила подавляла свободу в своей собственной стране, выдвинув своего любимца, своего маленького капрала на пост повелителя Европы. И так как это был талантливый человек – ведь там подбор из офицеров и генералов был большой, – то он достиг неслыханного успеха.
Он не хотел рвать с революцией и многие революционные традиции продолжал. Он вносил в дело настоящий революционный порядок, осуществлял идеалы средней буржуазии, – только оружием. Поэтому при нем стиль революции развернулся с большим блеском и большой пышностью и серьезностью. Нужно было импонировать народу величием своим, величием бога войны. Наполеон строил много зданий, триумфальные арки, колоннады, дворцы для себя, и все это в стиле, дышащем пышностью, солидностью, прочностью и серьезностью Римской империи лучших ее времен. Так создался стиль ампир. И потом целый ряд монархов, вплоть до наших Павла и Александра I, старались подражать стилю не Людовика XIV, а именно наполеоновскому. Ленинград украшен замечательными зданиями в этом стиле, воссоздающем римские архитектурные традиции своей импозантностью, организованностью. Этот стиль выражает силу военной и государственной организации буржуазии против дворянства, с одной стороны (во Франции), и помещиков против низов – с другой (в царской России). И мы вполне можем представить подобный же стиль как выражение организованного, действительно свободного народа. Во всяком случае, несомненно, что архитектура Ленинграда – это не достижение русского царизма, а достижение французского революционного стиля. К сожалению, уже тогда искусство вынуждено было служить врагам революции, потому что революция была подавлена.
А нам, когда мы будем продолжать это дело, нашей пролетарской культуре очень многое придется закрепить из того, что начала тогда уже полупролетарская, более или менее народная якобинская революционная Франция.
Девятая лекция *
Немецкая классическая литература конца XVIII и начала XIX века
Германская литература несколько раз поднималась на степень серьезного значения в мировой культуре, но главный ее подъем относится ко второй половине XVIII и самому началу XIX века.
Помимо чрезвычайно большого значения одной из самых высоких волн человеческой культуры, германская литература еще характерна и с социологической точки зрения некоторыми своими особенностями, роднящими ее отчасти с литературой русской. Дело в том, что германская буржуазия к середине XVIII века находилась в несравненно худших условиях, чем какая бы то ни было другая. В то время, когда Англия, проделавшая свою буржуазную революцию еще в XVII столетии, добилась к этому времени – к последней половине XVIII века – большой политической и культурной свободы, в то время, когда Франция шла к революции и, стало быть, переживала уже век Вольтера, Дидро, Руссо, – Германия находилась еще в чрезвычайно угнетенном политически и отсталом экономически состоянии. Это было, так сказать, европейское захолустье. Между тем народ этот вел в свое время довольно культурную жизнь. Городская Германия представляла собою уже чрезвычайно высокую культурную формацию даже в глубине средневековья. В сущности говоря, Германию в некоторой степени подкосили реформация и Тридцатилетняя война; с тех пор она поднималась туго в экономическом отношении. Но интеллигентские традиции оставались, конечно, полностью, и с этой точки зрения германская буржуазия была богата интеллектуальными силами. Реформатское духовенство не было похоже на католическое и еще менее на восточное духовенство. Оно допускало все-таки известную свободу мысли (конечно, в рамках церковщины) и от пасторов требовало известного усилия ума, известной культурности. Пастор, в отличие от католического священника, женат, – это уже земной человек. И вот эта пасторская интеллигенция, – особенно дети служителей культа, занимавшиеся интеллектуальным трудом, – были очень значительной прослойкой в Германии. Вообще интеллигенция представляла собою, и количественно и качественно, заметную группу.
Она особенно страдала от экономической отсталости, от провинциальности всей окружающей жизни и от страшного политического и цензурного гнета. Все, что выходило из рамок церковщины или официальщины, немедленно подвергалось преследованию. Помимо того что в Германии был самодержавный строй, воспроизведенный вскоре в России Николаем I, унизительно было и то, что Германия раскрошена была на множество мелких княжеств и небольших королевств. Каждый из таких князей делал в своей вотчине все, что угодно, имел фаворитов и фавориток, грабил свой народ и старался устроить свою жизнь по возможности на версальский, на парижский лад. Не останавливались немецкие князья и герцоги и перед тем, чтобы продавать своих подданных в качестве солдат, например в Америку. Вот этот партикуляризм, это «раздробление отечества» и отсутствие свободы мысли сказывалось и на германской интеллигенции крайне болезненно. А между тем германская интеллигенция, несмотря на то что она культурно была значительной группой, политически была совершенно бессильна. Буржуазия была еще слишком слаба, феодализм слишком силен. И за то время, как Франция шла к Великой революции, проделала Великую революцию и пользовалась уже ее опытом, в Германии не только великой, но и никакой маленькой революции не произошло.
Германская интеллигенция откликнулась на Французскую революцию очень бурно, увлекалась идеями Вольтера, Дидро, Руссо, увлекалась новостями, шедшими из Парижа, в особенности в пору восходящей линии Французской революции, но у себя проделать ничего даже немного похожего не могла. Куда же этой интеллигенции было деваться со своим протестом, со своими требованиями идеальной культуры? Конечно, по линии наименьшего сопротивления она ушла в область философии и эстетики, в область литературы. Сюда излит был и протест немецкой интеллигенции и мысли ее о том, как следовало бы устроить жизнь на земле. И если я вам говорил, что, например, Французская революция не выделила крупных художников исключительно потому, что все крупные силы буржуазии и мелкой буржуазии направлялись в политику, некому было из крупных людей заняться искусством, это считалось слишком третьестепенным делом, то в Германии обратно – никто не направлялся в политику, потому что политика, кроме тюрьмы и совершенно бесплодной затраты сил, ничего не обещала в этом глухом болоте. Именно поэтому все силы шли частью в философию, частью в изящную литературу и музыку. И так как напряжение передовой массы германской буржуазии было велико, то и тот фонтан, который забил из этого философского и литературного отверстия, дал очень высокий подъем.
Великий немецкий поэт Гейне был совершенно прав, когда говорил, что немцы в лице своих великих философов – Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, в лице своих великих поэтов – Шиллера, Гёте – имели, в сущности говоря, Робеспьеров и Дантонов, но только замаскированных, не проявивших себя в области прямой борьбы, оставшихся в царстве мысли и грезы, в царстве слов 1 .
В мои задачи не входит излагать философские доктрины немецких философов и значение Канта, положительное и отрицательное. Но вы должны помнить, что это одна из вершин философской мысли – и тогда, когда нам приходится от него исходить, и тогда, когда мы его критикуем. И Фихте и Шеллинг представляют собой огромные величины, у которых можно многому учиться, а Гегель есть непосредственный предшественник нашего марксизма, и без правильного понимания мыслей Гегеля нельзя правильно понимать и мысли Маркса.
Между прочим, расскажу следующее. Когда я был еще совсем молодым студентом, я познакомился в Женеве с Плехановым. Занимался я некоторыми новыми философами, в том числе Шопенгауэром. Плеханов поинтересовался, что я читаю, и сказал: «Охота вам заниматься эпигонами, – займитесь настоящими классическими философами, которые действительно ваш ум смогут вышколить». Я говорю, что я более или менее занимался Кантом и Гегеля немножко знаю. «Да, – говорит он, – но Фихте и Шеллинга вы, наверное, ничего не читали, кроме разве в изложении Куно Фишера?» 2 Я говорю: «Это ведь фантастическая метафизика». Он сурово ответил: «Попробуйте почитать, и вы увидите, какие это колоссальные мыслители и как они нам нужны». И я до сих пор бесконечно благодарен Георгию Валентиновичу за то, что он показал мне этих философов. Германская идеалистическая философия – действительно целый громадный мир, не менее поучительный в своем роде, чем история Великой французской революции.
Я указываю на это потому, что связывать изложение истории литературы с философскими тенденциями, с философскими теориями германской интеллигенции того времени мне придется.
Итак, время, о котором мы говорили, нужно характеризовать как глухое политическое безвременье, эпоху сумерек, эпоху серую. Интеллигенция, имевшая сильную культурную многовековую традицию, проснулась отчасти, потому что все-таки в Германии назревала новая жизнь. Капитал шевелился, разлагал устои феодализма, отчасти под влиянием давления Англии и Франции, которые опередили Германию. В эпоху этого безвременья развился роскошный цветок деятельности германской интеллигенции – не в политической области, а в области мысли и грез. После этого долго немцев называли народом мыслителей и поэтов, и они этим очень гордились вплоть до того времени, когда приблизились к реализму и создали совершенно новый тип немецкой интеллигенции, до времени Бисмарка.
Я не буду останавливаться на таких ранних предшественниках этой великой эпохи немецкой литературы, как Клопшток или Виланд. Они имеют такое же чисто историческое значение, как в России Жуковский и Карамзин. Достижений, которые имели бы общекультурное значение и более или менее долговременное, у них нет. Но этого нельзя сказать о Лессинге.
Лессинг родился в 1729 году, умер в 1781, то есть пятидесяти двух лет. Вы можете познакомиться с этим замечательным деятелем юной буржуазии, симпатичнейшим, крайне близким нам по своим тенденциям, по материалам новейшей литературы. Во-первых, Чернышевский – этот русский Лессинг, если хотите, – посвятил ему свою университетскую диссертацию 3 , которая и до сих пор остается блестящим и проникновенным трудом. Это – работа, которая делает одинаково честь и Лессингу и Чернышевскому. Я на это обращаю внимание потому, что Чернышевский сознательно считал себя призванным сыграть роль Лессинга по отношению к России и поэтому с такой любовью и с таким рвением изучал его. Но мало того: Франц Меринг, автор известной «Истории германской социал-демократии», который примкнул к коммунистической партии, будучи уже стариком семидесяти лет (этого полурасслабленного старика германское правительство отнесло на носилках в тюрьму за то, что он сделался коммунистом), – Меринг, блестящий наш товарищ и социалистический писатель, свой шедевр посвятил Лессингу. Это – «Легенда о Лессинге». Книга эта бесспорно самое блестящее марксистское исследование по литературе. Даже лучшие работы Плеханова, например его работа о Чернышевском 4 , уступают этой работе Меринга. Это сочинение – образчик того, как марксист должен разрабатывать культурные проблемы. Эта образцовая работа имеет совершенно исключительное значение.
Люди типа Лессинга – это такие люди, о которых можно с уверенностью сказать, что они выполнили гигантскую роль в области буржуазной культуры в такое время, когда буржуазная культура была молода и прогрессивна, когда она была проникнута материалистическими тенденциями. Живи люди такого склада в наше время, они примкнули бы к трудовому пролетариату.
О Лессинге это можно сказать без всякого сомнения. Ему приходилось жить упорно трудясь. Лучшее время его жизни было тогда, когда он заведовал библиотекой одного большого барина. Писать ему приходилось под гнетом цензуры, под постоянным страхом гонений. И, вероятно, был прав Фридрих Ницше, когда бросал гневный упрек германской буржуазии: «Вы на каждом шагу говорите – Лессинг, Лессинг, гордитесь им, а вы его погубили, и его ранняя смерть последовала потому, что он жил среди огорчений и опасностей» 5 .
Высказать все, что хотел, он не имел возможности; но он старался сказать все, что думал.
Прежде всего у него была задача политическая и религиозно-философская. Он ненавидел абсолютизм и был страстным, свободомыслящим республиканцем. Но, конечно, сказать тогда это во весь голос было невозможно, поэтому он говорил это более или менее прикровенно, иногда в своих художественных произведениях, иногда в письмах, в статьях и т. д. По отношению к религии – задеть Христа, тем более задеть веру в бога – это по тогдашнему времени значило если не попасть на костер, то все же бесповоротно себя погубить. И тем не менее Лессинг совершенно недвусмысленно в своих книгах вел борьбу с протестантизмом, делал постоянные намеки, достаточно громкие для всякого внимательного читателя, имевшего глаза, что он ни в Христа и ни в какого бога вообще не верит.
Был такой случай, который записал после его смерти идеалист и романтик Якоби, блестящий германский публицист.
В то время вышел «Прометей» молодого поэта Гёте, и вся Германия взволновалась, ибо «Прометей» был атеистической вещью, бросавшей вызов богу, фактически его отрицавшей. Якоби был у Лессинга, как ученик у учителя, и выразил свое возмущение «Прометеем». Лессинг ему сказал, что полностью примыкает к замыслу «Прометея». Якоби спрашивает: «Что же вы – спинозианец?» и Лессинг ему ответил: «Да, я совершенно разделяю воззрения этого философа». Якоби стал уговаривать его, что это-де очень безрадостное миросозерцание, что без личного бога, бога-отца в небе, нельзя существовать. На это Лессинг ему сказал, что от мира опыта и его законов нужно сделать известный прыжок для того, чтобы попасть в царство подобных идеалов, – а у меня-де «слишком тяжелая голова, чтобы я мог сделать такой прыжок» 6 .
Вся борьба Лессинга против религиозных предрассудков велась им главным образом в памфлетах, критических работах и отчасти в художественных произведениях.
Прежде чем говорить о политическом и религиозном содержании художественных произведений Лессинга, нужно сказать, как он вообще относился к современному ему искусству, в каком виде старался он построить германское искусство и как он, наконец, относился к своей собственной художественной деятельности.
Лессинг считал необходимым, чтобы немецкая буржуазия, – он не говорил буржуазия, он говорил «немецкое образованное общество», – имела свою литературу. Он считал, что всякий народ, когда начинает жить, – а он сознавал, что германская нация жить начинает, приходит к какому-то возрождению, закипают в ней новые силы, – всякий такой народ выливает свою душу в литературе.
Литература есть кристаллизация того, что бродит в воображении, и вместе с тем она является опорным пунктом для кристаллизации самой общественности. Он придавал литературе общественно-воспитательное значение. Но существовавшая в то время учительная литература была крайне неудовлетворительна. Это была дидактическая официальная литература, которая преподносилась в виде проповедей, прописей, басен и разных других форм морали, большею частью поповского или полупоповского типа. Против такой литературы Лессинг выступил со всею силою. Он заявил, что дидактическая поэзия лишена способности воздействия. Художник, по его мнению, должен быть свободен и должен заняться подлинным искусством, то есть изображать страсти вообще, как они есть, отражать жизнь, возможно более сгущая ее, сводя к квинтэссенции. Ничем другим, по мнению Лессинга, художник не должен задаваться.
Но, конечно, Лессинг этим не хотел сказать, что искусство должно быть безыдейным. Он считал, что, поскольку художник станет так страстно, пристально и эффектно изображать жизнь, он как бы невольно внесет туда свои идеи, свои настроения, но они уже сделаются действительно художественными, они перестанут быть чисто интеллектуальными, чисто умственными, насильственно привнесенными величинами. Они сделаются такими силами, которые через посредство образа, ритма непосредственно вольют в сознание читателя то, чем живет душа художника. Так что, с одной стороны, Лессинг защищал самостоятельность искусства как великой функции общества от дидактики, от педагогического искусства, а с другой стороны, сам писал и сознательно писал такие вещи, которые были пронизаны идейностью, заботясь, однако, о том, чтобы это была не проповедь в беллетристической форме, а широкое искусство, вовлекающее в свой мир и определенные идейные представления и тенденции.
Лессинг был не только критиком литературы, он старался проповедовать правила и для других видов искусства.
Он старался, чтобы Германия имела искусство свободное, серьезное, являющееся действительно какой-то осью, вокруг которой формируется общественное сознание страны растерзанной, погруженной в мрак, но жаждущей возрождения. Лессинг часто впадал в ошибки. Критиковать Лессинга – интересная задача, потому что и его правильные положения и его ошибки могучи, светлы.
Лессинг был художественный критик-общественник. Вы можете совершенно те же тенденции найти в статьях Белинского. Белинский беспрестанно нападает на дидактичность, на тенденциозность искусства. Вы можете подумать, что он хочет безыдейного искусства. Но если бы вы тогда жили, вы поняли бы, что значила тогда дидактичность искусства. Это было искусство, навязывавшее прописи, навязывавшее отсталую реакционную мораль. Поэтому Белинский страстно боролся против него за свободу искусства, за свободу игры образов, за свободу изображения конфликтов страстей. Но это не значит, что по его мнению совершенно безразлично, какова будет игра воображения. Для него несомненна предпосылка, что, если художник взялся за перо, он имеет сказать что-то важное. Вы у Белинского найдете постоянную внутреннюю работу, искание, как примирить требование глубокого идейного искусства и борьбу за свободу искусства от дидактики, от навязывания морали. Постановка этого вопроса у Лессинга и Белинского тождественна. Белинский еще больше, чем Чернышевский, был в подлинном смысле нашим Лессингом.
Лессинг не считал себя большим художником, но, оглядываясь вокруг, он не видел художников. Надобны художники, а их нет. Зная, что путем простой публицистики и критики нельзя подействовать на сердца человеческие достаточно сильно, да и цензура тут строже, поняв, что посредством искусства и в особенности театра, который он считал самой сильной, самой общественной, самой демократичной формой искусства, можно воспитывать умы своих соотечественников, он взялся сам за литературу.
Был ли у Лессинга большой талант драматурга, трудно сказать. Он был человек очень умный, великолепно понимал, что нужно в этой области германскому народу, и поэтому, конечно, неумной и бездарной вещи написать не мог. Слишком много было у него для этого сердца, знаний, чуткости. Конечно, настоящей драматургической гениальностью он не отличался, но, однако, достиг таких успехов, что некоторые из его произведений оказались не только предшествующими великой немецкой драме, не только ступенями, ведущими к ней, но и значительными произведениями, переведенными на все языки мира и живущими еще и сейчас. Это огромное достижение. Если сравнивать Лессинга с Шиллером и Гёте, ясно, что Шиллер и Гёте гении, а Лессинг нет; но Лессинг настолько был умен, благороден, так содержателен, что некоторые его произведения поднялись на один уровень с произведениями гениев.
Германия, как захолустье, жила в то время французскими модами, а доминирующей французской модой были тогда в театре Корнель, Расин и др., вплоть до Вольтера. Конечно, Лессинг был несправедлив, когда считал Корнеля и Расина чисто придворными театроделами, когда считал, что вся чопорность, прозрачность форм, вежливость в отношениях между людьми, утонченная, скрупулезно анализируемая в этих драмах психология, разбирающая разные конфликты на почве любви, – что все это полуфеодальное, куртуазное и никому не нужное. Мы видим теперь, что Корнель и Расин воскресают для нас, что они имеют большое значение. Лессинг был прав, однако, как сознательный представитель передовой буржуазии, что это было менее нужно буржуазии, чем та драма, которая в то время стала во Франции разрабатываться под влиянием Дидро. Но ведь и драме из мещанского быта надо было чем-нибудь зацепить зрителя, – а подвигов нет, размаха нет, все мерится на среднекупецкий аршин, все движется в мещанских рамках. И вот появилась сердцещипательная мелодрама: проклятие отцом какого-нибудь беспутного сына, трагедия девушки, за которой ухаживает какой-нибудь знатный барин и старается добиться своего, поставив ее в безвыходное положение. Целые потоки слез на сцене, – и публика, для которой это все было отнюдь не чуждо, тоже проливала слезы. Наступила полоса сентиментализма в собственном смысле слова. Литература делалась сентиментальной, теряла элемент героический. Когда говорили о королях, о героях, о полководцах, то, как ни противны они ненавидящим аристократию, – все же там приходилось вращаться в области политических идей, больших честолюбий, большого размаха жизни; а тут все вошло в миниатюрную жизнь обывателей.
Лессинг, проводя идею, что буржуазия должна иметь свою драму, изображать свою собственную жизнь, тоже впал в известную слезливость. Перед тем как написать немецкую драму, он написал драму, словно переведенную с английского языка – «Мисс Сара Сампсон». Литература Англии того времени переживала расцвет сентиментализма. Драма эта интересна тем, что Лессинг впервые создал на немецком языке драму, действующими лицами которой были мещане. Драма имела огромный успех. В литературном отношении это чисто подражательная пьеса, не имеющая большого значения.