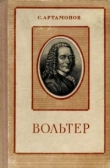Текст книги "Том 4. История западноевропейской литературы"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
Возьмем его пьесу «Облака». Старик разорился и не знает, как расплатиться с долгами. Он слыхал, что у софистов можно научиться отболтаться от долгов. Он идет к лучшему из них – к Сократу, а тот наблюдает облака и говорит: ни в каких богов не верю, кроме облаков; остальное, говорит, все глупости. Старику кажется, что это дурно, он возражает. Он не может понять мудреца. Сократ его прогоняет. Тогда он посылает к софисту сына. Тот оказался понятливее и впоследствии доказал, что его отец не только не должен никому, а даже заимодавец его чуть ли не оказался ему должным. Но когда сын вернулся к отцу, он выгнал отца из дома и объявил себя хозяином. Старик стал ему возражать, но тот ему доказал по всем правилам софистики свое право поступить так.
Это направлено было против Сократа, который не был софистом и являлся не только человеком высокой нравственности, но и защитником старины. Даже это не остановило Аристофана. Ведь Сократ бродит по площадям и, вместо того, чтобы слепо верить старым традициям, все щупает, все проверяет, прочно ли? Значит, и он в своем роде софист – разрушитель основ.
Другая комедия Аристофана – «Всадники» – направлена против Клеона. Клеон занимал важную общественную должность. Это был богатый купец, умевший ладить с народом, довольно смышленый и не бесчестный. Но что такое он для Аристофана? Кожевник, вышедший из грязи. Его орудие – деньги. А народ ему рукоплещет! Такие люди разложили государство. И Аристофан в ряде комических конфликтов показывает, как безмозглый народ, жадный и невежественный, идет за демагогом, подкупившим его лестью.
Третья комедия – «Лягушки». Здесь изображается, как бог Вакх вызвал из преисподней славного Софокла и Эсхила и устроил состязание между ними и Еврипидом 21 . Пользуясь этим приемом, Аристофан перечисляет ошибки его трагедий, которые, по его мнению, знаменуют великий упадок театра, и всячески издевается над ним под хор лягушек.
Сам Аристофан был, однако, тоже сыном своего века. Он и самых именитых своих сограждан не щадил, и богов изображал в смешном виде.
В это время в Греции возникли губительные войны. Еврипид создал глубоко антимилитаристическую трагедию «Тропики», где он описывает все ужасы войны и победы. Аристофан написал ряд блестящих антимилитаристических комедий. Часто носителями протеста являются у него женщины («Лисистрата»). Их сход решает объявить своеобразную стачку против мужчин и захватить в свои руки государственные сокровища. Мужчины оказываются в совершенно угнетенном положении и должны сдаться. Женщины в комедии не только проповедуют мир, но и своеобразный, реакционный социализм. Вы услышите из уст Лисистраты замечательные вещи: «Вы вечно ссоритесь, – говорит она мужчинам, – приобретаете, вместо того чтобы жить человеческой жизнью», «давайте все вместе вести одно хозяйство». Женщина еще являлась хранительницей старой большой семьи, старого племенного домашнего очага, старых начал, женщина еще вспоминает о родовом быте. А мужчины развернулись к этому времени вот в этих враждующих между собою купцов-собственников, жадных людей, для которых во всем мире нет ничего выше наживы. Так что Аристофан, – правда, исходя из совсем другого, чем мы, – приходит к выводам, которые симпатичны и нам.
Его комедии в высшей мере общественны. Социальная сатира достигает в его комедиях огромной глубины и смелости. Это комедия большого стиля. Его сатира – всегда гигантский плакат, безумный, нелепый: то у него птицы создают город и перехватывают все жертвы, которые возносятся богам, и этим ставят богов в затруднительное положение – на сцене птичий город, хоры птиц или лягушек, облака, фантастические существа выходят на сцену наряду с живыми гражданами, и при их помощи он издевается над врагами. Все это как нельзя более далеко от позднейшей бытовой греческой комедии. И люди, когда они хохотали в этом громадном, на 10 000 человек, театре чад аристофановскими пьесами, не просто забавлялись, – они смеялись с трибуном, который голосами всех актеров и всей великолепной постановкой звал смеяться над тем, что считал нужным осмеять.
То, что Аристофан не всегда попадал в цель, и то, что он был реакционным писателем, не должно нас смущать, потому что целью его насмешек была социально разлагающаяся масса индивидуалистов, купцов разного типа, которые разрушали общество, сохранившее еще остатки родовых отношений. Это были действительно те люди, торжество коих привело к крушению Греции.
Отживающая аристократия в своем протесте против наступающего эгоистического торгашеского индивидуализма часто поднимается до большой художественности и образной высоты. Таковы, между прочим, и социальные корни творчества и учения Л. Толстого, критика капитализма у которого отражала поэтому и протест крестьянства против бесчеловечной капиталистической эксплуатации.
Когда индивидуалисты-купцы восторжествовали окончательно, великий смех Аристофана стал уже общественно неприемлемым. На сцену вышел Менандр. В его комедиях обычно изображается с большим изяществом, как сын купца хочет жениться на какой-нибудь девушке и какие он встречает препятствия, и кончается все обыкновенно свадьбой. Менандр наплодил очень много комедий, и ни один из последующих комедиографов, вплоть до наших дней, не мог уйти от него. Возьмем ли мы Лопе де Вега, Мольера и т. д., – все сознательно или – бессознательно берут менандровские сюжеты, обыкновенно через посредство подражавших ему латинских комедиографов. Измены жен, столкновение старости с молодостью, слуга, который хитрее своих господ, и т. д. – все это взято было из быта разлагавшейся Греции.
После Аристофана комедия большого стиля размельчилась в простую бытовую пьесу. Вместо общественного здания получились индивидуальные сценки, нечто обывательское. Этот конец великого общественного театра совпал с концом античной общественности Греции. Она тогда созрела, чтобы вступить в новую полосу.
Разложение греческой культуры наступило вследствие распада единства государственной мысли, единства государственного чувства, которое руководящие классы гражданства отдельных греческих государств (в Афинах – широкое, более демократическое, а в Спарте – более аристократическое гражданство) смогли с известными перебоями поддерживать в своих обществах до тех пор, пока возникшие в результате развития меновых отношений новые силы не создали непреодолимые классовые противоречия и индивидуалистический распад. Как я говорил, почти вся греческая литература античного периода выражала собою тенденции к государственному сплочению и единству и достигла на этой основе огромной высоты. В более позднее время и в литературу проникли элементы разложения, индивидуалистического упадка.
В III веке до н. э. в Греции шло уже полное разложение общественности. Тот общественный инстинкт и та общественная мудрость, которую раньше выдвигали греческие правящие классы, как бы потеряли свое громадное социальное значение. На примере греческой трагедии я показал попытки вновь подчинить личное общественному; но это было невозможно, и на примере трагедий Еврипида и комедий Аристофана мы видим уже литературное отражение глубочайшего общественного разложения. Комедии Менандра – это символ деградации великой культуры.
Когда единство погибло, общество оказалось непрочным. Те самые соседи, которых раньше сплоченные греки побеждали, теперь оказались грозными противниками. Но волею судеб разложившаяся Греция не подпала под власть Востока, а под власть по существу не очень сильной и не очень культурной Македонии. На Востоке силы к этому времени, в свою очередь, распались, и благодаря этому сплачивающей силой оказалось феодально-крестьянское Македонское государство. Не в силе македонцев была причина побед Александра Великого, а именно в политической слабости греков и в невозможности для самой Греции выдвинуть объединяющие начала. Города восставали там на города, классы на классы, личность на личность – все превратилось в общественный песок, и великому печальнику и плакальщику о прошлом Греции, Демосфену, сопротивлявшемуся победе македонской монархии, ничего не удалось сделать. Внешняя, грубо монархическая спайка понадобилась Греции, да еще варварская. Мы видим, что Филипп, Александр механически связывали Грецию. И когда македонцы сумели все эти распадающиеся силы в полицейско-государственном порядке подчинить себе и сковать, то в руках македонских царей оказалась огромная сила, – правда, на некоторое только время. Восток к этому времени разложился, Запад и Север (от Македонии) были еще в варварском состоянии; и поскольку разложившаяся тоже и вновь воссозданная чисто внешним, механическим образом Греция оказалась все же сплоченной и все еще весьма культурной – Македония разлилась огромным потоком по всему тогдашнему миру в форме завоеваний Александра Великого.
Мне незачем останавливаться на эпохе Александра Великого и. диадохов, то есть приспешников и наследников, которые разодрали между собой его огромную монархию. Эпоха, когда город Александрия в северо-восточной Африке оказался культурным центром наибольшей мощи, была периодом, во всяком случае, глубокого распада общественности. Из философии, литературы, из искусства того времени исчезло творческое общественное начало. Частью живут старым, его пережевывают, им восхищаются, его изучают, а частью создают новое-искусство, более или менее изысканное, но на потребу богатых индивидуалистов. Вместо статуй – статуэтки. Архитектура роскошная, но лишенная прежнего благородства, благородства той эпохи, когда она выражала организованное социальное единство. Поэзия изощренная, в некоторой степени декадентская, изготовленная на вкус смакователя-индивидуалиста. Большая наклонность к жанру, то есть к мелким безынтересным сюжетам, частью устремление либо в натурализм, граничащий с фарсом, либо в нечто грандиозное, импозантное, что при бессилии творчества переходит в большое только по размерам. Все признаки вырождения.
Должно отметить, что это был славный период для точных наук. Ученые, жившие на иждивении повелителей, потомков непосредственных сподвижников Александра, предались изысканиям в области математики, географии, астрономии и т. д., как бы из чистой любознательности, но в значительной мере, конечно, служа росшей в то время морской торговле. Благодаря этому создалась некоторая возможность развития (иногда даже коллективного, в том смысле, что один ученый пользовался результатами, добытыми трудами другого ученого) точных знаний. Но и эта научная работа была оторвана от больших общественных задач и на ней лежала печать ученого-педантства.
Не в силе македонцев, сказал я, а скорее в слабости греков заключалась причина того, что македонцы их победили. Так же точно не в силе Рима таилось его величие, а в рыхлости всего остального тогдашнего мира. Внутри восточного общества не было никакого здорового класса, который смог бы прийти на смену разложившемуся деспотическому, полуфеодальному режиму; Греция разложилась, распалась на враждующие между собой лагери. И мы видим, как итальянские соседи вскоре возвышаются среди этой общей рыхлости до значительной силы и вступают в соревнование со слабым, в сущности, противником – с карфагенской купечески-пиратской державой, а затем, не находя соперников, подчиняют себе все вокруг и организуют действительно нечто целое, превратив только что завоеванные страны в Великую Римскую империю.
Глубокая разница между Римом-завоевателем и между этими завоеванными им землями лежала в основе общественности Рима. Общественность Рима была в высокой степени милитаристична и патриархальна. Нигде в мировой истории мы не видим такого цепкого патриархально-аристократического военного общества, такой основанной на круговой поруке упорядоченной банды хищников, какую мы видим в Риме. Я не могу углубляться в то, чтобы провести параллель между Спартой и Римом, чтобы показать, насколько замкнутой была хищно-военная Спарта по сравнению с Римом. Рим был городом «Жадных колонизаторов», бандитов на суше и на море. Но особая складка римлян, которую кратко можно охарактеризовать как стремление сейчас же закрепить и отлить в прочную, монументальную, неподвижную форму каждое новое достижение, делала чрезвычайно прочными все их предприятия.
Конечно, чрезвычайно интересно проследить работу римских сенаторов, римских патрициев в их постепенном строительстве военно-разбойной мощи, их борьбу с внутренними и; внешними враждебными общественными группами (позднее – классами). Но я останавливаться на этом не могу.
Во всяком случае, Рим был в высокой степени прочен и целостен в эпоху своего расцвета. Римское право, которое до сих пор еще лежит в основе буржуазного гражданского права, является монументальным созданием человеческого гения, отражая, с одной стороны, глубочайший индивидуализм, законченную, до конца доведенную систему частной собственности, и в то же время устанавливая систему подчинения каждого индивидуума государственным законам. И когда владыки Рима, эти помещики-разбойники, военные пайщики общего хищнического предприятия, постепенно давали права плебеям, иностранцам, побежденным в борьбе, которые селились вокруг них, то делали они это с бою; но всякий раз результат этой борьбы узаконялся в необычайно четкой форме. Огромное гражданское правосознание, умение всегда вносить дисциплину военного лагеря во все решительно стороны жизни – все это делало Рим противоположностью разложившемуся Востоку и греческому миру.
Я просил бы вас заметить то, что очень часто упускается из виду при преподавании истории и социологии: правящий класс до тех пор, пока он не разлагается, является до некоторой степени выразителем общих интересов своей страны, не в том смысле, чтобы он старался защищать раба или крестьянина, а в том, что его главная цель – создать мощное объединение сил. Для него военная внешняя мощь, внутренняя складность жизни, повиновение низших высшим является чрезвычайно важной задачей. Поэтому личная алчность римского собственника-сенатора, как она ни была велика, должна была умерять себя по отношению к низам для того, чтобы создать более или менее крепкое общество.
В Афинах стремились создать гармоническую гражданственность; в Риме стремились создать необыкновенно устойчивое правовое единство, которое послужило бы базой к чисто военной, захватнической мощи.
Но впоследствии и эта замечательная римская организация тоже стала приходить в упадок. Этот процесс вы приблизительно знаете. Рим вырос в необъятный город с многочисленным люмпен-пролетариатом, грозным уже своей численностью. В годы главным образом рабского труда, труда невольника, пленного, взятого из покоренных стран, труд вольный совершенно упал, – не только ремесленный, но и крестьянский. Вместо прочного крестьянства, которое было опорой сенаторов, пришлось опираться на иностранные войска. Внутренняя сила сгнила в борьбе классов, постепенно распустилась, потеряла свою прежнюю устойчивость, а в результате этого – переход к цезаризму, к тирании. Гай Юлий Цезарь был типичным тираном.
Тирания, как вы помните, есть диктатура, основанная на использовании острых противоречий между низами и верхами в момент, когда ни у одной из сторон нет сил или достаточной организованности, чтобы подавить врага. Тирания – это захват власти, сопряженный с насилием и развратом. Разнузданность, отвратительные проявления римской императорской власти проистекали отсюда, хотя в этой власти были и положительные черты. Как македонские цари объединили разложившиеся Афины, так и здесь, при помощи железной кирасы легионеров, стремятся удержать в целости начинающий распадаться Рим. Этот процесс идет, однако, все дальше и дальше. Император превращается в неограниченного насильника, который в то же время трепещет перед каждым своим телохранителем. Почти все римские императоры кончали жизнь в каком-нибудь дворцовом перевороте. Знать, непомерно разбогатевшая, живет в постоянном страхе перед конфискацией имущества этим жадным центральным правительством. Все устремляются исключительно на похоть, на угождение своему чреву. Вкус к жизни, полной опасностей, стремление к тому, чтобы быть начеку, идти от завоевания к завоеванию, представлять собою несокрушимую мощь – все эти черты совершенно утратились. И когда римская держава оказалась опять среди растущих опасностей, организованной силы больше не было. Старые державы, древние культуры продолжают дряхлеть. Новые далеко еще не поднялись до того, чтобы противопоставить Риму какую-нибудь организованную силу. Но Рим сам настолько одряхлел, что не мог сдержать все огромное количество подчиненных ему народов и стран. Молодые, малокультурные народы, может быть, только немножко отполированные римской дисциплиной, превращаются в господ своих прежних господ. Начинается распад, а затем и полное падение Рима под ударами его недавних рабов, варварских народов. Здесь начинается переход к Средним векам.
Было бы интересно, может быть даже необходимо, остановиться на римской литературе, своеобразно отразившей описанные мною процессы. К сожалению, нам приходится отказаться от этого.
Скажу лишь, что литература развивалась в Риме туго.
Классический период литературы совпадал со временем императоров, с веком Цезаря и Августа в особенности. Но римская литература, даже в апогее своем, оставалась в сильной зависимости от греческой. Черты подражательности находим мы даже у величайших поэтов Рима – Горация, Вергилия и Овидия.
В своем роде изумительная философская поэма Лукреция «О природе вещей», поэтически выражавшая выдвинутую греками материалистическую философию, относится к самому концу республики и носит на себе черты глубокого пессимизма.
Римская литература несравненно ниже греческой, но она имела огромное значение для последующих веков, в особенности в тот период, когда средневековое человечество из глубины варварства стало развиваться до уровня, сделавшего его способным жить идеями и чувствами античного мира.
Третья лекция *
Общее понятие о средневековом мире и его развитии, общая характеристика художественной литературы в Средние века.
Римская империя пала. Но пришло ли на ее место общество, сколько-нибудь ей равное по высоте культуры? Нет. Это была смена культуры некультурностью. В Италию хлынули с варварских окраин народы, только слегка покрашенные римской краской, полукочевые народы, которые только еще оседали на землю, начинали к ней привыкать. И здесь зарождается новая общественная формация – феодализм.
Когда руководители, вожди этих воинственных варварских народов налетали на чужую землю, оставались на ней и раздавали землю своим соратникам, то местное население превращалось в крепостных. Главные подручные вождя получали от него целые провинции, которые они населяли своими воинами, их женами и детьми, следовавшими, по обычаю тех времен, за армией в обозе. Таким образом закреплялись за победителями завоеванные территории. Чисто экономические законы развития скотоводческо-земледельческого общества неминуемо приводили к тому же, то есть к ленной зависимости больших владельцев от еще больших, меньших от больших и в конце концов к созданию целой пирамиды вассалов; взаимозависимые сеньоры опираются на крестьянство, вначале вольное, но постепенно более или менее закрепощаемое.
Таким образом, Европа приближается к периоду, когда на первом плане стоит воин, не земледелец, а землевладелец, всегда готовый оказать вооруженный отпор соседу и еще более готовый сам сделать хищнический набег. Известные воспоминания о римской культуре, хотя бы и разложившейся, все-таки просвечивают сквозь этот строй; но тем не менее основные черты его – варварские.
Однако варвары унаследовали от Рима одну, чрезвычайно важную организацию – христианскую церковь.
Христианская церковь не пала вместе с Римом, а чрезвычайно хитро приспособилась к варварам, перешла на их сторону, даже благословила разрушение старой цивилизации и свое собственное миросозерцание (между прочим, тоже полное грубых суеверий) необычайно умело смешала и приноровила к тем суевериям, которыми пропитаны были религиозные представления всех этих северных и восточных варваров.
Я могу только коротко сказать о том, что такое была христианская церковь; но мы должны разобрать одно из крупнейших литературных явлений, которое по влиянию своему относится и к Средним векам, а отчасти и к нашему времени, – так называемое «Евангелие».
Христианская церковь первоначально составилась из ультрадемократических, пролетарских, рабских, мелкомещанских религиозных сект.
Вызнаете уже, что первобытным земледельцам и крестьянству на ранних ступенях общественного развития свойственна была религия страдающего бога. Страдающий бог изображает собою частью солнце, которое умирает и воскресает каждый день и каждый год, частью семена, которые умирают в земле и воскресают потом с прибылью. В древнем мире крестьянство молилось своим земледельческим богам, небесным и земным одновременно. Рождество, пасха, масленица и другие христианские праздники представляют собой своеобразно измененные языческие земледельческие праздники, получившие по большей части новые наименования. Христианский бог Иисус был, по-видимому, божеством некоторых еврейских и сирийских языческих сект. «Иисус» значит – целитель. И этот самый целитель, может быть, отчасти кое-где сливавшийся и с лунным богом и вообще тесно примыкавший к божествам порядка земледельческого, считался сыномбожиим, который живет на земле, испытывает страдания, умирает и воскресает для того, чтобы обеспечить новую весну и новый расцвет жизни, – умирает как искупительная жертва, необходимая для воссоздания мирового процесса.
Изучая историю религий, мы видим, как бесконечно широко была распространена идея, что кроме бога – «отца», который правит всем, есть бог – «сын», который заведует от имени отца процессами переменчивой жизни; он приносит себя в жертву, чтобы искупить весь мир и чтобы вновь пришла весна. Почти по всему миру мы находим элементы этого верования.
Когда произошел распад античных обществ и гнилая цивилизация Востока, гнилая цивилизация Греции расползлись, то вместе с ними растаяли и прежние крепкие общественные связи.
Низшим из свободных слоев населения античного общества был люмпен-пролетариат больших городов. Это был класс мало образованный; но все же такой пролетарий критически относился к своей жизни, не вел просто, как собака, свое собачье существование, а спрашивал: почему такая скорбь, почему такой развал и может ли стать лучше? И, конечно, сказать, что жизнь может стать лучше и станет лучше благодаря его собственным усилиям, – он не мог. Вы знаете, что самые мощные, самые организованные из этого мира пролетариев и рабов – гладиаторы – в свое время устроили бунт, во главе с великим Спартаком, но были разбиты, потому что гладиаторов было немного, а все остальные были забитые, затравленные, неорганизованные, хаотичные люди. Вот почему общественный протест этих слоев облекался в религиозную форму. Здесь нашла себе благоприятную почву старая крестьянская религия о сыне божием, который в страданиях и муках умирает и воскресает, чтобы всех привести в царство божие. Но эта религия в пролетарской среде преломлялась в своеобразную революционнуюрелигию. Из религии поля и неба она превратилась в религию социальную. Основою христианства было утверждение, что бог-де любит на самом деле не вас, господ; вы и ваши ценности – это ненавистная ночь и ужасная зима. А вот нас, затравленных, нас, забитых, нас, многотерпеливых, бог любит, и возвращение мировой весны будет означать наше искупление. Мы тогда станем господами, а вам тогда будет страшная месть, Страшный суд. Это будет великая революция, после которой все господа пойдут в ад на страшные вечные муки, а мы пойдем в царство божие и будем жить счастливо!
Страстная жажда переворота и вера в то, что переворот будет, потому что для этого всемогущий бог пошлет своего сына, который этот переворот совершит, – вот основа христианства. Все, тяготеющие к какой-либо из этих бедняцких сект, ждут мессию, и. уже не еврейского, а общепролетарского, общерабского мессию, и создается масса легенд о том, какой он будет.
В конце I века и в течение первой половины II века и. э. начинают говорить, что Христос уже приходил, но он должен прийти еще раз; тогда и будет Страшный суд. Из каких же черт составляется рассказ о его первом приходе? Из описаний его страдания. Говорили, что, поскольку мессия, сын божий, должен искупить мир своею кровью, он приходил в виде раба, которого оплевали, которого распяли с разбойниками. И постепенно создался роман, в котором главное действующее лицо – этот Иисус, бог некоторых сект, с прибавлением слова Христос, что значит помазанник или мессия. Его описывали чертами, симпатичными для бедноты. Это был добрый, всепрощающий сын рабочего, проповедующий новую правду, не воинственный, не призывающий к бунту, а говоривший: терпите и верьте в меня, – я приду во второй раз и вам помогу.
Этот идеальный образ стал главным средством пропаганды множества апостолов, идеологов сект, все больше объединявшихся в общину – церковь. Эта религия, наиболее существенной частью которой было обличение несправедливости общественного строя, была знаменем, вокруг которого создавалась организация угнетенных групп населения, хотя бы для одного лишь пассивного сопротивления угнетателям.
Вероучение христиан изложено в Евангелии, сложившемся из различных легенд в процессе коллективного творчества. Эпос о Христе, о его земной жизни складывался так же, как складывалась «Илиада». Известно много таких рассказов, которые не вошли в Евангелия от четырех апостолов, а были отброшены позднейшей церковью. Как «Илиаду» редактировала комиссия, чтобы использовать ее для воспитания новых поколений греков, так и наиболее крупные «отцы» церкви постепенно редактировали Евангелие, беря из запаса народных легенд только то, что им подходило; дальнейшее творчество с некоторой поры было строжайшим образом запрещено, официальная церковная редакция была канонизирована, а все другие объявлены еретическими.
Первым веком христианства был век Августа, когда начался неудержимый распад господствующих классов. То была последняя стадия развития Рима, еще внешне пышного, но внутри гнилого. Пролетариат сорганизовался уже в потребительские коммуны, которые делились милостынями между собою; спаявшийся на почве христианской доктрины, он оказался чуть ли не сильнее всех организаций мира. И вот к церкви стали примыкать сначала женщины, а потом и мужчины из богатого класса. Ведь и тем жизнь была не в радость. Ежеминутно можно было ожидать конфискации имущества и предания суду. Общественных связей не было никаких. Уничтожены интересы, уничтожена наука. Неверие сопровождалось развитием множества суеверий. И когда наиболее честные и ищущие истины люди из верхов общества слышали об этой доктрине, в которую люди так верят, что готовы умереть за нее, которая дает такие сладкие часы, такие восторженные вечери любви, – они шли туда, они шли учиться у пролетариата его надежде.
Церковь организовывалась все плотнее. Она выдвинула свою руководящую интеллигенцию – диаконов, пресвитеров, епископов, целую градацию чинов и постепенно довольно крепко зажала пролетариат в бюрократических рамках.
Церковные вожди превратились в особый класс, заинтересованный в союзе с господствующими классами старого мира. Интересы церковной бюрократии «пастырей» совершенно разошлись с интересами «пасомых». Однако беднота была настолько неорганизованна, настолько духовно слаба, что хотя она и протестовала путем сект и ересей, но лишь частично, а в общем пошла за духовенством.
Когда церковная организация заметила, что империя, с которой она заключила союз, рушится под давлением варваров, она моментально перешла на их сторону. Ей легко было сделать это, чуть-чуть изменив христианство, приспособив его к различным местным верованиям, прославив их, превратив старых богов в чертей или в святых. Сила церкви переселилась и в новый, варварский мир. Ее проводником, ее самой прочной организацией было само духовенство, особенно монашество. Оно стало не только политической, но культурной и колоссальной экономической силой.
В обмен за эту услугу, за то, что церковь поддерживала власть властвующих, что она перенесла на новую рыхлую варварскую почву остатки римской культуры, она получила от новых властелинов великолепные земли, крепостных, торговые привилегии и стала землевладельцем, ростовщиком, торговцем. Вместе с тем церковь приобретала и значительное влияние на феодалов и королей. В тот суеверный век люди, проклятые как колдуны, стояли вне закона; тем же приемом пользовалась и церковь, – она отлучала от себя непокорных королей, ставила их этим вне закона, и они погибали. Все то, что чтилось в жрецах, перешло на священников. Выходило так, что без церкви нельзя ни умереть, ни родиться, ни жить, потому что будешь проклят. Христианская церковь приобрела громадную силу.
На первом месте в средневековом строе стоит класс духовенства, который вербуется всюду, из разных классов, но главным образом из правящего; всякий завербованный превращается в элемент церкви. Рядом с ним – класс феодалов, который весь строится на хищничестве, поддержанном взаимными союзами. Всякий хищник, всякий барон и граф сейчас же пал бы под мечом других хищников, если бы он был одинок. Отсюда естественное стремление образовать сложную комбинацию сеньоров и вассалов, которые давали друг другу клятву верности. Но для того, чтобы клятва держалась, нужно, чтобы социальные связи и институты были сильными. Поэтому верность вассалов, покровительственная любовь суверена к вассалам, преданность рыцарей друг другу (когда они в союзе) и всяческое прославление чести, военной отваги или военной предприимчивости, бесстрашия – это естественная социальная доктрина феодального дворянства.
Таким образом, мы имеем, с одной стороны, духовенство и феодалов, с другой стороны – крестьянство в полурабском состоянии, которое становится, чем дальше, тем более невыносимым.
Четвертым крупным элементом средневекового общества являются города, – частью города, перешедшие еще от Рима, частью вновь возникающие на перекрестках торговых путей – там, где организуются ярмарки, там, куда съезжаются купцы и ремесленники и строят «бург», то есть кремль, куда можно спрятаться от внешнего нападения. Эти города становятся постепенно все более людными, населенными. Бюргеры (горожане) были заинтересованы не только в том, чтобы их города были возвеличены и независимы, но и в том, чтобы по дорогам не грабили, чтобы на каждом шагу рыцари-разбойники не накладывали на проезжих всевозможных даней. Поэтому им нужно было организоваться. Эти торговые города сами владели иногда целыми провинциями и эксплуатировали их, собирая разные товары для продажи. Городские купцы и ремесленники заинтересованы в некотором правовом укладе всей жизни вообще, но этим отношениям не находится места в феодальной системе. Поэтому, выросши из феодализма, город делается противоположной ему силой и в скором времени встречает для себя поддержку в королевской власти, которая также перерастает рамки феодализма. Королевская власть, поддерживаемая буржуазией, противополагает себя феодалам. Но она в состоянии сломить и буржуазию, собрав против любого ее города деревенский поход своих вассалов – герцогов и графов. Это дает возможность королю маневрировать своей силой, и таким образом получаются своеобразные союзы и своеобразные распады союзов королевской власти, крупных феодалов, мелких рыцарей, крупной буржуазии, мелкой буржуазии, римско-католических архиепископов и низшего духовенства.