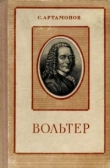Текст книги "Том 4. История западноевропейской литературы"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
Флобер смертельно ненавидел буржуазный строй и всю жизнь, которая окружала его. Он жил в Руане почти отшельником. Письма его – язвительные памфлеты, направленные против всего, что окружало его, часто граничащие со стоном надорванного сердца.
В некоторых произведениях он хотел создать свой мир. Так был написан роман «Саламбо». Сюжетом здесь служит восстание рабов против карфагенских капиталистов. Флобер остановился на Карфагене потому, что этот фон давал возможность создать нечто грандиозное. Там и дворцы, и жрецы, и шествия, и конфликты, и большие страсти, там и великие вожди, грандиозные фигуры, как в опере, нечто от феерии. Какое-то олеографическое, блестящее фейерверочное великолепие лежит на этом романе. Конечно, он неправилен с исторической точки зрения, хотя Флобер ко всему подходил, в отличие от Бальзака, со старательным изучением. Он изучил и по этому вопросу много книг. Но, во-первых, тогда мало знали о Карфагене, о его религии и нравах, а во-вторых, его манила больше всего его греза, и Карфаген был ему нужен только для того, чтобы уйти как-нибудь от буржуазии.
Очень характерно его произведение «Чудо св. Антония» 26 . Изображается там искушение св. Антония. Этот старец колеблется в вере, и перед ним проходят в видении все религии, когда-либо существовавшие, и все христианские ереси. Здесь проявлена Флобером огромная ученость. С огромным богатством дает он всевозможные религиозные извращения, и вы чувствуете, что нет такой глупости, нет такого абсурда, в которые бы люди не верили и из чего не делали бы религии. Роман приобретает кошмарный характер, потому что дано все это не в виде изложения учений, а в виде картин: идут шествия, развертываются церемониалы. Образы выписаны так тщательно, что они как действительные встают перед читателем. В самые фразы Флобер вложил максимум выразительности. Русский писатель Зайцев сделал прекрасный перевод этого произведения 27 , но все-таки перевод не может передать того, что дает французский подлинник, где самое сочетание звуков выбрано так, чтобы дать полное представление об образе, который приводится. Образы тянутся нескончаемой вереницей, получается впечатление гнетущего кошмара. Но вот в конце приходит Сатана. У Флобера он является ярким и законченным выразителем материализма как мировоззрения. Материализм, по мнению Флобера, совершенно безрадостен. Его истина – убийственна. Мир для него – сочетание всевозможных мертвых частиц материи, которые обладают свойством в некоторых комбинациях создавать космос и сознание и которые потом поглощает тот же мир. Все – случайное явление, как отблеск солнечного луча на водной поверхности; мир – это эфемерный автоматический момент. И тем более бессмыслен он, что возможны в нем такие комбинации, когда дети этого мира сами знают, какая это бессмыслица, как это глупо, что существует бытие, и что еще в миллион раз глупее, что есть мысль, которая может сознавать себя и мир. Флобер, обсудив все религии, приходит к выводу, что настоящая правда – это что вселенная автомат, черная дыра без мысли, ночь, которая каким-то глупым образом шутит с нашим мозгом, с нашим сердцем; люди борются, кричат, к чему-то стремятся, но, приблизясь к границе мудрости, узнают, что все есть суета сует и всяческая суета.
Вот до какой степени замучила буржуазия этого замечательного человека. А ведь этот писатель беспредельного, беспросветного пессимизма способен был быть счастливым. Его художественная зоркость и талантливые фантазии показывают чрезвычайно крупную силу.
В первом своем романе «Мадам Бовари», который считается крупнейшей звездой на небе буржуазного реализма, он издевается и над буржуазией и над самим собою. Изображается там молодая девушка из обыкновенной мелкобуржуазной семьи, воспитывавшаяся в монастыре. Иронически относится Флобер к этой системе воспитания; она напичкала девушку разными представлениями о романтической любви, о вздохах при луне и т. д. Но этот вздор, наполнивший девушку, делает ее по-своему очень хорошей. Она входит в жизнь молодой красавицей с широко и печально раскрытыми глазами. Ей кажется, что перед ней раскроется несказанное счастье, необычайная любовь, о которой она читала в фантастических рассказах. На самом деле жизнь не такова. Ее выдают замуж за доктора Бовари, который ее искренне любит. Он побаивается ее: она такая скрытная; но иногда проявляется ее огромная страстность, и он чувствует в ней большую силу. На самом деле она просто женщина с романтическими увлечениями того времени, целиком порожденная этим сентиментальным воспитанием. Но по сравнению с мужем, мелкобуржуазным сморчком, она недосягаемо высокое существо. Удовлетворяться его дружбой она, конечно, не может. Она переходит от романа к роману, и ее герои, ее любовники каждый раз кажутся ей вначале сказочными принцами. Но Флобер с беспощадной ясностью дает понять, что они просто пошляки и негодяи, а она – сентиментальная дурочка. Это – скорбная история. Кажется, вот-вот будет огромное счастье, а на деле получается грубый и пошлый развратный анекдот. Кончается роман полным крушением. Мадам Бовари умирает после того, как дошла до предела падения; умирает под звуки неприличной песни, которую поет бродяга-полуидиот. После ее смерти Бовари, по своей близорукости считавший ее верной, открывает целый склад писем, свидетельствующих о том, что она систематически ему изменяла. И тем не менее он плачет и готов простить все – этот маленький человек.
Очень характерен в этом романе аптекарь Омэ, который олицетворяет собою буржуазную науку, как понимал ее Флобер. Наука имеет на все ответы. Омэ как будто бы материалист, но по существу невыразимо посредственен. Он всякую проблему разменивает на дешевенькие научные истины. Конечно, есть такие маленькие пошляки и крошечные Базаровы, к которым относится и Омэ, но они нисколько не характеризуют всего великого движения философии и науки; а Флобер думал, что он через Омэ как-то уязвляет науку.
Несмотря на то что дело происходит в маленьком городе и вся среда и обстановка скучная, серая, – роман изумительно живой и интересный. Издается он без конца и переведен на всеязыки мира. В связи с этим романом Готье создал особую философскую систему, – которую назвал «боваризмом» 28 . Эта система сводится к тому, что всякое сознательное существо для того, чтобы утвердить себя в мире, должно создать себе некоторую иллюзию, при помощи которой оно как бы переделывает и приспособляет его к себе, и что все страдания проистекают от того, что острое жало действительности прокалывает эту иллюзию, ранит ее. Поэтому всякий человек стремится крепко держаться за свои иллюзии, напрягает все силы, чтобы не видеть того, что он должен увидеть, и таким образом продержаться над водой.
Я пропущу роман «Сентиментальное воспитание» и перейду кратко к неоконченному роману «Бувар и Пекюше». Здесь Флобер поставил перед собою колоссальную задачу: он хотел высмеять всю науку – механику, астрономию, медицину, прикладную инженерию, философию, филологию – одним словом, не оставить во всей области и теоретических и прикладных наук, а также исторических и социальных, камня на камне. Для этого он выводит двух буржуа – Бувара и Пекюше. Это люди со средствами, которые страстно верят в науку. Им кажется, что наука есть то, что заменило все прежнее миросозерцание человечества, и что стоит только изучить науку, чтобы быть счастливым. И вот начинается странствование этих двух придурковатых людей через все науки, причем, несмотря на то что они придурковаты, после того как они сами проходят эти науки, они вскрывают их внутреннюю несостоятельность: один за другим законы и завоевания науки оказываются кучей хлама. Для того чтобы эту разрушительную работу проделать, Флобер сам много лет штудировал все эти науки и приобрел чудовищную ученость. Он подходил к науке со злобой, предвзято, закрывая глаза на сильные ее стороны, и его критика науки сама никакой критики не выдерживает. Роман получился скучный – он лежит на полках. Однако какое трудолюбие, порожденное глубокой злобой против нового буржуазного мира, к которому он относил и науку!
Эта же целостная, до подвижничества, до донкихотства доведенная мысль заключается и в его переписке, – может быть, лучшем, что осталось от него. В его письмах к Жорж Санд, к Тургеневу, к молодому Ги де Мопассану, к лучшим людям того времени, постоянно дрожит та же злоба против окружающего мира. Он говорит, что буржуазия задушила человека, человеческое сердце. Постоянно чувствуется, что он хочет стряхнуть с себя все и вырасти в большого человека, но не может. Он даже сам иронизирует и говорит, что он никуда не годный человек, и что вообще давно пора перекрестить проклятием направо и налево весь этот мир, и что чем скорее пропадет он сам, тем лучше. «Если я живу, то только потому, что мне доставляет удовольствие писать мои бронзовые фразы, а иначе я бы давно растворился в небытии, ибо совершенно не стоит принимать участия в таком гнусном и нелепом фарсе, как мир и история» 29 .
Из этой школы вышел Ги де Мопассан, которого Толстой считал великим мастером 30 . Обыкновенно о Мопассане говорят с улыбкой. И действительно, он замечательный юморист. Среди многочисленных написанных им мелких рассказов немало сальных; Мопассан был дитя той чисто французской культуры, которая возникла еще в XVI веке, много в нем – от Рабле. У него есть много рассказов, стоящих на границе порнографии, и многие приобретают характер пикантного и почти неприличного анекдота. Но не нужно думать, что именно эти рассказы составляют сколько-нибудь существенную часть его творчества. Он их дает вперемежку с самыми глубокими и горькими размышлениями об отношениях между мужчиной и женщиной, о коллизиях индивида и общества, об одиночестве. В каждом рассказе, даже юмористически-сальном, сквозит скорбная нота. Мопассан утверждает, что человек всегда одинок. Может быть, в браке, в любви, в страсти одиночество разрушается, но у него было субъективное ощущение, что и в самой сильной страсти, в самой большой близости люди остаются чужими. Он готов кричать от муки: вот женщина, самое близкое существо, и ты не знаешь, что она сейчас думает, – может быть, смеется над тобой, и ничего ты об этом не знаешь.
Буржуазия ко времени Мопассана уже в такой степени распалась на индивидуумы, что человек человеку стал совсем чуждым, и Мопассан, в последней степени буржуазный человек; с ужасом замечал это. Но он и не чувствовал потребности в коллективизме. Он считал, что каждый человек, в своем пиджаке, в своем корсете, как в каменном мешке, одинок на веки вечные.
Мопассан касался и социальных проблем. Он внимательно всматривался во французского крестьянина, не только наблюдая внешне, а глубоко проникая в психику его. Конечно, и во французском крестьянине есть добрые чувства, но Мопассан всегда вкладывает в психику крестьянина только расчет, большую хитрость, крайний эгоизм, хозяйственный подход и к жене и к детям, – совершенно такой же, как к скотине и к огороду.
При этом Мопассан умеет изумительно описать, как крестьяне пьют, как говорят, торгуются, стараются перехитрить друг друга, или попа, или нотариуса, или какого-нибудь городского человека, который к ним по делу приехал. В его изображении этот крестьянин становится каким-то проклятым образом, потому что это воплощение каменного человека, человека-животного, волею судеб погруженного в заботу о том, как бы получше вести свое хозяйство, свести концы с концами, копейка в копейку, и по возможности скопить – и ничего больше. Он описывает религию крестьянина, любовь крестьянина, и все это представляет чрезвычайно отвратительным. Стиль он избрал эпический, рассказывает ужасно спокойно и правдиво, словно основываясь на документальных данных, подобранных с необыкновенной тонкостью, выводит одну формулу за другой. Впечатление получается кошмарное, хотя никаких выводов Мопассан не делает.
В его романах изображаются успехи и победы, одерживаемые в жизни подлецами и нахалами, как, например, в романе «Милый друг», или вся безнадежность жизни человека, как в романе «Жизнь». Жизнь уходит, приходит старость, смерть стоит перед человеком. Что же такое была жизнь? Химера, мираж! Все, что было хорошего, – ушло, было да сплыло, все кончается гробом. Почти все романы его имеют такой привкус.
Мопассан кончил жизнь сумасшедшим. Психиатр скажет, что потому-то он и был такой мрачный, что у него развивался прогрессивный паралич. Это – верно, человека грыз сифилис, который вел к параличу, но верно и то, что он был нормандской кости и нрава и большую часть своей творческой жизни обладал цветущим здоровьем. Как он хохочет в своих рассказах! Так может только подлинный француз хохотать – так беззаветно, так беззаботно! Он своим смехом заставляет и вас смеяться. Такой человек мог быть счастливым, но не только недуг, который точил его, помешал этому. Если бы его и не было, к такой же депрессии привел бы страх одиночества, вид звериных рож вокруг, это господство эгоизма. В этом отношении страницы его дневника жутки. Это, быть может, самый веселый писатель, какого XIX век дал, и вместе с тем самый жуткий и черный писатель. Даже Флобер здоров по сравнению с ним. Вы чувствуете, что сгущается тьма, и все должно рухнуть под гнетом этого ужаса.
Несравненно светлее Золя, который нашел уже путь к социализму. Когда говорят о Золя и о натурализме Золя, часто впадают в заблуждение: говорят, что он дошел до крайности натурализма в смысле фиксации действительности, в смысле отсутствия художественного чутья; говорят также, что он под натурализмом разумел зарисовку мусорной ямы, человеческой грязной постели и т. д.
В этих обвинениях нет ни слова правды. Анатоль Франс в молодости выступил с враждебной статьей против Золя 31 , в которой бросил ему те же обвинения. Но позднее он преклонялся перед Золя 32 (правда, к этому он был приведен замечательным социальным подвигом, который совершил Золя во время дела Дрейфуса). Пересмотрев все свои суждения о Золя, он вообще отрицательно отнесся к осуждению его как порнографа и признал, что в страницах, рисующих плотскую любовь, Золя остается всегда внимательным социологом и учителем жизни.
Золя, в отличие от Бальзака, делает все на основании документа. Если он описывает большой магазин, то изучает его досконально. Он изучает документы о возникновении его, о руководителях, о приказчиках, о покупателях. В то время как Бальзак умел из себя, на основании немногих намеков, воссоздавать большую картину, Золя заводит гроссбух, собирает целые музеи материалов, изучает мир журналистов, мир биржи и т. д. Золя гордился тем, что он более, чем Бальзак, исследователь, более строгий, чем Бальзак, ученый.
Но он понимал, что сила художника в том, что он обращается не к уму, а к чувству, и писал на основании изученного материала не трактаты, а художественные романы. В романе «Чрево Парижа» он описывает, например, тот уголок рынка, где продаются различные сыры, – французы любят эти пряные, вонючие сыры. Когда он описывает сыр, как он течет и слезится, как похож на всякую гниль, на замазку, и как он пахнет, как душит этот запах, как там летают мухи и сидят торговки с засаленными животами, а приказчики приносят этот сыр пуд за пудом, – все это приобретает ясность галлюцинации, все это вы видите и слышите, обоняете, осязаете, все это превращается наконец в символ. В описании жизни шахтеров в «Углекопах» 33 он умеет передать и настроение кабака, в котором пьют рабочие, и подземную работу, и взволнованную, до ярости доведенную толпу необыкновенно реально, почти осязаемо. Эту наглядность описания Золя дает как настоящий, подлинный художник, притом художник-материалист. Он описывает вещи, даже не заглядывая в психологию людей, и вещи его интересуют, пожалуй, больше, чем люди. Он понимает, что в буржуазном обществе вещи лепят людей, что если колбасник делает колбасу, то и колбаса делает колбасника. И это он превосходно изображает.
Но буржуазия зачитывалась его романами; желтенькие томики Золя расходились в миллионах экземпляров и сделали его в конце концов богатым человеком. Буржуазии приятно было смаковать то, что показывал Золя в своих романах, – эти самые неприглядные, зловонные стороны жизни. Она осуждала иногда Золя, говоря, что он «торгует грязным романом», но покупала, читала и на все языки переводила его.
Особенно инкриминируются Золя два романа: «Нана» и «Земля». В «Нана» описывает он кокотку во весь рост. У Бальзака есть изумительный роман «Возвышение и падение куртизанки» 34 . Там эта куртизанка – прелестная девушка, жертва общественной несправедливости. Она падает и в тяжелых, но трогательных страданиях умирает, всеми забытая. Бальзак создал прелестный образ проститутки, тонкого, очаровательного существа, – вероятно, совсем невозможного в действительности. Нана – это крепкая дочь прачки, которая «попала в моду»; она торгует своим здоровым телом и своими золотыми волосами. Эта «золотая муха» пьет кровь буржуа, ест их сердца, лишает их состояния, развращает, ломает их семью, ввергает в великий срам, потом сама, заболевает и умирает, как персонификация развратной жизни, в своей растленной кровати, в то время как начинается война и на улице кричат: «В Берлин, в Берлин!»
Конечно, подойти к этому роману, в котором описывается разврат, с точки зрения пикантности – было бы совершенно неправильным. И Золя смеялся по поводу того, что получил от «Нана» большой доход. «Им ужасно нравится, – говорил он, – мой реализм, мой натурализм, нравятся сцены сплетенных тел, нравится бесстыдство. Но это ведь динамит, который я подкладываю под их общество!» Он со стороны дома терпимости, дома разврата, идет в поход на буржуазное общество так же, как шел со стороны биржи, государства, со стороны наполеоновского шпионажа, например, в «Разгроме» – романе, посвященном военному разгрому франции.
В научности Золя есть одна необыкновенно привлекательная сторона: это то, что он – сам, быть может, этого вполне не сознавая, – был социологом, и даже больше, чем Бальзак. У Бальзака мир заслоняется все же отдельными фигурами, а Золя видит массу – магазин, биржу, рынок, деревню или толпу (толпа играет в его романах огромную роль). Это был первый писатель, у которого хотя и вырываются отдельные личности и отдельные голоса, но опять тонут в массе, которая является господствующей почти во всех романах без исключения.
Роман «Земля» до крайности «неприличен». Это роман, которого, конечно, в руки подростка дать нельзя; но это – великий роман. Тут к земле, к крестьянину, автор подходит иначе, чем Мопассан. И у Золя крестьянин такой же жилистый, такой же обмазанный глиной, такой же пригнетенный к земле, почти полуживотное; но он понимает поэзию земли. Вкусно пахнет черноземом, вы видите, как висят сочные плоды, вы видите, как колосится пшеница, в которую превращен крестьянский пот. Эти лошади-першероны, многомолочные коровы, все это зажиточное хозяйство французского кулака описано с силою, доходящей до иллюзии. Я, например, очень мало жил во французской деревне, но совершенно ясно могу себе представить, как она выглядит, как пахнет, как там люди ходят, каков там ритм жизни, по страницам романов Золя. Вы видите, как живут эти крестьяне, вокруг которых происходят бесчисленные случки животных, крестьяне, которые постоянно оплодотворяют землю, оплодотворяют друг друга, как идет эта животная, необычайно полнокровная жизнь, такая тяжеловесная, сочная и по-своему здоровая и поэтичная. Поэтому этот роман в котором все так грубо сказано, как, пожалуй, не станет говорить и зоолог о жизни животных, на самом деле наполнен поэзией. Золя прекрасно понимает, однако, и отрицательные стороны крестьянского эгоизма.
Роман «Его превосходительство Эжен Ругон», где Золя вскрывает политические парламентские интриги, или знаменитый роман «Деньги», где вскрывается подоплека биржи, – все это такие документы, которые и сейчас мы можем в полной мере использовать как ярчайшие отражения жизни той буржуазии, против которой мы еще не закончили нашу борьбу.
Но есть у Золя как ученого и отрицательная сторона. Он воображал, что он, как биолог, открывает законы наследственности. Он считал, что характер человека определяется целиком предками, отцом и матерью, дедами. Поэтому он берет семью Маккар-Ругонов 35 и рассказывает о том, как у всех ее членов, от министра до крестьянина, сказывается болезненное сладострастие, жажда к наживе, чрезмерный, переходящий часто в преступный, эгоизм. Золя почти целиком принимал ломброзовское толкование личности, толкование анатомо-физиологическое. Он очень гордился, что он – ученый в духе Ломброзо и его школы, которая, например, преступника считает особым биологическим типом. Это вздор. Конечно, наследственность имеет значение, но надо уметь сочетать этот фактор с социальными пружинами человеческой личности. Мы можем сказать, что наследственность дает известное предрасположение к преступности, но преступность есть социальное явление. В каждом преступлении виновником является само общество.
Когда началось дело Дрейфуса, Золя стал на сторону Дрейфуса. До тех пор у него не было смычки с рабочим классом, но тут он стал на точку зрения, которая разделялась и пролетариатом. После этого он тесно спаялся с рабочей партией и особенно с ее трибуном – Жоресом.
Реакция заявляла, что Дрейфус изменил Франции как еврей, потому что у евреев никакого отечества нет. Часть офицеров штаба стала на сторону Дрейфуса, другая часть была против него. Дрейфус был богатый человек и родственник миллионеров, – еврейская знать тратила громадные капиталы, чтобы его поддержать. В такой форме происходила эта борьба. Гед говорил тогда, что рабочие не должны вмешиваться в эту борьбу, что здесь борьба идет между еврейской и католической буржуазией. Но факт был тот, что Дрейфус невиновен, что документ, на основании которого его обвиняли, был подделан, факт был тот, что тут наносился католиками страшный удар свободомыслию, гражданственности, буржуазно-демократической республике. Правы были те социалисты, которые стояли на точке зрения Жореса, требовавшего от рабочего класса-борьбы с иезуитами и генералами. И вот в этот момент Золя пишет свое «J'accuse» [9]9
«Я обвиняю».
[Закрыть], где берет на себя как честный человек и писатель, – зная, что в данном случае имеется подлог, – всю ответственность: «Я обвиняю таких-то и таких-то, начиная с министров и кончая членами генералитета» 36 . Его чуть не убили. Я сам жил в то время в Париже. Я видел, как по улицам ходили огромные толпы студентов и кричали: «Идите оплевывать Золя!» – «Нужно убить изменника Золя!» У дома Золя стоял наряд не очень надежной полиции, потому что ночью можно было ожидать разгрома его квартиры. Его судили. Суд приговорил его к тюремному заключению. Но в конце концов подлог был доказан, и Золя пришлось оправдать. Поведение его было героическое, и, разумеется, вся прогрессивная Европа смотрела на его выступление как на акт, внушающий огромное уважение к имени писателя.
Я тогда был еще студентом и брал книги в одной библиотеке, где сидел старенький библиотекарь. Он по этому поводу говорил: «Послушайте, сударь, какое мне до этого дело? Он, французский писатель, – пиши романы, я, французский библиотекарь, – выдавай книги. Какое мне дело, виновен или невиновен этот Дрейфус?» – «Хорошо, он писатель, вы библиотекарь, но вы же и гражданин?» Библиотекарь возражал: «Это революционные, зловредные идеи». Таких воззрений держалась мелкая буржуазия.
После этих событий Золя хотел написать «Четыре евангелия». Четвертого он не кончил и написал три книги – «Плодородие», «Труд» и «Справедливость», где он старался стать на социалистическую точку зрения. Конечно, нас они не вполне удовлетворяют. В его утопиях много мещанства (в лучших утопиях своих он не шел дальше социализма, как представлял его себе Жорес). Но самый факт, что Золя сделался социалистом, для нас очень важен.
Вскоре он, к сожалению, умер, – умер случайно, от отравления газом, вместе с женою, будучи пожилым человеком, но еще в расцвете сил.
Из учеников Золя я назову Рони и Мирбо. Рони может быть назван, пожалуй, французским Уэллсом. Его романы, изображающие жизнь каменного века, и другие фантастические произведения отличаются глубиной мысли и изяществом формы. Вместе с тем Рони писал и социальные романы (например, «Красная волна»), в которых он не поднимается над мировоззрением правых социалистов.
Гораздо ярче как социальный протестант Мирбо. Это очень крупный художник, метко всадивший несколько ядовитых стрел в современную буржуазию. Недостаток Мирбо заключается в том, что он в гораздо большей степени является анархистом, чем социалистом. В этом, впрочем, в значительной степени вина политиканского и часто предательского социализма Франции. Направленная против социалистических вождей и в то же время и против буржуазии, драма «Дурные пастыри» имела повсюду большой успех в пролетарских аудиториях. Нет ничего невозможного в предположении, что Мирбо, доживи он до полного самоопределения коммунизма, оказался бы нашим писателем.
Очень коротко скажу о реалистах остальной Европы.
В немецкой литературе такого крупного реализма, как в Англии и во Франции, мы не имеем. Два швейцарца – Конрад Мейер, который дал образчик объективного исторического романа, и Готфрид Келлер в середине прошлого столетия – представляли собою лучший вид реализма. Шпильгаген частью подражает Диккенсу, иногда почти до совпадения. Писатель этот не имеет большого значения. Он был честным реалистом либерального типа и до нас дошел только потому, что написал роман «Один в поле не воин», героем которого является Лассаль, великий немецкий социалист. Все романы Шпильгагена переведены на русский язык, но сейчас они уже устарели. Правда, недавно я натолкнулся на такое явление, что юноши и девушки одного учебного заведения напали на романы Шпильгагена и взасос прочитали томов по двенадцати. Я за этим с недоумением следил. Но эти школьники, начитавшись, разочаровались и говорили, что даром потеряли время. Очевидно, их вначале увлекла фабула.
Из современных немецких писателей-реалистов имеют большое значение два брата Манн – Томас и Генрих. Томас Манн написал хронику «Будденброки» – описание целой династии капиталистов, где он проводит то, на что намекал уже Золя. Он дает своеобразный цикл. Он изображает сначала родоначальника, первоначального накопителя, очень талантливого, энергичного, затем сына, получившего высшее техническое образование и ведущего самостоятельно свое дело, и внука, неврастеника, пресытившегося богатством, который ни к чему не имеет интереса и не знает, что делать с деньгами. Такая эволюция часто свойственна капиталистическим семьям.
Генрих Манн начал как писатель-символист, но, как таковой, в своих романах «Минерва», «Венера» и др. 37 не представляет сейчас большого интереса. Позднее он перешел к реалистическому роману и, как реалист, создал несколько замечательных вещей, – например, роман «Верноподданный», где он изображает с едким смехом германский патриотизм, и «В стране кисельных берегов», где он описывает крупную буржуазию (очень явно подражая Золя, но все же интересно). Этот писатель сейчас стоит на левом фланге немецкой непролетарской гражданственности, занимает почти революционную позицию.
Затем идет Келлерман. Первый его роман «Туннель» 38 прогремел на весь мир. Это – роман чисто технический, несколько в уэллсовском духе. С большими техническими подробностями в нем описывается прокладка туннеля под океаном. Туннель этот построен, но оказывается, что он, в сущности, ни капиталисту не нужен, ни инженеру. У Келлермана есть внутренний червячок, который не позволяет ему быть стойким проводником инженерно-империалистического духа.
Самый последний роман его посвящен германской революции 39 . Германский переворот изображен в нем довольно точно, есть довольно яркие типы, но самая неудачная фигура – это фигура коммуниста. Эта сторона вышла очень бледной и неувлекательной, и в романе как-то больше оказывается безысходности, грустного настроения, чем настоящей бодрости.
Крупнейший реалист Испании – Бласко Ибаньес, писатель, который переведен на русский язык почти целиком, очень сочный; он выполнил для Испании задачу, сходную с той, какую Золя выполнил во Франции.
В Бельгии таким бельгийским Золя был Камиль Лемонье. Заслуживает внимания его роман «Новый Карфаген» 40 .
Скандинавия в реалистической литературе сыграла большую роль. Скандинавские писатели – Г. Ибсен почти целиком и Стриндберг в большой мере – относятся к символизму, поэтому их я разберу в следующей моей лекции. Об Ибсене дал монографию Плеханов 41 . Это – один из интереснейших писателей прошлого века.
О Бьернстьерне-Бьернсоне и Гамсуне я лишь упомяну.
Бьернсон (он переведен целиком на русский язык) написал много романов из крестьянский жизни, несколько интересных пьес из жизни буржуазии. Он имеет острый мелкобуржуазно-анархический привкус. Пьеса «Свыше наших сил», пожалуй, одно из наиболее интересных его произведений, делится на две части. В первой части изображается священник, который хочет сотворить чудо и проваливается на этом, а во второй – его сын, который хочет низвергнуть буржуазный строй и построить царство равных и также не может осуществить этот идеал. Бьернсон хотел сказать, что как христианский идеал, так и анархический и социалистический идеал социальной гармонии невозможны. Вообще чудес не бывает на свете, и тот, кто хочет сам совершить чудо или надеется на бога, берет на себя сверхчеловеческую задачу. Но написано это проникнутое мелкобуржуазным духом произведение с большим подъемом. Во всяком случае, защиты буржуазии (во второй пьесе) или духовенства (в первой) не только нет, но имеются прямые и меткие выпады против них.
К. Гамсуна одно время очень любили в России. Это – очень мощный изобразитель северной природы, человек, обладающий замечательно красочной кистью. Горький восхищался, упивался им как музыкой 42 . Это – большой талант; он является подлинным представителем анархической мелкобуржуазно-индивидуалистической интеллигенции, противополагающей одиночество общественности, но уже не страдающей от него, как Мопассан, а считающей одиночество чем-то лучшим, чем всякая общественность. Поэтому тенденции, которые сквозят у него, нам чужды.
И наконец назову американского писателя Уолта Уитмена, умершего в 90-х годах и написавшего одну книгу – «Побеги трав» 43 – большой сборник странных стихотворений, звучащих не как стихи, а как экстатическая проповедь. Он является по духу родоначальником пролетарской поэзии. Очень часто называют его демократом, говорят, что он представляет американскую промышленную демократию. В этом есть доля правды. Он любил демократию, любил простор диких, еще мало населенных мест Запада, фабрики и густо населенные города востока Америки, он был прославителем ее. Но я писал о нем в опубликованном письме к Чуковскому 44 , что демократия, которая представляет собою в политическом смысле искусственное соединение множества разъединенных единиц, была как раз совершенно чужда Уолту Уитмену. Он был ярым коллективистом. Именно в том его заслуга, что в трудовой демократии он видел конец личности и умел через единство человечества, сотрудничество, товарищество обнять природу. Он поет восторженную песню коллективному чувству.