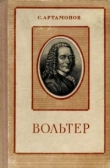Текст книги "Том 4. История западноевропейской литературы"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
Ругают Гюго, по-моему, незаслуженно. Например, Ромен Роллан говорит, что Гюго плох тем, что слишком плакатен, слишком ходулен 32 . Роллан говорит, что пролетариат требует более обычного, более правдивого. Это пустяки. Сам Ромен Роллан, говоря о народном театре, кончает тем, что надо дать народу мелодраму. А что такое мелодрама, которая до сих пор давалась народу? Это – обман чистейшего вида. Ее авторы внешним образом поняли, что нужна публике именно плакатность, именно яркость добра и зла, чтобы все бросалось в глаза, чтобы были сильные страсти. Все эти моменты в мелодраме имеются. Но все же мы знаем, что большей частью мелодрама пошловата и полна вредного буржуазного содержания, потому что, авторы ее – люди второго сорта, бездарные поставщики пьес на театры для бедной публики. Но как раз к мелодраме близки и произведения молодого Шиллера, например «Разбойники» и еще больше «Коварство и любовь», к мелодраме приближается и Гюго. Произведения Гюго всегда полны высокого содержания. При всей ходульности языка, рычащего, как лев, в нем чувствуется настоящая сила в каждом слове. Допустим, что его мелодраматичность, его плакатность, его искусственность делают эти пьесы яркими, торжественными, мало похожими на жизнь. Что же, разве мы идем в театр смотреть то, что мы видим на улице или у себя в квартире? Нет, в театре мы хотим видеть ту же жизнь, но сгущенную, яркую, в приподнятом тоне, на сцене все контуры должны быть резче. Вот почему я думаю, что у Гюго и в области театра очень многому можно поучиться.
Во Франции нашлись два писателя, из которых один продолжал линию романа Гюго, а другой – пьесы; оба они сделались действительно писателями для народа. У них есть сильные стороны и есть слабые.
Первым из них был Евгений Сю. Он провозгласил себя социалистом, хотя и был богат. Сю на своих книгах нажил огромные деньги. До него не было такого писателя, который раскупался бы в сотнях тысяч экземпляров. До него крупнейших писателей, не исключая даже Гюго, читали несколько десятков тысяч наиболее грамотных людей. Евгений Сю давал свои романы во французских газетах и отдельными дешевыми выпусками (таким образом его романы дошли до самого малограмотного человека), и все ждали с нетерпением, когда появится следующий выпуск. Не знаю, притворялся ли только Сю народником или действительно считал себя им; но в личной жизни он, во всяком случае, проявлял кричащее противоречие этому: он любил заказывать раззолоченные экипажи, роскошные квартиры, ходить в туалетах с бриллиантовыми пуговицами. Он научился у Гюго писать интересно. Читая его, вы, затаив дыхание, думаете: что же дальше? Только что выйдете из одной авантюры, как попадаете в другую. Его герои – живые люди, с более или менее сильной волей и противоположно направленными интересами. При такой борьбе копают друг другу яму или заключают союзы между собою, – и при этом на каждом шагу вмешивается случай, который разрушает одни козни, поддерживает другие. Всему этому Сю придал некоторый народнический характер. Может быть, высшие круги с неудовольствием относились к этому социальному привкусу, но и они не могли отказать себе в удовольствии читать его романы – очень уж они красочны и увлекательны.
Возьмите «Вечный жид», или «Семь смертных грехов», или «Трущобы Парижа» 33 и т. д., романы все томов по семь-восемь, так что читать их как будто только за наказание можно, но начните читать и вряд ли сумеете оторваться.
В романе «Вечный жид» изображается борьба между иезуитами и свободомыслящими элементами из народа. Этот антиклерикальный характер романа создает его симпатичную сторону. Он наивен, аляповат, по-настоящему нехудожествен, но в нем такая изобразительность, такая яркость красок, что когда смотришь после этого на современных писателей, то кажется, что они в смысле изобретательности ушиблены в самой колыбели.
У Сю художественной отделки вообще мало, но захватывающих эпизодов много, и от времени до времени он создает яркие типы. Романы его переиздаются еще в наше время.
Александр Дюма, пожалуй, еще дешевле Сю. У него никакой революционности нет, хотя, написавши двести пятьдесят томов сочинений и будучи беспринципным, он иногда изображал и революционеров. Он зарабатывал массу денег, но проматывал еще больше. И если сам уставал писать, то покупал чужие рукописи и, даже не просматривая их иногда, подписывал свое имя и издавал; если автор был требовательный, книга выходила за подписью: «А. Дюма и такой-то», хотя ни одной странички в этой рукописи сам Дюма не написал. Сначала он предварительно исправлял чужие рукописи и ставил точки над «и», а потом стал подписывать, не читая, и вряд ли он сам когда-либо прочел все двести пятьдесят томов своих сочинений. Среди его романов есть великолепные вещи по блеску и остроте приключений. Всем известны, например, романы «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо». Многие книги Дюма переиздаются ж все вновь читаются.
Дюма писал также пьесы. Он великолепно чувствовал, как захватить публику, как писать пьесу, чтобы она прошла минимум сто раз. Он был большой мастер на это. Он чувствовал, что он изящный писатель, который может угодить утонченному вкусу, – но знал также, что его пьеса пойдет в народном театре; нужно было обращаться к публике, которая требовала крепкого, эффектного, бьющего в глаза, и он создавал это крепкое так, как это нужно было для настоящего народного театра.
Я, конечно, не призываю к тому, чтобы воспитывать нашу новую публику на произведениях Гюго, тем менее на Дюма или Сю; но я настаиваю на том, что эти три писателя нашли громкий, четкий, впечатляющий язык, который легко проникает в миллионные массы, и что нашим писателям-драматургам, желающим захватить внимание масс, есть чему у них поучиться.
Одиннадцатая лекция *
Байрон, Шелли и Гейне
Между романтикой французской и немецкой есть существенное различие. Среди германских романтиков нельзя указать ни одного, кому были бы присущи действительно революционные чувства. Это, конечно, определялось положением Германии, в которой надежды на революционное движение не было никакой вплоть до 1848 года (а мы как раз говорили о тех романтиках, которые жили до 48-го года). Между тем во Франции весь период от конца предшествующего столетия до 48-го года испещрен революционными движениями, а подчас даже крупными революциями, вроде июльской революции 30-го года. В стране, пережившей Великую революцию, отголоски ее были гораздо резче того глухого эха, которое докатилось до Германии, и поэтому среди французских романтиков революционные настроения были очень заметны. Правда, и здесь есть уход и в фантастику и в сумасбродство, но в общем водораздел был довольно ясный. У немцев от чистой фантастики и мечтательного идеализма мы видим переход к ироническому отношению к действительности, переход к мистике и даже католицизму. У французов (за исключением представителей класса отживающего, – я говорил уже о Шатобриане) мелкобуржуазная интеллигенция, романтическая богема хотя и имеет известный уклон к фантастике, но очень часто возвращается к протесту против крупной буржуазии и против правительства, доходя до призыва к резкой борьбе. Поэтому на почве французской романтики выросла такая крупная революционная фигура, как Виктор Гюго.
Виктор Гюго умер глубоким стариком, дожил до Коммуны и пережил ее. Эта огромная и яркая эпоха была пережита им непосредственно, и он отобразил ее в своих произведениях.
Английские романтики добились большого успеха. Пожалуй, самой большой фигурой, которую дала мировая романтика, был именно английский писатель Байрон, и очень часто вместо слова романтика говорят – байронизм. Однако Байрон, как мы увидим, вовсе не являлся типичным романтиком.
Итак, романтика была разнородна, пестра. Что же в ней общего? Общим и характерным для всего романтического течения было именно то, что эта литература отражала эпоху разгрома Французской революции и надежд на осуществление свободы, равенства и братства. Как этот разгром, как эта постепенно спустившаяся ночь безнадежности отражалась в разных умах, – зависело от целого ряда дополнительных обстоятельств.
Мы видели, что в Германии люди стали уходить в грезы. Целая религия грезового, мечтательного идеализма выработалась там, и она сформировала ряд изумительных личностей, имела ряд гениальных адептов. Во Франции романтики были преисполнены народничеством, жаждой справедливости, они продолжали вести борьбу с буржуазией, – иногда, правда, в плане противопоставления фантастической и разгульной, ярко индивидуалистически выраженной богемы размеренной, трафаретной, державшейся за золотую середину жизни восторжествовавшей тогда крупной буржуазии.
Франция кипела революциями (правда, малыми) вплоть до 1848 года. В 48-м году произошла огромная революционная вспышка, отделившая мелкую буржуазию от пролетариата. Затем, к 1871 году, накопилась новая, чрезвычайно яркая вспышка: на этот раз, при поддержке лишь самой мелкой буржуазии, бедноты, впервые проявил себя в революции пролетариат как уже вполне сформировавшийся класс. В Германии мы видим почти мертвую спячку. Правда, в 48-м году поднялся известный революционный протест, но выразился он в довольно смешной революции. Германскую революцию 48-го года можно считать абортивной, неудавшейся революцией, в значительной степени даже как бы карикатурой на Великую французскую революцию. И, конечно, она не имела в себе и доли трагизма революции 48-го во Франции.
В Англии таких резких потрясений мы вовсе не видим. Ее развитие в этом смысле шло гораздо ровнее; но все же и Англия переживала ту же ломку, которую переживала вся Европа.
Так, во время Великой французской революции и непосредственно после нее создались группы «друзей Великой французской революции», которые тоже возлагали все свои социальные надежды на революционное движение, на осуществление великих идеалов революции в Англии и испытывали глубочайшее разочарование, когда Французская революция была разбита. Это движение коснулось главным образом передовых интеллигентских кругов.
Затем был подъем в 40-х годах, во время чартистского движения, которое одно время представлялось очень революционным. Правда, до революции чартистское движение не дошло. Эта особенность объясняется тем, что Англия – первая страна торжества буржуазии, и революционные потрясения, которые Переживала Франция XVIII века, у нее имели место еще в XVII веке. Во время Французской революции многое из английской конституции выдвигалось как идеал устойчивой формы гражданского государственного строя.
Поэтому Англия слабо реагировала на болезненные явления в Европе, – болезненные в смысле потрясения всего внутреннего строя и развития внутренних противоречий. Но в ней зато приобрели особенную устойчивость некоторые глубоко отвратительные черты. Конечно, германский интеллигент чувствовал себя скованным своею церковью, пасторской или католической, своими мелкими провинциальными правительствами, цензуровавшими всю жизнь, отсутствием какого бы то ни было вольного политического воздуха, отсутствием вообще какой бы то ни было общественной жизни; только кабинетная работа, только книга, только грезы, то есть интеллигентщина, были той областью, в которой мыслящий немец мог в некоторой степени найти отдушину. В Англии внешняя свобода соблюдалась в гораздо большей мере. Я вам цитировал слова Шиллера, который говорил, что надо еще доказать, что немец приблизительно такой же человек, как француз и англичанин. Англичанин поставлен им в число людей свободных, с сильной возможностью развернуть свою личность. На самом деле это было не так. Политическая свобода действительно существовала довольно сносная, в виде старого парламентаризма со всеми соответственными атрибутами, более или менее разнообразной партийной печатью и т. д. Но рядом с этой политической свободой, благодаря непрерывности линии общественного развития и тому, что многие противоречия были разрешены или притушены некоторыми компромиссами, нравы в Англии закостенели.
Англия самая консервативная и в то же время самая либеральная страна в мире. Одно другому нисколько не противоречит. Она либеральна постольку, поскольку в тех случаях, когда история ставит перед нею известный кризис, известную проблему, английские правящие классы склонны пойти на известные уступки, приспособиться. Раньше других они усматривают возможность пойти на какой-то компромисс, видоизменить в чем-то внешние формы жизни, а иногда и существо классовых взаимоотношений, с тем чтобы сравнительно незначительной уступкой спасти главное – свое господство.
В других странах, которые кажутся внешне гораздо консервативнее, господствующие классы не идут ни на какие уступки: приходит кризис, а они продолжают отстаивать свою устарелую точку зрения; новые силы тогда разрывают эту косную перегородку, и происходит революция, требования которой обыкновенно заводят гораздо дальше, чем дело зашло бы, если бы господствующие классы пошли на уступки.
Вот этими двумя обстоятельствами определяется консерватизм Англии. Меняя в некоторой степени те или другие детали своего существования, из десятилетия в десятилетие, из века в век она сохраняет очень много старого, того, что в других местах давным-давно сметено. Как-то в газетах был напечатан забавный анекдот. Один из представителей английской консервативной партии сказал в своей речи: «Я спрашивал моих друзей, как они относятся к министерству Макдональда, и они сказали: „это одно из лучших консервативных министерств“». Это чрезвычайно типично для Англии. Английская буржуазия допускает представителей рабочей партии к власти, имея в то же время большинство в парламенте: следовательно, парламентской игрой сил она нисколько не обязуется сделать уступку, но она ее делает потому, что находит удобным сделать ее громадной массе рабочих, которая является подавляющим большинством населения, и говорит: «Вот ваши собственные люди, облеченные вашим доверием лица – у власти». Конечно, они прекрасно заранее взвесили, каков характер этих доверенных лиц, насколько возможно держать их на аркане благодаря своему большинству в парламенте и т. д., они действуют с полным расчетом, совершенно трезво, убедясь, что на самом деле «старая Англия» от этого никакого ущерба не потерпит.
В английском быту это отразилось огромным количеством всякого рода предрассудков, всякого рода «приличий», которые охватывают собою жизнь почти всех английских слоев. Чопорность, то, что называется комильфотностью, то есть правила поведения напряженного, затхлого и поповского характера, в Англии играет огромную роль. То, что в других странах проходит незаметно, к чему относятся терпимо, – различные обстоятельства личной жизни, какие-нибудь семейные нелады и т. п., – может там повредить человеку как общественному деятелю. Человек неверующий должен выполнять известные религиозные церемонии, иначе он может оказаться «непорядочным человеком» и быть выгнанным за дверь «хорошего общества». Рядом с этим – всяческое лицемерие: все скверное, что может быть сделано скрыто, в Англии делается, и делается иногда в самых отвратительных формах; но внешнее приличие, установившееся за десятки и сотни лет, имеющее твердость закоренелых убеждений, поддерживаемых общественным мнением, чрезвычайно важно соблюдать.
Нельзя сказать, чтобы Байрон или Шелли, два величайших романтических поэта Англии, особенно возражали против своей конституции, против своего политического строя. Они, конечно, хотели совсем иного общественного и государственного устройства, но тем не менее получали достаточно политической свободы, чтобы политический протест их не был особенно остер. Но зато они чувствовали, что все общество сковано таким неизмеримым количеством предрассудков, религиозных и моральных, что ими прямо задушена живая личность. И поэтому английская романтика развернулась преимущественно в направлении борьбы против быта, против общественного мнения, против общепринятой морали, за глубинную и широкую свободу яркой индивидуальности.
Немецкие поэты, защищавшие права индивидуальности, редко могли выразить свои протестантские идеи и чувства в конкретных общественных идеалах. Вся общественная жизнь толкала их скорее в область мечты. До 1848 года ни одного немецкого поэта, даже такого, который приходил в резкое идейное столкновение с обществом, нельзя назвать революционером в собственном смысле этого слова. И многие из них, начиная с почти революционных мотивов («Разбойники» Шиллера), кончали все-таки либо известным примирением с действительностью, либо утешительным противопоставлением ей царства красоты или мистического потустороннего бытия.
Во Франции, конечно, было иначе. Романтики там часто обладали довольно определенными политическими убеждениями. Мы видели это на примере Гюго. Но с кем он входил в столкновения? С Наполеоном III, которого презирала половина Франции. Гюго выражал прогрессивное течение французской мысли, оставаясь верным знамени революции, народнической Франции, Франции, мечтавшей о возможности возобновить путь, на который она вступила в конце XVIII столетия. Но таких людей во Франции было много! У него были столкновения с полицией, Гюго был изгнанником. Но все же это не были такой огромной остроты столкновения с обществом, как у английских романтиков.
Английской романтике пришлось вступить в борьбу со всем английским обществом сверху донизу. Пролетариат тогда был совершенно задавлен, никак не мог себя проявить, и все «простонародье» культурно никак себя не проявляло. Но зато шла интенсивная политическая и умственная жизнь в высших классах общества, то есть в средней буржуазии, в высшей буржуазии и аристократии. И вот тут-то именно и плодились все предрассудки. Английский интеллигент, разбуженный французской революцией, полный мечтаний о том, что все можно переменить, что перед человечеством можно раскрыть какие-то блистательные перспективы, воспринял эту революцию не столько социально и политически, сколько индивидуально. Для него это внутренне преломилось в жажду крупной, самостоятельной, энергичной, смелой жизни. Носителем такого протеста большой, смелой, яркой, высокой личности против тусклого и полного лицемерия общества и был Байрон. В этом его громадное революционное значение.
Байрон родился в 1788 году. Умер он в 1824 году, тридцати гнести лет. Гюго тогда только еще начал проявлять себя как романтик, а политические воззрения его были близки к монархизму. Позднее он левел, испытывая в значительной мере влияние Байрона. Имя Байрона было синонимом революционного протеста во всю первую половину XIX века.
Почему же Байрон сделался революционером и даже синонимом всего революционного, всего протестующего в Европе? Ведь он родился лордом. Казалось бы, классовое чувство должно было направить его в сторону защиты старых общественных устоев.
Довольно легко, однако, вскрыть причины, которые заставили Байрона уйти из аристократического мира.
Вся фигура Байрона полна мучительных противоречий. Родился он лордом, но унаследовал совершенно ничтожное имущество. Он был полунищим лордом, а его сатанинская гордость, которая впиталась в него, принадлежащего к английской аристократии, – вообще отличающейся большой надменностью, очень большим самомнением и большим желанием внешне проявить свою «сверхчеловечность», – жила в нем и постоянно натыкалась на невозможность проявить себя прежде всего из-за недостаточности денежных средств. Байрон был на редкость красив. Красота его вызывала восхищение современников, но он от природы был хром. Одни говорят, что это было не очень заметно, другие – что это сильно портило его внешность. Во всяком случае, он от этого страдал. В конце своей жизни он написал одну драму (она не окончена) на эту тему, на тему об уроде с прекрасной душой, который страдает из-за своего уродства 1 . Он всю жизнь, начиная с детских лет, выходил из себя, когда кто-нибудь намекал ему на этот недостаток или когда ему казалось, что он дает себя знать.
Это был человек необычайно чуткий. И такие обстоятельства, как знатность и бедность, красота и уродство, с самого начала наложили на эту чуткую душу какое-то странное, печальное клеймо, Самая чуткость его была особого характера. От своих предков Байрон унаследовал бурные приступы гнева, которые иногда выливались в настоящие припадки бешенства. А насколько он способен был поддаваться силе красоты или сострадания, видно из того, что несколько раз бывали случаи, когда он, под влиянием эстетического впечатления, падал в обморок с судорогами. Когда он видел игру знаменитого актера Кина, когда ему приходилось присутствовать при перевязке раны, возбуждавшей в нем сострадание, он заливался слезами, как самая слабая женщина.
Вот эта редкая внутренняя нежность, связанная с крайним самомнением и гордостью, создавала прекрасную почву для столкновения с обществом.
Вообразите себе, в самом деле, человека, который каждую маленькую занозу, каждую неприятность в жизни испытывает болезненно, человека полного внутренней гордыни и считающего, что к нему должны относиться с преклонением, что он является личностью совершенно исключительной, что ему незачем стараться уложить себя в рамки старого отрицательного общества, которому проснувшийся разум подлинно нового человека должен положить конец. И вот человек с этой гордостью, с этой мягкостью, с таким революционным запалом начинает нападать на английские устои, на английское лордство, на все английское общественное мнение, – сначала легкомысленно, пока был подростком и юношей, а потом с крайней степенью гнева и протеста. – Такая личность, которая на всяком шагу рвет установившийся порядок, хочет жить по-своему, бросает направо и налево вольнодумные речи и подчеркивает, что она ни на кого не похожа и ни с кем не хочет считаться, – опасный для «общественных устоев» и традиций отщепенец, совершенно нестерпимый на таком общественном фоне, как английский, в котором каждый выдерживает себя наподобие всех других.
Чем дальше, тем больше происходило столкновений между Байроном и английским обществом. Оно само создавало из Байрона крупного революционера мысли и политики.
Если бы английское общество сделало какие-нибудь шаги, чтобы как-то приласкать Байрона, примириться с ним, может быть, он остановился бы на каком-нибудь промежуточном звене, но нет: оно его оскорбляло, оно его унижало, окружало враждебностью, сплетней, оно его естественные молодые порывы превращало в басни о его необыкновенной порочности, преступности. А он замыкался в себя, в свою гордыню и не только не оправдывался, наоборот, был даже готов сказать, что все это правда. И чем больше его обвиняли в отщепенстве и сатанизме и т. д., тем больше он приобретал черты, иногда граничащие с вызывающей позой, со стремлением к внешнему эффектничанию, дразнившему «общество».
Первые его поэтические произведения дали ему большую славу, потому что английская поэзия редко когда имела человека с таким музыкальным стихом, с таким блестящим полетом фантазии. Но вместе с тем первые же его произведения вызвали и самую недружелюбную, самую едкую критику со стороны защитников общественной морали, а позднее он стал писать уже назло им все более и более «аморальные» вещи и вызвал крайнее озлобление доминирующей английской критики.
Эти обстоятельства вынудили Байрона бежать из Англии, искать пристанища в другой стране. Он всегда стремился к азиатским странам, его тянуло на юго-восток. Там он находил свою настоящую родину. Ему казалось, что там гораздо больше свободы в жизни, меньше связанности предрассудками, и он почти всю свою жизнь прожил в Италии и на юго-востоке.
Европа с восхищением, смешанным с удивлением, а иногда и с озлоблением, следила за этой странной личностью. Английский лорд, покинувший свою родину, необычайно красивый, с признаками высшего дендизма, он любил швырять деньгами, которых много зарабатывал литературным трудом. Он любил эффектно одеваться, задавать балы, во всех городах, в какие он являлся, старался сейчас же поразить жителей какой-нибудь странностью, прогреметь, хотя бы даже и скандально; а рядом с этим дендизмом, с этим пусканием пыли в глаза – огромное благородство и полная готовность всегда поддержать слабейшую сторону, рыцарственность, большой уклон к революции (Байрон, например, демонстративно дружил с итальянскими карбонариями, тогдашними итальянскими революционными заговорщиками, подчеркивал свое участие в этом движении, давал деньги на всевозможные революционные попытки в Венеции и т. д.).
В то же время Байрон дарил миру изумительные, совершенно неожиданные, совершенно новые, непохожие на все литературное прошлое, произведения.
Самые свирепые враги не могли не признать, что это великолепно по языку, по смелости мысли, по полету фантазии. Но вместе с тем каждая такая вещь возбуждала огромные споры, потому что это были удары по всему базису тогдашней реакционной общественности. Повторяю, Байрон редко касался в своих произведениях вопросов политических, а больше всего напирал на быт. Тут он не щадил слов для того, чтобы обвинить во всяких уродствах и верхи и мещанские низы Европы, доказывая, что все в ней – купля и продажа, все мелко, подражательно, что это какое-то большое, отвратительное стадо, где в спертом, отравленном его дыханием воздухе не может развернуться ничто оригинальное, ничто самобытное, ничто яркое, что от этой жизни нужно бежать куда-то, если нельзя ее разрушить.
И кончил он свою короткую жизнь (умер он тридцати шести лет) тоже очень эффектно. Как всякий тогдашний либерал, Байрон питал большое пристрастие к Древней Греции. Вы помните о романе «Гиперион» Гельдерлина? В нем проявляется та же страстная влюбленность в Грецию. Гёте в последние годы своей жизни тоже был эллиноманом. Первые попытки греков к восстанию против турецкого ига вызвали в Байроне огромный подъем настроения. Казалось, что греческой революцией можно вернуть ушедшую древнюю Элладу, которая для всех этих людей являлась путеводной звездой. Байрон всей душой отдался греческому восстанию, был как бы первым министром его и главным полководцем. Он проявил большие политические способности и решимость. Лорд Байрон стал во главе банд, взбунтовавшихся против господствующих классов Турции. Он умер во время этой борьбы в Греции, в болотах Миссолонги.
Такова была жизнь этого странного человека. Многие так и говорят, что это был чудящий барин. Да, наполовину это верно. Барственные причуды не оставляли Байрона никогда ни в его произведениях, ни в его внешних выходках. Но этот барин гениален, его «чудачества» потрясали устои общества в период абсолютной победы реакции, в 20-е годы XIX века. Этот «чудящий барин» принадлежал, несомненно, к лучшим людям того времени.
Влияние его на мировую литературу совершенно неизмеримо. В литературе любой страны можно найти подражание Байрону. Сильно это влияние и в русской литературе. У нас и незначительные писатели, вроде Марлинского, были переполнены байронизмом, и наши великие писатели Пушкин и Лермонтов были под обаянием Байрона настолько, что произведения Пушкина первого периода и даже такое; как «Евгений Онегин», должны быть отнесены к байронической школе, так же точно как большинство произведений Лермонтова. По этим примерам вы можете себе представить, как велико значение Байрона.
В чем же сказалась литературная деятельность Байрона?
Он жадно искал выпрямленного, смелого человека. И найти его казалось ему возможным прежде всего на Востоке, то есть там, где европейская цивилизация еще не существует. Восток этот он очень идеализировал. Современных греков, малоазиатских турок он знал в то время мало. Он их идеализировал и создавал яркие сказки, которым в действительности ничто не соответствует и которые, конечно, не отражали подлинного Востока. Это были яркие сказки с большими страстями, с какими-то огромными перипетиями, с пышной псевдовосточной пламенностью. Весь тот чрезмерный, ходульный, оперный Восток, который потом в течение долгого времени держал в плену умы, был в значительной мере создан Байроном. Его произведения такого рода, как «Абидосская невеста» и целый ряд других, и сейчас могут читаться не без удовольствия, хотя интерес к ним несколько упал. Замечу, что «Бахчисарайский фонтан» Пушкина есть чисто байроническая поэма. «Бахчисарайский фонтан» написан не столько с живого Крыма, сколько по поэмам Байрона. У Байрона тоже есть такие задумчивые, мечтательные султаны, которые расправляются со своими неверными женами, есть и смелые любовники, которые переплывают моря, чтобы свидеться с предметом своей страсти, люди, в которых вулкан страстей, которые сшибаются друг с другом зло и враждебно, как большие звери. Байрона это привлекает. Ему кажется, что самая атмосфера, и костюмы, и оружие, и простота нравов, и непосредственность страсти, – все это имеет бесконечное преимущество перед застывшим прозаическим обществом Европы. Можно было бы, конечно, найти и до Байрона и рядом с Байроном других романтиков, которых влекло на Восток, но никто из этого Востока не сделал такого яркого употребления в литературе, как Байрон.
В литературе обществ замкнутых, сдавленных, не могущих проявлять никак свое творчество, часто встречается стремление идеализировать отверженных, отщепенцев. Я рассказывал вам о «Разбойниках» Шиллера; можно было бы указать подобные же произведения и до него. Романтикам все общество представляется ручными, выхолощенными мещанами, наиболее крупные личности, по их мнению, неизбежно выпадают из общества. Где же эти личности? Их нужно искать среди каторжников, бандитов, среди тех, кто не считается ни с какими законами, ни с какими церквами, ни с какими правительствами, а хочет организовать по-новому человеческое общество, – среди людей, с которыми общество старается сладить, пуская в ход все свои скорпионы.
Конечно, разбойник в качестве революционера – это очень ложный образ. Это совершенно оторванный от общества индивидуалист, абсолютно безыдейный. Горький со своими босяками тоже ведь ничего не смог сделать. При ближайшем рассмотрении он сам должен был своего босяка отринуть: босяк Коновалов превращается в нытика, копию того интеллигента, ради осуждения которого Горький повернулся к босякам, а в других типах (Артем) 2 указаны черты абсолютно звериные. На этом, в сущности говоря, Горький кончил свой «роман» с босячеством. У Байрона такого разочарования нет, он просто любит такие типы, как Л ара, Корсар и т. д., они ему представляются единственно революционными. Ему даже импонирует то, что у них не может быть ни дисциплины, ни широких идеалов, которым они себя подчиняют. Может быть, пролетарское движение для Байрона не было бы приемлемо.