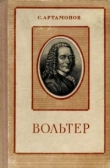Текст книги "Том 4. История западноевропейской литературы"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
Вот такое своеобразное смешение всей ограниченности мещанской революции и пламенности революционных порывов живет в этой мильтоновской поэме в таких парадоксальных формах.
Самым ярким проявлением того абсолютизма, который возник на почве соревнования буржуазии и феодализма, является, конечно, французская монархия. Она в значительной степени была создана одним из величайших политиков и дипломатов, каких знает европейская история, – кардиналом Ришелье при Людовике XIII. Именно кардинал Ришелье почувствовал опору в росте городов и буржуазии и объявил прямую и истребительную войну непокорным феодалам, стянул их к трону и заставил их превратиться в придворную знать, в придворных вельмож. Борьба эта была не пустячная, и уже после смерти Ришелье кардинал Мазарини, его ближайший ученик и подражатель, в эпоху молодости Людовика XIV, доделывал это дело.
Людовик XIV вошел на престол в тот момент, когда в этом отношении судьба улыбалась французской монархии. Его предшественником работа была сделана. Буржуазия пыталась в форме гугенотского движения выступить против монархии, так сказать, перевесить чашку весов в свою, левую сторону, но еще Ришелье начал укрощать восставших буржуа, а Людовику XIV осталось укротить их окончательно. Когда же феодалы поднимали свою фронду, свою войну сеньеров против монархии, то и их, при помощи городских дружин, тоже сламывали без особого труда. Ко времени Людовика XIV все стали ползать на животе. Его называли «король-солнце», и вы, вероятно, читали про курьезы тогдашней придворной жизни, про эти леве-дюруа, королевские вставания, когда первейшие вельможи допускались лицезреть, как натягивал он панталоны, один держал его подвязки, другой его чулки, и это считалось за величайшую честь. Исполнять лакейские обязанности при короле – это представлялось даже могущественным феодалам величайшим отличием. При дворе никто не смел иметь своего мнения, и чем дальше Людовик XIV вырастал просто в смысле возраста, тем деспотичнее он становился. Человек он был неглупый, в нем были некоторые недурные стороны, но в этой атмосфере лести и всемогущества он совершенно развратился. В особенности тяжелым и мрачным сделался он в конце своей жизни, когда оказалось, что есть вещи, которые и королю не подчиняются, когда вечные войны разорили Францию, когда она стала терпеть поражения.
Двор Людовика XIV представлял собою кульминационный пункт раболепства и пышности. Пышность нужна была для того, чтобы укрепить престол, Людовик XIV строил великолепные дворцы, содержал блестящие выезды, охоты, устраивал балы, спектакли и т. д. Французский Ренессанс доставил ему много людей, культивировавших науку и искусство. Монархия старалась щегольнуть всем этим. Она приглашала к своему двору множество художников всякого рода, которые должны были способствовать, блеску и изяществу нравов, великолепию балов и пиршеств, пышности дворцов, разнообразию развлечений и т. д. Париж к этому времени почти уже съел Францию, – в провинции мало чего осталось, – а двор почти съел Париж. Но вместе с тем, благодаря концентрации сил, Франция приобрела настолько сильную армию, такие финансовые средства, что она, как военная держава, сделалась, пожалуй, самым крупным фактором европейской политики. Значит, были условия, по крайней мере в начале царствования Людовика XIV, для внешнего блеска. А потом разные корольки и даже крупные европейские короли, чувствуя, что Людовик XIV и силен и богат, стали подражать ему и всюду завели маленькие Версали, стали подражать тому, что творилось в Париже.
С тех пор Италия отходит на задний план, – торговля ее потускнела и перешла к Англии, став больше заокеанской, чем восточной. Испания тоже к тому времени начинает меркнуть. Испания не побила голландцев, не побила англичан, внутренне разложилась в своей собственной тяжелой реакции и уступила место блестящему восхождению на трон в качестве гегемона Европы французского «короля-солнца».
В начале царствования Людовика XIV еще были некоторые признаки самостоятельной политической жизни дворянства; к концу его царствования в дворянстве прекратились все признаки жизни, но зато увеличилась жизненность буржуазии. Но ни буржуазия, ни дворянство при Людовике XIV не смели провести свои классовые интересы до конца.
Обыкновенно стиль этого времени называется стилем Людовика XIV. Какое отношение имеет этот стиль к барокко? Это был, в известной степени, шаг назад, к Ренессансу. Но Ренессанс выражал собою в лучших своих произведениях более или менее свободную общественность. Лучшие его произведения относятся к тому времени, когда города-коммуны или мелкие княжества строили себе свои храмы и дворцы. Людовик XIV, который чувствовал себя мировым деспотом, должен был все строить в широком масштабе, но в спокойном стиле. Ему мерещился, конечно, императорский Рим. И действительно, стиль Людовика XIV перенимал именно римский стиль. Мы встречаем эту тенденцию неоднократно. Как только монархия прочно утверждается, монарх стремится назвать себя Цезарем, Августом, «августейшим монархом», назвать себя непременно императором, то есть сейчас же вводится подражание Великой Римской империи. И в стиле сейчас же вводятся эти строгие колоннады из огромных камней, широкие гармонические фасады, весь римский стиль, который громко и определенно говорит: «Преклоняйся передо мною, червь; но я не бессмысленная мощь, а законное право и достойный благоговения порядок». Такой идеей дышат римские постройки, и внушить их хочет всегда всякая монархия; это ее самообожествление, это та пропаганда, которой она хотела бы действовать на всех.
Но Людовик XIV вышел только что из Ренессанса и барокко, и черты их не были изъяты полностью. Потом смешение барокко с таким римским стилем как бы знаменовало, что бури начинают окристаллизовываться, успокаиваться, все приобретает бюрократический характер, характер упорядочения государственного, характер официальный.
Действительно, посмотрите, что сделали, например, с садами? Король не может допустить, чтобы природа была такой, какова она есть. Непочтительные деревья не смеют расти по своей воле, они должны быть по линейке расположенными и распускаться все, как одно. Как он вводит форму для валедешамбр (лакеев), как вводится форма в войсках, так и деревья должны принять единообразную форму. Поэтому величайший садовник Ленотр проводил дорожки и площадки, подстригал деревья кубами, пирамидами. Все они как одно, сучок к сучку. Ничто не должно отличаться своей индивидуальностью. Все было чопорно и официально. Когда вы ходите по этому саду, то чувствуете, как торжественно тогда должны были выступать люди во время церемоний, сколько должно было быть этих церемоний, чтобы каждый чувствовал себя винтиком в определенном установленном порядке, а не свободной индивидуальностью. И в тогдашней архитектуре и в живописи помпезных живописцев, которые давали различные батальные картины и изображали различные королевские церемонии, мы видим тот же дух.
Одним из величайших драматургов того времени был Корнель. Корнель по происхождению был буржуа, но порвавший с буржуазией все связи. Сам он не торговал, он только драмы писал. Однако он создавал то, чего требовал в то время рынок. Рынок требовал придворной трагедии на манер испанской. Так как Испания незадолго перед тем имела великих трагиков Лопе де Вега и Кальдерона, то, естественно, и Франция хотела иметь таких же трагиков. И вот Корнель вступил в соревнование с испанскими драматургами. Если вы возьмете Лопе де Вега, то увидите, что в его комедиях, вызывающих хохот, и драмах, в которых кипит какая-то живописность, можно отдохнуть на забавных, ловких авантюрах. Все это потому, что, как ни силен был испанский двор, но во время Лопе де Вега он еще не заморозил всей жизни. Кроме того, Лопе де Вега сам был не придворный человек, – он был поэт-авантюрист по самому духу.
Не то был Корнель. Драмы Корнеля укладываются в гораздо более узкую полосу: все они приемлемы для двора и все выдержаны в серьезном тоне. Сам Корнель был человек глубоко серьезный, с некоторым оттенком мрачности, напыщенный и торжественный. Его душа звучала в унисон с его писательской деятельностью.
Что он видел и что чуяло сердце честного, вдумчивого, серьезного писателя-буржуа?
Мог ли он изображать буржуазную драму? Ее никто не стал бы смотреть. Ясно, что он должен был изображать непременно королей, принцесс, героев древности и т. д. Он так и делал, но в основании его произведений лежали факты и чувства, ему современные. Борьба феодалов с королем и процесс, путем которого феодалы сламывают в себе свою помещичью гордость и преклоняются перед единством общенациональной фирмы и ее представителем королем, – вот что было основным в его драмах. Завершение борьбы центробежных стремлений гордых самодуров-феодалов с общим интересом, требующим создания великой Франции, в то время казалось возможным только путем подчинения всех воль единой воле первого среди дворян, то есть монарха. Но вместе с тем не угасала и борьба индивидуальности за свое личное достоинство.
То, что я сказал об архитектуре, подводит как раз к некоторым глубоким сторонам этого социального процесса. Что архитектура Людовика XIV отражает собой? Она приостанавливает всю подвижность, судороги барокко, и стремится провести идею порядка, которая является доминирующей для тогдашней монархии. Как же должна отражаться на живой душе эта идея порядка? Она воплощается в чувстве долга, службы, государственной повинности, обязанности. Каждый человек должен себя чувствовать подчиненным. Для чего? Чтобы осуществлялся великий порядок. Такова эта монархическая пропаганда, монархическое воздействие, стремившееся превратиться как бы в совесть человека. Это есть главная моральная сила, которой привлекала к себе людей корона.
Корнель был буржуа, но и он чувствует, как важен этот порядок. Он в этом смысле разумно и искрение поддерживает короля. Перед чувством долга стираются и буржуазное и дворянское соревнование, и всякое личное чувство собственного достоинства. Как все около Людовика XIV было четко и стройно, так и драмы Корнеля чудесно построены, как будто бы они тщательно отшлифованы и все в них на своем месте, все звучит, как одна стройная, непрерывная, хотя и несколько монотонная музыка.
Но выступления феодалов еще не прекратились. Корнель видел «великого Конде» 8 , когда тот сопротивлялся королю, он жил в то время, когда монархия не захватила всего, а только еще захватывала, он видел силы, противоборствующие королю. Корнель знал все это взбаламученное море, в котором постепенно воцаряется порядок. Отсюда черпал он основные тона драм. В лучшей из них – «Сид» – сюжет взят из испанской жизни. Здесь описывается, как один феодал ударил другого по лицу. Сын оскорбленного мстит и убивает обидчика. Между тем оказывается, что он любит дочь убитого им и пользуется ее взаимностью. Между ними кровь. Все феодальные чувства здесь налицо: оскорбление, распря, личная месть в семье, и при этом вмешивается страстная любовь. Герой сначала говорит: долг повелевает мне убить ее отца, но я люблю ее, как я могу убить? Первая буря. Но долг выше. Он должен отомстить за отца, феодализм так ему велит, и он убивает. Какая же сила заставит все уняться, прийти в порядок? Королевская власть. Королевская власть оказывается достаточно сильной, чтобы сказать: Сид – крупный полководец, он мне нужен; это ничего, что он убил твоего отца, выходи за него замуж. Все подчиняется королевской воле. Это – крайне характерный и типичный корнелевский мотив.
Но Корнель был человек, живший в век Ришелье, в век беспрестанных ударов кинжалом из-за угла, в век отравленных чаш, в век великих интриг. У него внутри клокотала авантюристская кровь.
Поэтому в его драмах прорываются часто фигуры загадочные, сатанинские, темные преступники, женщины, одержимые какими-нибудь невероятными страстями, и т. д. Это придает мрачное величие его трагедиям. Как они с внешней стороны ни законченны и ни заштукатуренны, внутри их клокочет большая и бурная жизнь.
Сделаем шаг дальше. Скоро Корнель уступил место молодому драматургу – Расину. Про Расина вы слышали, конечно, что он ложноклассик, причем вам говорят, что при Людовике XIV возникла такая отвратительная школа, которая, не понимая, что такое закон трех единств, писала на манер дурно понятой античной драмы, выводя античных героев, но, заставляя их говорить на придворном языке, делать реверансы, облекала в античные тоги кавалеров и дам, и что это смешно, что это глупый маскарад. Придворные, которые смотрели пьесы Расина, с удовольствием видели в его Андромахе, Федре и других античных образах, по существу, свое собственное отражение, тех же самых придворных людей. При этом отмечают, что очень характерна и очень отрицательна у Расина отменная вежливость его героев: дело идет о жизни и смерти, дело идет об ужасной страсти, а между тем сохраняются необыкновенно вежливый тон и чрезвычайно отполированные, адвокатские блестящие речи, которыми герои обмениваются друг с другом. Все происходит по этикету. Основная черта ложноклассицизма в этой этикетной форме. Это чисто дворянский, паркетный продукт, в котором отражается в искаженной форме античная драма.
Все эти суждения должны быть отброшены как старое мнение, почти совершенно не отвечающее истине. Если бы оно было правильно, то было бы странно, что Расин пользовался не только колоссальной любовью тогдашних придворных кругов, но и города Парижа и провинции, где также ставились его пьесы. Наконец, величайший писатель современной нам Франции Анатоль Франс не мог бы с благоговением говорить о Расине 9 .
На самом деле Расин был буржуазным писателем. Конечно, он был придворным поэтом короля Людовика XIV, получал от него стипендию, числился его слугой, ездил в его карете, радовался, когда король ему говорил ласковое слово, и приходил в ужас, когда король отвращал от него свои взоры. Этот человек был почти на лакейском посту при дворе, был забавником, развлекателем придворных. Вся поэзия его поэтому должна была втиснуться в соответственные рамки, которые для придворного быта были приемлемы.
Но что было, по существу, основным мотивом Расина? Почему его люди, при всей их внешней вежливости, так серьезны? Вы ни разу не встретите у него дешевенькой любви, – она у него, несмотря на то что выражается в полированных фразах, всегда готова на самопожертвование. Чувство патриотизма всегда вырастает до настоящего культа, чувство дружбы, чувство чести – все это в высшей степени прочно, отношение к себе и к другим чрезвычайно требовательное. Расин замечательный, изумительный психолог. В совершенно кристально прозрачных формах, без всякой романтики он показывает трепеты всяких внутренних дисгармоний, элементы внутренней борьбы, которые пронизывают человеческую душу. Особенно удивительно его проникновение в женское сердце. Он часто берет античных героинь (Федру, например), глубже заглядывает в муку их сердца, чем делали античные авторы, и, несмотря на всю внешнюю полированность, правдивее и человечнее, чем древние, изображает их чувства.
Откуда это внимание к своей совести, желание себя оправдать, желание сознавать себя великодушным, желание уважать себя? Неужели эти герои – придворные шаркуны Людовика XIV, да еще в эпоху упадка, когда в них уже не осталось даже того, что корона в них не ценила? Неужели это у них были такие чувства? Нет, это были чувства демократии, тяготеющей к буржуазии. Как доказать это?
Я только что говорил, каковы были английские пуритане, кальвинисты, что было характерного хотя бы у такой фигуры, как Корнель. Это были люди важные, это были люди торжественные, немножко чопорные. В то время как придворные одевались в ленты и по-женски украшали себя, буржуазия ходила в костюме а-ля-франсез, то есть в черном костюме с маленьким воротничком, не носила париков, не душилась мускусом, не лепила мушек, а торговала в своей лавке и считала в своей торговле самым важным честность, в семейной жизни – абсолютную добропорядочность. Она накопляла материал той выдержанности, той серьезности в жизни, которая у французских гугенотов особенно бросалась в глаза. Гугенот – это человек, который никогда не улыбается, человек, который сосредоточен в себе. Он считает, что церковь – это для совести, но нужно жить постоянно для накопления своего капитала, не позволять себе ничего лишнего. Бог этого хочет, он якобы благословляет достатком и уважением своих подлинных слуг, хороших купцов.
И если гугенотов удалось сломить, то нельзя было сломить католическую буржуазию, создавшую особую формацию так называемых янсенистов. Замечательно, что кальвинисты, крайние сторонники реформации, утверждают, что человек не может быть ни праведным, ни грешить без воли божьей, ибо все богом предустановлено, то есть никакой свободной воли нет, а есть люди, которым богом предустановлено быть праведниками, и есть люди, которым богом предустановлено гореть в аду. Зачем это? Тогда не к чему человеку и стремиться? Нет, говорили они: правда, человек может грешить, но если богом предназначено ему спастись, в определенный день вдруг наступит перелом, а другой может казаться великолепным праведником, но если он предназначен для того, – в определенное время согрешит. Однако тот, кому предназначено быть праведником, носит в себе внутреннее убеждение, внутренний свет, который доказывает ему, что он сын божий, и тогда для него все на свете пустяки. Он чувствует свою победу над всяким грехом, над всяким искушением, он становится святым. А святость тогда равна была правильной торговле, добропорядочности и хорошему семейному укладу. Это означало обеспеченную квартиру в раю.
И кальвинистские священники до такой степени развивали этот страх перед адом и надежду на благословение божие, что невольно спрашиваешь себя, – где же социальный корень этого явления?
Макс Вебер указывает на то, что буржуазия создавала тогда идеологию, которая все человеческое подчинила бы этой абстрактной честности, добропорядочности накопления 10 . Это и стало хорошей пуританской добродетелью. Вечное внутреннее самокопание, выражавшееся в длинных исповедях священнику, в которых люди анализировали свою душу, было процессом капиталистической самодисциплины.
Янсенисты были те католики, которые примкнули к этому воззрению. Это была буржуазная секта католиков. Они создали свой монастырь Пор-Рояль, создали литературу. Литература эта – казуистика, разбирательство в душе. Они дали буржуазии вместо органов, свечей, кадил, разодетых священников, вместо мадонн – прочную опору в вечной заботе о добродетели и о том, чтобы создавать славу божию. Если же ко всему этому присмотримся, то под маской божией увидим классовую идеологию буржуазии, превращенную в религию.
Расин был страстным янсенистом, страстным участником Пор-Рояля. Это был человек глубочайшей серьезности, которую он внес и в свои драмы. Не важно, что в драмах участвуют принцы и принцессы, не важно, что там мы видим высокий, приподнятый, немножко ходульный стиль, который был приемлем при дворе. Суть Расина, вся тонкость психологического анализа его шла из самых сильных сторон тогдашней буржуазии. Робеспьер йотом скажет: мы, люди честности, хотим уничтожить вас, людей чести; нам чести не нужно, потому что у нас есть честность 11 . Вот эта самая честность, которая потом послала дворянскую честь на гильотину, готовилась уже в драмах Расина.
Для иллюстрации того явления, о котором я говорю, укажу вам еще на одного великого писателя этого времени, на Блеза Паскаля. Влез Паскаль был великий математик, который сделал несколько изумительных математических открытий и создал аналитическую геометрию. Блез Паскаль был также сильным публицистом. Его письма против иезуитов, так называемые «Lettres Provinciales» – провинциальные письма, – представляют дивное сооружение логики. Это был до такой степени разрушительный поход на иезуитов, что, в смысле логичности обвинительного акта, это сочинение считается одной из самых блестящих книг в мировой литературе, хотя это и не беллетристическая книга. Паскаль, замечательный научный ум и блестящий стилист, был подлинным пером Пор-Рояля. Это был могучий выразитель янсенизма. Если бы это было движение пустячное, как бы оно могло выдвигать и захватывать таких людей? Оно могло выдвигать и захватывать таких людей потому, что здесь, при ковании буржуазного духа, проявилось стремление отделиться от внешней церкви, от папизма и найти какое-то христианство углубленное, основанное на стремлениях человеческого сердца, примиренное совершенно своеобразно с разумом. О Паскале можно было бы очень многое сказать это – чрезвычайно трагическая и крупная фигура. Но он относится скорее к области истории философии.
Я перехожу теперь к человеку еще более для нас интересному – к Жан-Батисту Мольеру. Мольер взял на себя другую сторону театра, именно комедию. Очень характерно, что отец Мольера был обойщиком короля. В этом есть своеобразный символизм. Все скульпторы, архитекторы, придворные живописцы того времени были, в сущности, тоже обойщиками короля. Но это был не придворный шаркун, у него была лавка хороших сукон, ковров, и он отсюда поставлял их ко двору. Это был человек в высокой степени добронравный, серьезный буржуа-коммерсант. И вот сын его, Жан-Батист, заявляет ему, что хочет быть актером!
А по тогдашнему времени актер – это бродячая собака, отверженец общества, актеров даже церковь не хоронила на кладбище, а закапывала на живодерне. Так была, например, похоронена великая актриса Адриенна Лекуврер, которой при жизни знать целовала руки. Когда она умерла, ее свезли на живодерню, потому что актера считали поганым, грешным.
Поймите, в какой ужас пришел отец Мольера, когда сын заявил ему, что хочет стать актером!
Но, несмотря на это, Мольер продолжал упорно думать об этом поприще. И ему было доставлено «хорошее место», а именно место королевского лакея. Он имел звание комнатного лакея его величества.
Мольер написал самые веселые комедии в мире, над которыми около трехсот лет, прошедших с тех пор, смеется весь мир. Между тем он был человек необычайно серьезный. Он горько жалел, что не умеет играть трагедий. Он любил морализовать и читал целые проповеди своим актерам и актрисам. В личной жизни он был несчастен, потому что жаждал настоящей буржуазной семьи, верной до гроба жены, а жениться ему пришлось на актрисе, которая ставила ему рога. К своему актерству и к своей драматургии он относился страшно серьезно. Это был человек, поставивший себе целью, развлекая, поучать. И поучать для него было важнее, чем развлекать.
Правда, развлекатель он был великолепный. Он в молодости напитался итальянской комедией дель-арте и французским ярко-красочным фарсом. Но вместе с тем, так как он жил при дворе, он не мог быть чересчур грубым. Все это ему пришлось отлить в изящную форму. Замечательной стороной творчества Мольера была живость, насмешка, социальная мудрость, которые были принесены из низов. И все это в чудесных, гармоничных стихах, не хуже Расина. Все превращается в кристальную, приподнятую, совершенно правильную форму при чрезвычайно богатом содержании. Это давало изумительный блеск и законченность всему, что выходило из-под пера Мольера.
Сам он был изумительным актером, и в его пьесах все рассчитано на актера. Они великолепно смотрятся и звучат со сцены. Они вызывают хохот каждой фразой, каждым жестом.
Это – безусловно великий мастер. Но он смотрел на комедию как на декорацию, как на позолоту, в которую он заворачивает свои фабльо. Как в каких-нибудь фабльо Средних веков, в баснях о Мэтр-Ренаре, например, проводилась сатира на господ, так и Мольер посвятил целый ряд пьес тому, чтобы показать, как глупо уважать дворянство и подражать дворянству. Когда его известная уморительно смешная пьеса «Мещанин во дворянстве» («Bourgeois gentilhomme») была представлена при дворе, все хохотали, но потом, когда занавес опустился, придворные переглянулись с вытянутыми лицами, и король вышел, ничего не сказав. В этой пьесе описывается, как богатый мещанин захотел учиться хорошим манерам, как плуты дали ему титул «мамамуши». Изображается, как он гоняется за всякими прелестями и побрякушками дворянского быта. Около него вертятся прогоревшие дворянчики, которые живут за его счет. Весь смысл здесь в том, что этот буржуа, этот уважаемый человек не плюет на дворянина, не гонит его, как следовало бы. Так и кажется, что Мольер скажет дворянину: «Ты проблистал и иди прочь!» И таких пьес у него немало.
У Мольера есть персонажи, которых он ненавидит, и есть персонажи, которых он любит и, любя, высмеивает. Всякий раз, когда он изображает буржуа, если даже он хочет прочесть ему рацею, научить чему-то, он, в сущности, журит его любя. Буржуа у него всегда порядочные люди. Он учит буржуазных женщин тому, чтобы они были настоящими подругами мужчин, говорит, чтобы мужчины не держали женщин в теремах; но когда женщина хочет быть ученой, хочет устраивать салоны и т. д., то Мольер жгуче ее высмеивает, потому что это, по его мнению, не бабье дело. Он говорит, что женщину нужно уважать за то, что она умеет хорошо следить за домом, за кухней. Молодое дворянство, так называемых маркизов, он выводил буквально в качестве шутов. Любимым героем у него был умный слуга; а дворяне такие щелкоперы, вертопрахи, пустельги, что кажутся настоящими паяцами.
Как он относился к духовенству? Он не посмел, конечно, выставить попа на сцене, но тем не менее создал образ Тартюфа, вольного духовного лица, и все поняли, что под этим ханжой, святошей кроется церковь. И он зло изобразил это святошество, стремящееся в конце концов к тому, чтобы выкрасть побольше денег. Под всякими постными гримасами этого святоши и под лицемерными словами скрывается великое сластолюбие и крайняя беспринципность.
Церковь пришла в ужас от этой пьесы. Она не только требовала снятия ее, но и какой угодно казни для Мольера. Но король спас его, так как пьеса его забавляла. И всегда Мольер прячется за королевскую мантию, смешит короля, как его шут, а на самом деле в этих шутках создает самоуважение буржуазии и дает ей уроки морали.
Точно так же он нападал на лженауку, на схоластическую науку. Врачей, аптекарей, философов-схоластов он изображал уморительно. Более смешных фигур нельзя себе представить. Хотя у нас сейчас нет такой пустой науки, но попадаются типы педантов, которые с серьезным видом повторяют ненужные вещи. Он еще жив – Мольер, и, вероятно, будет жить вечно.
Таким образом, Мольер расправляется с реакционной интеллигенцией, с духовенством, с дворянством, издевается и над тогдашней буржуазией за то, что она не уважает себя и не стоит твердо на собственных ногах. И вместе с тем, оглядываясь вокруг, он чувствует, что еще далеко до настоящей зари. Его величайшая пьеса «Мизантроп» написана в виде горького издевательства над молодым буржуа из хорошей семьи, который хочет быть честным и прямым. Он не может льстить, не может никому потворствовать. Он говорит то, что думает, он не может дурацкому виршеплету не сказать, что думает о его поэзии. Он не может покривить душой, чтобы выиграть процесс, потому что он честный, потому что он настоящий человек. И тут звучат мотивы, которые потом воспроизведет Руссо. Именно в силу этого достоинства Альцест теряет все – теряет женщину, имя, состояние и в конце концов говорит: «Пойду искать по свету, где есть уголок, в котором позволено быть честным».
И когда вы прочтете «Мизантропа», вам придет в голову Чацкий, потому что Чацкий – очень талантливый сколок с Альцеста Мольера. «Мизантроп» хотел сказать, что настоящему честному человеку нет места в обществе, что не пришло еще то время, когда может выпрямиться настоящий человек. У него тоже горе, если не от ума, то от честности, от прямоты, горе от того, что он живет прямой человеческой жизнью, в то время как все вокруг неестественно, скомкано двором, ханжеством, дурным вкусом.
Когда Мольер умер (а он умер на сцене, играя свою пьесу «Воображаемый больной», и изображал мнимые страдания, будучи сам болен и мучась от боли) 12 , когда он умер, духовенство отказало ему в праве погребения.