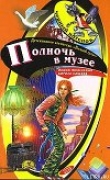Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Крушинский валялся на диване в ожидании вызова к Волобуеву, когда пришла Анфиса. Он вскочил на ноги, стал извиняться.
– Чего уж там, – с мрачной улыбкой сказала Анфиса.
Крушинский не узнавал ее. Анфиса, и без того смуглая, почернела, взгляд живых, светившихся глаз был горестным и незрячим.
– Что с вами? – встревожился Крушинский.
Вместо ответа Анфиса порывисто вынула из сумки револьвер и протянула Крушинскому:
– Возьми.
– Зачем? – отшатнулся от нее Крушинский.
– Подумай – поймешь. Голова у тебя для чего?
– Это чтобы я... из него? Себя? Или кого?
– Волобуева, – тихо, но твердо сказала Анфиса. – Когда за портретом придет.
– Нет, нет, – сбивчиво заговорил Крушинский. – Я не смогу...
– Чего ж ты тут про чудо гутарил? – с горькой укоризной спросила Анфиса. – И кто ж тебя такого полюбит?
– Какого?
– Недотепистого.
– Возможно, вы правы... Но объясните, бога ради, что произошло?
– А ничего, – металлическим голосом ответила Анфиса. – Ничего, окромя того, что этот пес вонючий... – Анфиса не решалась продолжить начатую фразу и в упор, не мигая, смотрела на Крушинского, словно ожидала его помощи...
Крушинский не сразу вытолкнул из сведенной судорогой гортани:
– Я убью его...
И они оба надолго замолчали, ошеломленно, будто не узнавая друг друга и не находя слов, которые были бы способны выразить их состояние.
– Но вы... могли защититься... – нарушал оцепенение Крушинский.
– А ты бы защитился? – зло спросила она. – Когда два казака руки скрутили.
– А пока не скрутили? У вас же был револьвер.
– Был. Только не могла я стрелять.
– Но почему?
– Чего пристал? – как ужаленная, вскрикнула Анфиса. – И без тебя тошно! Нельзя мне было стрелять, понимаешь, нельзя, и все тут!
И она, уткнув голову в ладони, зарыдала – громко и безутешно. Крушинский подошел к ней, осторожно обнял за плечи, прошептал дрожащими губами:
– Давайте револьвер!
Анфиса перестала плакать и, не оборачиваясь к нему, сказала с отчаянной твердостью:
– Не дам. Не надо. Не слухай меня, непутевую бабу. Ты свое дело делай. И портрет в городе на видном месте повесь.
– Какой портрет?
– Тот, что у тебя за диваном лежит.
– Вы... знаете? – испуганно спросил Крушинский.
– А чего ж мне не знать? Ты ж как ребенок малый. Трудно тебе жить на свете.
«Как верно, как все точно она говорит, – растроганно подумал Крушинский. – Да, она красива не только внешне, у нее красотой наполнена сама душа».
– А о том, чего я тебе говорила, – строго сказала Анфиса, – не вздумай кому проболтать. Ничего, я выплачусь, может, и полегчает. А не полегчает, так он завсегда со мной. – И она показала на револьвер.
– Нет, нет, вы должны жить! – боясь за нее, умоляюще воскликнул Крушинский.
– Какая у меня теперь жизня! – горестно промолвила Анфиса. – Самая проклятущая! А ты не раскисай. И портрет, раз намалевал, так доведи до конца. На людном месте повесь.
– Да, да, я все сделаю! – подхватил Крушинский. – Я и сам хотел, да не знал, как это сделать. А вы все так хорошо придумали.
– А как повесишь, так сразу и тикай из города. А то портрет снимут, а тебя заместо него повесют.
– Конечно, конечно! Но как мне теперь без вас? Вам тоже надо бежать... – Он порывался добавить «со мной», но не отважился.
– Еще чего? Куды я побегу? Мне негоже отселева бечь.
– Но почему?
– Мое это дело, не твое. Ты вот лучше скажи, где портрет вешать будешь.
– Как где? На площади, в центре.
– И долго ты думал? – рассердилась Анфиса. – Народ по площади-то и не ходит, разве господа какие да военные. А остальные шмыгнут, как та мышь в нору, и давай бог ноги, лишь бы на глаза этим антихристам не попадаться. И часовых там полно. Думаешь, они тебе портрет вешать помогут?
– Действительно, в ваших словах есть логика.
– Не знаю, чего в них есть, а только меня послухай. Завтра воскресенье. Где народу будет тьма? На базаре да в церкви. Из ближних станиц понаедут. Вот на базаре и вешай. Там старая каланча есть. Заброшенная. Высокая. В самый раз для портрета. Ты вот лучше скажи, залезешь на ту каланчу?
– Попробую, – неуверенно отозвался Крушинский и смущенно потупился.
– Туточки пробовать некогда, – решительно заявила Анфиса. – Тут или грудь в крестах, или голова в кустах.
Она снова критически осмотрела Крушинского с ног до головы, сокрушенно спросила:
– Ты хоть, когда малый был, на крыши залезал?
– Нет, как-то не приходилось. Рисовал я, некогда было.
– Ну и мужик! – удивилась Анфиса. – Да не обижайся, шуткую я. Раз не лазил, то и не суйся, свалишься прямо на Волобуева. – Она задумалась. – Я к тебе пацана одного пришлю. Дюже ловкий. Он по деревьям лазит, как обезьяна. С ним и пойдешь. – Она с откровенной жалостью посмотрела на Крушинского. – Давай присядем на дорожку. Когда теперича свидимся? Может, и никогда.
Анфиса села на краешек табуретки, Крушинский – на диван, все еще не веря, что сейчас она уйдет.
– Вот и все, – сказала она, вставая. – И вот тебе мой совет. Пробирайся в Майкоп. Адрес такой: Госпитальная улица, дом тридцать седьмой. – Она вздохнула глубоко и тяжко. – Там мы с Тимошей жили. А когда – уже и не припомню. – Она снова помолчала. – А за те слова, что ты мне говорил в тот день, спасибочки. Ни от кого я еще таких слов не слыхала. Нет, брешу, Тимоша тоже говорил, да как-то не так, как ты. У тебя красивше выходит.
– Нет, не надо, не благодарите меня, – попросил Крушинский. – Вы такая... такая...
– Перестань! – нахмурилась Анфиса. – Так я сразу и поверила. Все одно это ни к чему. Прощай!
И она, как-то стыдливо чмокнув его в щеку, почти бегом выскочила за дверь. Крушинский было рванулся за ней, но что-то остановило его, и он лишь успел заметить, как в окне синим облачком промелькнул ее платок.
Крушинский в отчаянии закрыл глаза. Все закружилось, завьюжилось в его голове: смерч, поднимающий в воздух дома, Волобуев, рассыпающий в этом вихре дробный, издевательский смех, зияющие черной пустотой глаза Врангеля, горячие подвижные губы Анфисы, тянущиеся к его холодной щеке, – и он вдруг бессильно рухнул на заскрежетавший всеми своими старыми пружинами диван...
Он не помнил, сколько времени пролежал, почти потеряв сознание, и никак не мог поверить, когда очнулся, что все еще жив. Кто-то дергал его за плечо, думая, что он спит, и твердил одни и те же слова:
– Дяденька, вставай! Дяденька, вставай!
Крушинский рывком сел на диване. За окном смеркалось. Перед ним стоял мальчуган с худым остроносым лицом и рыжим вихром на голове, свесившимся на лоб.
– Ты кто? – отрешенно спросил Крушинский, все еще не в силах понять, сон это или явь.
– Петька я, – назвался мальчик. – Меня тетя Анфиса послала.
Только сейчас Крушинский вспомнил о том, что Анфиса обещала прислать ему помощника.
– Да, да, – засуетился он, вскакивая. – Сейчас я достану портрет, и пойдем.
– Еще рано нам, – по-взрослому серьезно сказал Петька. – Сейчас луна светит.
– Ты прав, – приходя наконец в себя, согласился Крушинский.
– Перед рассветом надо, – деловито уточнил Петька. – Часовые в энто время дюже крепко спят. И патрули притомятся.
– Хорошо, так и сделаем. А пока поешь. Тут у меня хлеб есть и сало. И еще яблоки. Будешь?
– А то нет? Я с утра не жрамши.
Крушинский повел Петьку на кухню, зажег свечу, задернул штору. Петька с наслаждением принялся за еду, не обращая внимания на Крушинского. Тому есть не хотелось, нервное напряжение цепко держало его в своем плену.
Еще в те дни, когда он решил одновременно с портретом нарисовать и карикатуру на Врангеля, он не мог себе и представить, как с этой карикатурой поступить. Долго хранить у себя он ее не сумел бы, так как Волобуев часто присылал к нему под разными предлогами своих людей и те запросто могли пронюхать, где лежит портрет. А вывесить его скрытно, да еще в многолюдном месте, было бы предприятием совершенно не реальным. Даже в случае удачи портрет этот не провисел бы и нескольких минут – его живо убрали бы с глаз долой, и тогда вся затея Крушинского лишалась бы всяческого смысла. А вот на базаре, как задумала Анфиса, портрет может провисеть долго, пока не спохватятся. Да и не так просто будет снять его с каланчи.
Крушинскому хотелось, чтобы все задуманное свершилось как можно скорее. Иначе обстановка могла резко измениться. Вдруг Волобуеву придет блажь приехать и посмотреть, как идет работа над портретом, тем более что уже заканчивался срок, отпущенный им Крушинскому для ее завершения. И тогда все рухнет.
Петька поел, смахнул со стола крошки и тоже бережно отправил их в рот. Степенно запил все это кружкой горячей воды, поблагодарил и лег на диван, свернулся калачиком и вскоре задышал с тихим присвистом.
Крушинский потерянно сидел в кресле. Сон его не брал. Пока он работал над портретом, пока к нему приходила Анфиса, даже пока его терзал своими бесконечными словесными излияниями Волобуев, – в нем было то чувство своей необходимости, которое связывало его с жизнью и имело какую-то определенную цель. Пусть это не представляло собой подлинного творчества, пусть не давало истинного морального удовлетворения, но он был занят своим привычным делом, а значит, и существовал. Сейчас же, когда и портрет, и его двойник – карикатура были окончены, когда из его и без того неприкаянной жизни ушла Анфиса, состояние горькой опустошенности обрушилось на него, и он снова ощутил свою ненужность, бесцельность жизни, которая приносила ему одни лишь страдания.
И вдруг, вспомнив о том, что ему предстоит сделать этой ночью вместе с Петькой, Крушинский ожил, распрямился и воспрянул духом. «А ведь это тоже цель! – внушал он себе. – Пусть я не воюю вместе с красными, пусть не стреляю, я нанесу им удар, этим врангелевцам, своим оружием – кистью! От этого не будет зависеть исход войны, останутся живы и Врангель, и Волобуев, и иже с ними, но мой портрет-карикатуру увидят люди, и она раскроет им глаза...»
С такой отрадной думой он и задремал. Что-то черное закружилось у него перед глазами. Он всмотрелся – то была громадная черная птица. Она ожесточенно била сильными, крепкими, раскинутыми в полный мах крыльями и не могла взлететь. Птица, схожая с коршуном, неслась на него, крылья бились на тугом ветру, и вот уже на своем лице он почувствовал и осязаемо ощутил жесткое прикосновение перьев. Он открыл глаза и сперва не мог отделаться от мысли, что перед ним не коршун, а самый обыкновенный Петька.
– Дяденька, нам пора, – озабоченно сказал он. – Я вас еле разбудил.
Крушинский вскочил на ноги, вытащил из-за дивана портрет, обернул его куском холста. Петька набросил на плечо смотанную в кольцо веревку, заранее припасенную им.
– Я пойду первый, а вы за мной, – тихо сказал Петька. – Только не шумите.
Петька привычно шел переулками, не заходя во дворы, боясь растревожить собак. Крушинский едва поспевал за ним. До рынка они добрались быстро, счастливо миновав патрулей, которые более дотошно контролировали центральную часть города.
Даже в темноте Крушинского поразила высота каланчи. Она смотрела незрячими провалами крохотных окон и вздымала свою верхушку высоко над окружавшими ее деревьями.
– Как же ты туда залезешь? – шепотом спросил Крушинский.
– А я уже три раза на нее залезал. На спор, – так же тихо отозвался Петька.
Они укрылись у темной, невидимой с улицы стены каланчи, где густо разбросала ветви пахучая бузина. Крушинский привязал веревку к гвоздю, предусмотрительно вбитому им в деревянный подрамник, другой конец отдал Петьке, держа в руках портрет. Тот обвязался веревкой вокруг туловища и, не мешкая, начал проворно карабкаться по стволу. Толстая суковатая ветвь дерева как бы обхватила почти самый верх каланчи, словно помогала ей стоять ровно, не наклоняясь к земле.
Петька быстро, по-обезьяньи перелезал с ветки на ветку, задерживаясь время от времени лишь для того, чтобы подтянуть к себе портрет, то и дело цеплявшийся за густую крону.
Наконец пришел самый ответственный момент: Петьке предстояло перебраться со ствола на верх каланчи. Крунинский замер внизу. Он был уверен, что Петька не сможет дотянуться до металлического, состоящего из железных прутьев обвода на крыше каланчи. Тут требовалась сноровка циркового акробата.
Петька изо всех сил потянулся к поручню, и Крушинский невольно зажмурил глаза. И лишь когда наверху что-то легонько звякнуло о жестяную крышу, он открыл их и, к своему ужасу, не увидел Петьки. Впрочем, разглядеть его в темноте было не так-то просто. Крушинский чуть не бегом обогнул каланчу – Петьку не было видно и отсюда. Крушинский испугался. Куда он мог деться? Хотелось окликнуть его, но это было крайне опасно.
Сколько прошло томительных, полных неизвестности минут – Крушинский так и не осознал. Он стоял, панически вглядываясь в верхушку каланчи, как вдруг сбоку от него, из кустов бузины, послышался запыхавшийся голос Петьки:
– Дяденька, полный порядок. Идите сюда.
Крушинский едва не рассмеялся от радости: Петька уже на земле! Он подошел к тому месту, куда его звал мальчик, и поднял голову в ту сторону, куда тот указывал ему. Там, наверху, хоть и с перекосом, болтался, слегка раскачиваемый ветром, портрет!
– Какой же ты молодец! – прошептал Крушинский. – Без тебя я бы не смог. А теперь его трудно будет достать.
– А пусть попробуют! – задорно ответил Петька. – Окромя меня, ни один пацан туда не залезал. А Витька Черкасов попробовал, так ногу сломал. Упал!
– Спасибо тебе, малыш!
– Какой я малыш? – обиделся Петька. – А вам, дяденька, уходить надо. Скоро светать будет. Тетя Анфиса наказала, чтобы я вам дорогу на Майкоп показал.
– Хорошо, пойдем, – согласился Крушинский, с печалью сознавая, что еще немного – и этот город, и Анфиса, а теперь вот и Петька навсегда исчезнут из его жизни.
Но зато, внушал он себе, в городе остался портрет. Те, то увидит его, сразу же узнают Врангеля. В том, что портрет в точности соответствует оригиналу, у Крушинского не было ни малейшего сомнения. Но людям предстанет не живое лицо Врангеля, а голый череп, с зияющей чернотой пустых глазниц, с выступающими вперед и лишенными кожного покрова скулами, с раздувающимися в гневе и ненависти ноздрями. От испуга они закроют глаза, а открыв их, с изумлением вновь увидят Врангеля, с его кривой, будто от сабельного удара, усмешкой. Лицо его будет наводить ужас мертвым оскалом лошадиных зубов и двумя скрещенными человеческими костями на груди, там, где на черной черкеске только что, чудилось, висел Георгиевский крест...
Что произойдет с той огромной толпой, которая сгрудится возле каланчи, позабыв о возах с кавунами, о глечиках с кислым молоком, о мешках с картошкой, о клетках с мечущимися по ним курами? Пронесется ли над головами вопль восторга, исторгнутый сотнями глоток, раздастся ли гомерический хохот, разбегутся ли кто куда, от греха подальше, люди, узревшие этот страшный портрет, начнут ли истово креститься старухи, подслеповато косясь на пришедшего из ада дьявола, пошлют ли вослед художнику хвалу или проклятья, – этого Крушинский, выбравшийся на шоссейную дорогу, ведущую к Майкопу, не знал, да и не мог знать. Но он чувствовал себя окрыленным: первый раз в своей жизни он совершил нечто такое, за что, и в этом он был убежден, ему никогда не придется краснеть перед людьми.
«Мой первый вернисаж, – усмехнулся он, спеша удалиться от города. – Подарок полковнику Волобуеву. Вот так-то, мумия ты моя египетская!»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Шорников и Илья долго, до хрипоты, спорили, кому из них привести в исполнение заочный приговор ревтрибунала о смертной казни Волобуева. В приговоре была такая строка: «как матерого врага трудового народа, заклятого вешателя и озверелого садиста – расстрелять».
Шорников с пеной у рта доказывал, что это обязан сделать только он, и никто другой. Бросая, как козырные карты, один аргумент за другим, Шорников наконец выдохся и решился на последнее:
– Кто посылал Анфису Дятлову? Забыл? Вот я за нее и должон отомстить.
Илья оторопел. Этот довод был поразительно веским, и он винил себя за то, что вынудил Шорникова пойти на крайности и говорить столь откровенно.
– Понимаю, – тихо сказал он. – И очень даже разделяю ваши чувства, Василий Макарович. И все же вам идти нельзя.
– Ты опять за свое? – загремел Шорников, наливаясь гневом.
– А вы призовите на помощь все свое спокойствие, проявите железную выдержку и послушайте. Я вам сейчас все объясню, Василий Макарович. В полном соответствии с законами логики.
– Ушлый ты больно, – сердито сказал Шорников. – А чего мы тут рогами уперлись – не пойму. Кто здесь старший – ты или я? И базар разводить я не позволю.
– Старший, разумеется, вы, – все так же спокойно продолжал Илья. – Разве я оспариваю? Но, выходит, Василий Макарович, для вас главное не успех дела, а престиж. Ну сами посудите, допустят вас к самому Врангелю? Или пусть даже только к Волобуеву? С вашим-то рабоче-крестьянским фасадом. Сразу заподозрят неладное. И каков будет результат? А никакого, точнее, результат будет можно сказать, самый плачевный: Красная Армия потеряет одного из лучших своих сынов.
– Ты это брось! – резко прервал его Шорников. – Я этого не люблю!
– Ну хорошо, – терпеливо продолжал Илья. – Теперь посмотрите внимательно на меня. – Он заносчиво покрутил головой с заколыхавшейся гривой черных волос. – Перед вами – аристократ, которому откроют любые двери. А что, нет? Породистая голова. Глаза, можно сказать, навыкате. А вы разве не видите, какой у меня нос? Мне могли бы позавидовать гладиаторы. Плюс ко всему, я вас очень прошу, не пренебрегайте моими актерскими способностями. Да я любую роль как по нотам разыграю. Я даже Отелло играл! Правда, в любительском спектакле.
Хотя Шорников ничего прежде не слышал ни о гладиаторах, ни об Отелло, это произвело на него должное впечатление. Сам он перевоплощаться не умел, а Илья обладал этим преимуществом, которое для данного случая могло оказаться решающим.
– Будь по-твоему, – нехотя согласился Шорников. – Но учти, ты обязан угробить этого паразита. И не просто угробить, а возвернуться вполне целым и невредимым.
– Есть, угробить и возвернуться! – радостно воскликнул Илья, будто ему предстояла приятная и увлекательная прогулка. – А уж за Волобуева не волнуйтесь, поберегите свои нервы.
Они долго обмозговывали, как лучше подступиться к Волобуеву, и наконец остановились на одном, предложенном Шорниковым варианте, который привел Илью в восторг...
Прощаясь с Ильей, Шорников не выдержал, сгреб его в охапку, отвел в сторону будто ослепшие глаза.
– Ну, давай, Илюха. И до скорого возвращения...
– Постараюсь, – с грустью ответил Илья: только в эту минуту он осознал, как не хочется ему расставаться с Шорниковым и то, что идет туда, откуда уже может не вернуться...
Комдив одобрил план Шорникова.
– Я категорически против тактики индивидуального террора, – играя темляком шашки, решительно заявил он, внимательно глядя на Шорникова и стараясь определить, произвел ли то впечатление, которое должен был произвести этой фразой, подтверждавшей его теоретическую подкованность. – Но в данном разе – согласен. Этот гад Волобуев нам уже всю плешь переел. Сколько эта гидра распроклятая наших людей загубила! И Анфиса после его реакционного, прямо скажем, мерзкого и пакостного дела возьмет да и руки на себя наложит. Нет, пора с ним кончать!
...Между тем Афанасий Никодимович Волобуев продолжал преуспевать. Он обустроил свои отношения с Врангелем настолько искусно, что тот постепенно проникся к нему безмерным доверием, которое пошатнулось лишь после случая с Крушинским. Но ведь и тут им руководили самые лучшие побуждения!
Начальнику контрразведки удалось внушить Врангелю неотступную мысль о том, что только Волобуев, как верный его слуга и неподкупный страж, сможет уберечь будущего правителя всея Руси от происков террористов, которых вокруг якобы не счесть и которые спят и во сне видят, как бы отправить барона туда, откуда еще никто не возвращался.
Именно он, Афанасий Никодимович, а не кто-либо иной, разработал для Врангеля режим, определив ему наиболее рациональное начало работы с семи часов утра, когда человеческий мозг являет собой первозданную ясность и наиблагоприятнейшую прозорливость. До восьми часов утра он должен был пребывать наедине с собой, стремясь породить особо ценные мысли, долженствующие лечь в основу приказов, распоряжений и указаний, приспособленных специально для того, чтобы проявить себя с должной эрудицией в беседах и рассуждениях с лицами, прибывающими на прием.
Этот час был для Врангеля самым мучительным и не приносил ни радости, ни успокоения. Он был из тех людей, которые не только не любят, но и совершенно не умеют оставаться наедине с собой. Их постоянно мучит то обстоятельство, что в минуты одиночества они остаются незримыми для окружающих, которые теряют всякую возможность восторгаться своим кумиром и тем самым окрылять и вдохновлять его на новые свершения. Все, кто окружал Врангеля, были для него что ветер для крыльев птицы: тугие потоки хвалы играли роль той плотной воздушной массы, о которую опирались крылья, чтобы сделать новый рывок в высоту.
Ровно в восемь в кабинет Врангеля кошачьей походкой входил начальник штаба генерал Шатилов. Ему, своему любимчику, Врангель уделял не меньше сорока минут. Затем друг за дружкой тянулись иные, менее нужные лица – до часу дня, засим следовали обед и прогулка по городу с адъютантом, чья должность находилась под прицельным, недреманным оком полковника Волобуева.
Точное соблюдение режима беспокоило Волобуева лишь в одной плоскости – безопасности Врангеля и создания у него устойчивого представления, что ему отовсюду – из любого переулка, старинного особняка или же из пролетки, проносящейся мимо, а то и от обычного прохожего, с тупым любопытством уставившего взор в объявление на тумбе, – грозит опасность.
Не случайно Врангель более всего на свете не любил приема посетителей, хотя Волобуев клялся и божился, что обеспечивает строжайшую проверку и обыск их перед тем, как они появятся перед очами барона.
И все же бывало и так, что и Волобуев давал маху. Это случалось в дни, когда Афанасий Никодимович позволял себе расслабиться после бессонной ночи, проведенной в каком-нибудь злачном месте.
Одним из таких дней «отключения» и воспользовался Илья, о чем ему сообщили надежные люди, укрывавшиеся в подполье. Ему удалось незаметно проникнуть в город, обосноваться на явочной квартире и выбрать удачный момент для того, чтобы записаться на прием к Врангелю. Расчет был прост: прийти к барону под видом человека, желающего предложить весьма ценную идею для ускоренного разгрома красных. При этом Илья предполагал, что Врангель или поручит переговорить с ним Волобуеву, или же Волобуев окажется в его кабинете, и тогда разговор с ним будет короток.
Илья не очень надеялся, что его примут. Но Врангеля настолько заинтриговала таинственность, с которой было обставлено это предложение, а главное, то, что его и самого постоянно терзала мысль о возможности создания такого чудодейственного оружия, которое оказалось бы мощнее даже английских танков, что он решил выслушать пришедшего. Волобуева под рукой не оказалось, и Врангель велел адъютанту допустить к нему Илью.
Ровно в четыре часа дня тот подошел к дому, где размещался Врангель. Часовой проверил его паспорт и велел обратиться к адъютанту. Илья, войдя в коридор, стремительно опустил револьвер в урну, стоявшую у стены, и прошел в приемную. Нагловатый, самоуверенный адъютант презрительно осмотрел молодого человека, одетого, однако, в дорогой штатский костюм, при галстуке, и вызвал казака, который сноровисто обшарил грубыми ладонями одежду и, ничего не обнаружив, тут же исчез.
Адъютант провел Илью в кабинет к Врангелю. Барон сидел в кресле так, будто проглотил аршин, и прицелился взглядом охотника в посетителя. На него произвел благоприятное впечатление тот факт, что вошедший был молод, благороден лицом и манерами (возможно, из порядочной семьи) и вовсе не представлял внешне оборванца, коих в городе было в избытке. То, что посетитель выглядел усталым, даже изможденным, не вызвало у Врангеля удивления: какой энтузиаст идеи, да еще в такое жестокое время, занятый своими мучительными исканиями и не имеющий вдоволь хлеба насущного, не выкажет усталости и озабоченности?
– Прошу садиться, – располагающим к беседе жестом пригласил Врангель, так как Илья продолжал жаться у дверей.
– Благодарю, – изображая жалкое замешательство, проговорил Илья, не сразу решаясь опуститься в предложенное ему кресло. «Был бы при себе револьвер, вот кого бы надо ухлопать», – мелькнуло в голове у Ильи.
– Прошу, прошу, – уже настойчивее и нетерпеливее повторил Врангель и, подождав, когда посетитель воспользуется его предложением, поспешно, с явным любопытством, спросил: – Так в чем же, желал бы я знать, заключается ваше предложение?
Илья боязливо взглянул на Врангеля. Глаза его заблестели, как у помешанного, он оживился, задвигался бестолково, как на шарнирах, всем телом и, спотыкаясь почти на каждом слове, судорожно заговорил:
– Ваше превосходительство... Я долго не мог решиться... Я не осмеливался беспокоить вас... Да, да, не смел... Но красные агенты проникли во все поры... Не будьте столь благодушны...
– Однако ближе к делу, – поморщился Врангель.
– Я бы не позволил себе... – не обращая внимания на требование Врангеля, продолжал бестолково ронять слова Илья. – Но убежден, что мое изобретение будет вам в высшей степени необходимо... Без него вам грозит гибель! – трагически произнес Илья, очумело оглядываясь на дверь. – Вы можете заверить меня, что нас никто не подслушивает?
Удивление Врангеля росло. «Да в своем ли он уме?» – подумал он, готовясь вызвать адъютанта, чтобы выпроводить странного посетителя. Илья сразу подметил перемену в его настроении.
– Я знаю, вам так мучительно трудно, – заговорил он уже нормальным языком. – Кругом измена, предательство, крамола. Один трюк художника Крушинского чего стоит.
– Изложите суть вашего изобретения, – нахмурился Врангель. – Не будем отвлекаться. У меня крайне ограничено время.
– Вас окружают чудовища, бездари, интриганы! – наслаждался своими словами Илья. – Они мечтают низвергнуть вас!
– Что вы такое говорите? – насторожился Врангель. – У вас есть доказательства?
– Сколько угодно! Умоляю вас выслушать меня. Я изобрел прибор. Это похоже на компас. Вы незаметно закрепляете его в вашем столе. Входит посетитель. Вы беседуете с ним и в этот момент незаметно нажимаете кнопку прибора. И стрелка незамедлительно укажет вам, кто перед вами – германофил или приверженец Антанты, большевик, кадет или монархист. Или – террорист, трус, интриган, предатель. Кроме того, прибор читает мысли! Шкала делений всеобъемлюща – все пороки человека, включая даже склонность к разврату. Гарантирую абсолютнейшую точность! Вы представляете, как легко вы сможете расправляться с вратами? У меня готов чертеж.
Илья с величайшей осторожностью развязал тесемки папки. Можно было подумать, что в папке упрятана бомба. Но, кроме листка ватмана небольшого формата в ней ничего не было. Илья протянул листок Врангелю. Руки его слегка тряслись, и оттого листок тоже трепыхался. Илья крутил головой, как бы желая убедиться, что кабинет пуст.
Врангель оторопело разглядывал странный чертеж, ровным счетом ничего в нем не понимая. Что-то действительно напоминало в этом рисунке компас, в глазах рябило от множества цифр и формул.
– Однако это способен оценить лишь специалист, – теряя интерес к чертежу, холодно проговорил Врангель. Он не спускал глаз с Ильи. Тот сидел бледный, трясущийся и был похож на куклу, которую дергают за нитки. Время от времени он жалко улыбался и тут же мрачнел, принимая крайне озабоченный, тревожный вид.
«Типичный умалишенный, – брезгливо подумал Врангель. – Развелось их, как бешеных собак. Чем-то смахивает на этого негодяя Крушинского. Последствия войны. – Он откинулся в кресле. – А если бы действительно иметь такой приборчик! Повертелся бы у меня Антон Иванович и все его прихвостни, как караси на горячей сковородке!»
Врангель нажал кнопку звонка. Влетел, как ошпаренный, адъютант.
– Полковника Волобуева разыскали?
– Никак нет, ваше превосходительство! Но принимаем самые энергичные меры!
– Разыскать немедля! – гаркнул Врангель. – А вы подождите в приемной, – сказал он Илье. – Займитесь господином изобретателем, – приказал он адъютанту.
Илья вышел в приемную.
– Он не в своем уме, – гневно сказал Врангель адъютанту, когда за Ильей захлопнулась тяжелая дверь. – Пусть Волобуев приведет его в чувство! И впредь ко мне всякое дерьмо не пропускать!
Адъютант выскочил в приемную и схватился за телефоны, приказывая найти Волобуева хотя бы на дне морском. Илья, согнувшись и мрачно глядя в пол, сидел на стуле.
Затрещал телефон. Адъютант схватил трубку, как неразорвавшуюся бомбу.
– Слава богу, что нашли! Пусть идет незамедлительно. Командующий гневается!
В это время Волобуев заехал к себе на работу, взял с собой заветную голубую папку и, выйдя на улицу, плюхнулся в пролетку.
– Гони! – приказал извозчику.
Волобуев направлялся к Врангелю с явной неохотой, почти стопроцентно рассчитывая получить в лучшем случае очередную головомойку, а в худшем – оказаться отстраненным от своей притягательной должности. Врангель никак не мог простить ему всю эту крайне неприятную историю с Крушинским. Толпы народа на базаре, а потом и присоединившиеся к ним жители примыкавших к нему улиц едва ли не всю первую половину дня, не далее как неделю назад, имели удовольствие безнаказанно лицезреть карикатуру на Врангеля, болтавшуюся на самом верху каланчи, и эти «смотрины» едва не вылились в серьезные беспорядки, пока конные казаки нагайками не разогнали чернь с рыночной площади. Все тут было: и дьявольский хохот, и большевистские выкрики, и возмущение состоятельных горожан, которые тут же все свалили на бездеятельность и преступное ротозейство контрразведки и заклинали командование покарать виновных, оказавших услугу агентам красных. Нашлись и такие, кто азартно швырял в портрет каменья, гнилые яблоки и помидоры.
И хотя первый, самый страшный гнев, обрушившийся на Волобуева от самого Врангеля, несколько поутих, Волобуев знал, что первым его вопросом будет, изловлен ли злодей художник, которого невесть где раскопал, на свою беду, начальник контрразведки, и при получении ответа отрицательного могут быть большие неприятности.
И потому Волобуев предусмотрительно прихватил с собою папку, в которой значились большевики из подполья, уже вздернутые на виселицу, а также аккуратную тетрадочку, где Волобуев каллиграфическим почерком начал первую главу жизнеописания Врангеля. Неужто не сменит гнев на милость дражайший Петр Николаевич? Стоит подсунуть сии листочки ему на рассмотрение, как можно будет повернуть весь разговор в благоприятственном направлении.