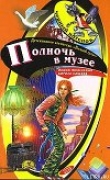Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Постепенно броски рыбы стали утихать, видимо, она уже основательно притомилась. Но Вадька не доверял этому смирению. Передохнув, форель могла снова затеять с ним дерзкую игру, борясь за свое спасение. Вадька осторожно потянул леску на себя и почувствовал волнующую тяжесть живой рыбы. Эту тяжесть, естественно, увеличивало сопротивление горного потока, и все же было ясно, что попался крупный экземпляр. Вадька потянул смелее, стремясь вывести рыбу между обнаженных камней и черных коряг в тихую прибрежную заводь. Это ему удалось.
И вот уже из воды показалось живое серебряное веретено. Уже видны, будто нанесенные тончайшей кистью, яркие, обжигающие глаза точки – алые, как капельки крови, черные, будто смола, и белые – под цвет снежных вершин. Форель! Вадька подтащил ее к самому берегу и легким рывком, едва вывесив на леске, шлепнул на горячую гальку. Форель, словно пробудившись и собрав последние силы, встрепенулась радугой и заплясала в яростном вихре, выражая протест против насилия и горькое отчаяние. Леска вдруг ослабла, грузило и крючок зависли над веткой орешника, и Вадька понял, что рыбе удалось освободиться от крючка. Не раздумывая, он прыжком тигра взметнулся над бьющейся о гальку рыбой и, растопырив руки, плюхнулся на нее. Теперь он, глубоко, часто и возбужденно дыша, крепко держал холодную трепещущую рыбу в руках. С трудом поднялся на ноги и, качаясь, пошел подальше от воды, будто еще не веря в то, что форель не сможет вырваться и вернуться в свою родную Урвань.
Так, пошатываясь от усталости, волнения и счастья, Вадька подошел к лежавшим на песочке друзьям.
– Эврика! – первым заметил его Кешка. – Посмотрите на этого верного ученика Сабанеева! Оказывается, он и взаправду рыбак!
Он вскочил, выхватил форель из ослабевших Вадькиных рук и принялся выбивать чечетку. Резинка на его синих мокрых трусах, видимо, ослабла, потому что они спускались все ниже и ниже и вот-вот могли оказаться у самых колен. Кешка вовремя подтянул их, водворив на прежнее место.
– Да ты весь изранен, – спохватился вдруг Мишка. – Вадь, ты разбил коленку.
Вадька оглядел себя. Только сейчас он заметил, что кожа на коленке содрана, по ноге, облепленной песком и илом, струится кровь, на локтях кровоточат ссадины.
– Ничего, – бодро сказал Вадька, – до свадьбы заживет.
– Восемьсот граммов, – уверенно определил Тим Тимыч, взвешивая рыбу на ладонях, как на весах. – Примерно двухсуточная норма рядового бойца.
– В отличие от завтрака турецкого офицера: стакан чачи и две маслины, – ввернул Кешка.
– И все-то ты знаешь, – улыбнулся Вадька.
– А вы не улыбайтесь, юный Сабанеев, – важно остановил его Кешка. – Продолжайте отлавливать ценные породы пресноводных рыб. Неужто вы думаете насытить этой малявкой четырех богатырей?
– Ничего не выйдет, – сокрушенно сказал Вадька. – Эта форель распугала всю рыбу. В течение часа в омуте делать нечего. А там уже и полдень – из-под камней и коряг ее не выудишь. Предлагал же ехать с вечера.
– О величайший из рыболовов! – распаляясь до восторга, сказал Кешка. – В таком случае объявляется аврал по случаю приготовления ухи!
Они взялись за дело. Вадька принялся чистить и потрошить рыбу, Кешка проявил себя как утонченный мастер сервировки скатерти-самобранки. Неправдоподобно тонкими ломтиками он нарезал колбасу, аккуратно, не оставляя рваных зазубрин, вскрыл консервные банки, восхитительным натюрмортом разложил на расстеленном плаще овощи и фрукты. Мишка скромно и не очень уверенно чистил картошку. Что касается Тим Тимыча, то он с похвальным рвением взялся за раскладку костра. Делал он это с дотошной основательностью. Саперной лопаткой бережно удалил дерн, стараясь снять абсолютно ровный и одинаковый по толщине прямоугольник, вырыл удобное углубление для укладки сушняка, приспособил по бокам две рогульки и поместил на них перекладину. Затем отправился за сушняком и притащил несколько охапок, будто собирался жить на берегу Урвани целую неделю. Поджег костер одной спичкой. Он вспыхнул и разъярился быстро, но пламя не могло соперничать с ярким солнцем, и его жадные желтые языки угадывались лишь у самого основания сложенных пирамидкой сучьев, а выше растворялись в солнечном мареве, оставляя после себя легкий и зыбкий, неуловимо струящийся след.
Варкой ухи распоряжался Вадька. Он принадлежал к числу тех редких мужчин, которые не только ловили рыбу, но и любили чистить и потрошить ее и варить уху, никому не передоверяя этого ответственного дела.
Обедали, расположившись под тенью развесистой чинары. Ароматно дымилась уха. Вадька долго отказывался от наливки, которую в граненый стаканчик цедил Кешка, и выпил лишь тогда, когда над ним начали потешаться. Наливка горела на солнце как рубин, была густой и сладкой.
Ели уху из общего котелка деревянными ложками, прихваченными из дому предусмотрительным Тим Тимычем. Уха была не ахти какая наваристая и тем более не тройная, но, свежая, приправленная укропом и петрушкой, она вызвала восхищение. Друзья взахлеб хвалили варево и превозносили гениальность Вадьки.
Насытившись, Кешка принялся философствовать.
– Мои юные сверстники, – удобно развалившись у кряжистого ствола чинары и закурив папиросу «Казбек», заговорил он, – вы никогда не задумывались над своим будущим? Толстой утверждал, что человек меняется каждые семь лет. И это, видимо, соответствует истине: в семь лет человек идет в школу, в четырнадцать начинается период зрелости, в двадцать один он, как правило, обзаводится семьей, в двадцать восемь – уже окружен детьми, в тридцать пять в расцвете сил, к сорока двум достигает наиболее значительного положения в обществе, в сорок девять становится мудрецом, в пятьдесят шесть жизнь начинает катиться под уклон, в шестьдесят три дело идет к старости, в семьдесят уже маячит закат...
– Откуда тебе все это известно? – удивился Мишка. – Можно подумать, что ты уже прожил жизнь.
– Есть опыт, накопленный человечеством, – задумчиво, без кривлянья проговорил Кешка. – И учтите, милорды, каждые семь лет происходят события, которые потрясают мир.
– Значит, когда нам стукнет по двадцать один, произойдет что-то потрясающее? – недоверчиво спросил Мишка.
– Но что может произойти? – беспечно смеясь, фыркнул Вадька.
Кешка показал ему палец:
– Смешно?
Вадька рассмеялся еще громче.
– Ну что... что... – Смех не давал ему говорить. – Что... может... Ха-ха-ха!.. Ну что может... в самом деле... произойти?
– Война, – с четкой угрюмостью выпалил Тим Тимыч и почему-то вздернул свой древнеримский нос к небу. Оно было безмятежным.
– Война? – все никак не совладая со смехом, переспросил Вадька. – Ну, ты даешь, милорд!
– Терпеть не могу обезьян и попугаев, – обозлился Тим Тимыч, намекая на то, что Вадька явно подражает Кешкиной манере разговора.
– Между прочим, Тимофей Тимченко близок к истине, – авторитетно заявил Кешка. – А Вадим Ратников находится под прямым и не всегда благоприятным воздействием благодушия. И потому будем, мушкетеры, снисходительны к этому еще неоперившемуся птенцу. Что касается меня, то я убежден, что война грянет значительно раньше и к тому времени, когда нам должно было бы исполниться по двадцати одному, кое над кем из нас уже будет возвышаться могильный холмик...
– Типун тебе на язык! – испуганно нахмурился Мишка.
– Зато как будет прекрасно, – распалял свое воображение Кешка, – как будет волнующе, когда, например, моим родителям придет открытка: «Ваш сын Иннокентий Колотилов погиб смертью храбрых в боях за нашу Родиву». Представляете, товарищи бойцы?
– Не в этом дело, – все так же хмуро изрек Тим Тимыч, – главное – не погибнуть, а победить.
– А сие от вас, легендарный герой, не зависит, – хмыкнул Кешка, не терпевший патетики, когда она исходила от других. – Тут уж все решает ее величество судьба и ее высочество удача.
– Человек решает, – упрямо отрезал Тим Тимыч.
– Неужто Гитлер осмелится? – серьезно спросил Вадька.
– Еще как осмелится! – не задумываясь, сказал Кешка. – Он всю Европу под себя подмял. А вот об нас зубы обломает, смею вас заверить, милые юноши.
– А не лучше ли нам охладить свои разгоряченные головы? – предложил Мишка, пытаясь сбить друзей с проторенной темы разговора. Все, что говорилось о войне, вызывало у него учащенное сердцебиение и озноб, схожий с приступом малярии. Он понимал: если будет война, придется разлучиться с Раечкой, а это не укладывалось в его голове.
Мишкины слова были восприняты как команда. С веселым гиком они вскочили со своих мест и помчались к реке. Однако в воду приходилось входить осторожно, чтобы не удариться о нагромождения камней и противостоять сильному течению, способному сбить с ног. Вода обжигала холодом, казалось, до самых костей. Друзья визжали, пулей вылетали на берег, чтобы согреться на солнце.
– Чепуховая река, – ворчливо сказал Тим Тимыч. – Даже плавать негде.
Незаметно подкатился вечер. На смену неподвижному зною вначале несмело, а затем, дождавшись, когда солнце скатится за горизонт, откуда-то из-за невидимых отсюда гор легким ветерком заструилась прохлада. Тим Тимыч предложил в спешном порядке построить шалаш.
– К чему такие гигантские проекты? – лениво откликнулся Кешка, успевший вздремнуть в тени чинары.
– К тому, что без шалаша кое-кто под утро запросится к маме, – с суровой логикой объяснил Тим Тимыч.
– Да, к сожалению, существует разница температур, – поддержал его Мишка.
– За дело! – призывно воскликнул Вадька и, подавая личный пример, принялся рубить маленьким топориком ветки орешника.
Смастерили шалаш быстро. Конусообразный, он чем-то походил на индейскую хижину. На землю кинули охапку сена, обнаруженную Тим Тимычем вблизи железнодорожной насыпи. Сено было сухое, каждая былинка насквозь прокалена солнцем, попадались злые колючки, но лежать на нем было приятнее, чем на голой каменистой земле.
Ночь нахлынула на Урвань внезапно. Казалось, крыло огромной птицы накрыло землю. В густой черноте неба вспыхнули крупные звезды. Тим Тимыч снова разжег костер и принялся печь картошку. Горячие обуглившиеся картофелины, обжигая пальцы, катали в ладонях. Кешка первым успел снять пропекшуюся и затвердевшую кожуру, посыпать рассыпчатую мякоть солью.
– И больше ничего не надо для счастья! – пропел Кешка, обжигая губы картошкой.
Поужинав, друзья долго сидели у тлевшего костра. Молчали все, кроме Кешки. Сквозь сладко наплывавшую дрему Вадька слышал его неумолчное рокотанье:
– Главное в человеке – воля. Я ежедневно тренируюсь. Каким образом? Ставлю перед собой цель – осуществить возникающее вдруг желание. Хотите примеры? Извольте. На прошлой неделе ко мне явилось желание сочинить фантастический рассказ. И что вы думаете? Взял чистую тетрадку, вооружился ручкой – и сочинил!
– Прочитай, – полюбопытствовал Мишка.
– В связи с тем что я забыл его дома, твое желание, мистер Синичкин, пока что неосуществимо. Но могу пересказать сюжет.
– Пересказывай! – У Мишки глаза разгорелись как звезды.
– Вникай. Героя моего рассказа зовут Кеволеч.
– Кеволеч? – запинаясь, переспросил Мишка. Его неудержимо манило к себе таинство, которое звучало уже в самом имени.
– Что за странное имя? Чертовщина какая-то, – недоумевающе сказал Вадька.
– Нет, оно вовсе не странное! – рьяно защищался Кешка. – Именно Кеволеч! Слушайте, в чем суть. Этот самый Кеволеч – существо необыкновенное. Титан мысли и воли. Он наделен сверхъестественным даром – продлевать жизнь любому человеку и даже делать его бессмертным. Все человечество поклоняется ему. И вот в один прекрасный день люди, населяющие планету Земля, вдруг узнают, что Кеволеч серьезно болен и что ему самому грозит смерть. Представляете себе состояние тех, кто надеялся благодаря Кеволечу дожить до трехсот лет или обрести бессмертие? Все приходят в ужас, начинаются волнения, восстания и перевороты. Попытки найти средство, спасающее Кеволеча, безуспешны. Люди, близкие к его окружению, стремятся выведать секрет. С этой целью к нему подсылают женщину – молодую и самую красивую из всех живущих на земле – Иволетту. Кеволеч открывает ей секрет, но находится предатель, который убивает Иволетту. Кеволеч умирает в страшных муках, обрекая людей на короткую жизнь. Это самое суждено и нам с вами.
– А наверное, есть секрет бессмертия, – мечтательно произнес Мишка, зачарованный рассказом Кешки. – А мы его не знаем.
Тим Тимыч подбросил сухих веток в костер и усмехнулся:
– Не в этом дело. Бессмертие не в том, сколько лет живет человек.
– А в чем же? – насторожился Кешка.
– А хотя бы в том, какой он, этот человек.
– Изрекаешь банальные истины, философ, – пытался отмахнуться от него Кешка.
– А ты все еще тешишь себя детскими забавами, – огрызнулся Тим Тимыч. – Кеволеч! Думаешь, никто и не догадается, что ты слово «человек» кверх тормашками перевернул?
– Мыслитель! – восхитился Кешка. – Я счастлив, что мы с тобой помирились.
– А кто тебе сказал, что мы помирились? – с вызовом спросил Тим Тимыч.
– Бросьте, ребята! – блаженно позевывая, вмешался Вадька. Занозистость и ершистость Тим Тимыча казались ему чрезмерными. – Скоро расстаемся, а вы так и будете враждовать? Зря мы, что ли, сидели на «Камчатке»?
– Самое главное, – вмешался в разговор Мишка, – чтобы нас взяли в тот род войск, для которого мы больше подходим. Я, к примеру, мечтаю стать интендантом.
– Это чтобы во время войны сидеть в тылу? – с издевкой спросил Кешка. – И кататься как сыр в масле?
– Почему же в тылу? – не горячась, рассудительно ответил Мишка. – Кто обеспечивает войска снарядами, патронами, обмундированием, хлебом, наконец? Военные интенданты! Без них не выиграешь ни одного боя. И не только в тылу они сидят. Часто бывают на передовой. Один интендант на войне с белофиннами даже орден получил. Я читал. И лично для меня слово «интендант» звучит как музыка...
Мишка неожиданно оборвал свою речь и отвернулся к костру.
– Нет, меня в интенданты и калачом не заманишь, – решительно заявил Кешка. – Я по природе романтик. Или море, или Пятый океан!
– В артиллерию бы, вот здорово! – едва не задохнулся от волнения Вадька. – Помните, как в картине «Если завтра война»?
Если завтра война, если завтра в поход,
Загрохочут могучие танки,
И пехота пойдет, и линкоры пойдут,
И помчатся лихие тачанки!
Кешка пропел это с большим подъемом.
И ребята подхватили:
На земле, в небесах и на море
Наш ответ и могуч и суров:
Если завтра война, если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!
– Один Тим Тимыч не сообщил нам о своем предназначении, – передохнув от песни, напомнил Кешка.
Тим Тимыч упрямо молчал. Только сейчас Вадька подумал о том, что Тим Тимыч, когда пели песню, не открывал рта, а лишь беззвучно шевелил губами.
– Итак, Тим Тимыч, имеется ли в твоем вещмешке маршальский жезл или ты довольствуешься саперной лопаткой? – не унимался Кешка.
Тим Тимыч вновь не удостоил его ответом.
– Не трогай его, – дернул Кешку за плечо Вадька.
– Давайте лучше поговорим о девочках, – неожиданно предложил Мишка. – Вы еще не подумали о том, что мы уйдем в армию, а наши девочки останутся без нас? И как мы будем жить без них? И как они будут жить тут без нас? Моя Раечка уже сейчас не находит себе места, когда я говорю ей об этом.
– Раечка будет присылать нам «Раковые шейки» со своей кондитерской фабрики, – попытался пошутить Вадька, но, увидев печальное Мишкино лицо, смолк.
– А у нас с Анютой никаких проблем, – хвастливо заявил Кешка. – Теперь она от меня никуда – будет ждать хоть двадцать лет.
– Это почему же? – поинтересовался Вадька.
– А очень просто, – все тем же самоуверенным тоном продолжал Кешка. – Мы с ней, можно сказать, как муж и жена.
Все промолчали, а Тим Тимыч весь съежился и пересел подальше от Кешки под предлогом того, что в его сторону тянуло дым от костра.
– У вас, юноши, любовь носит чисто платонический характер. Символика! – будто с трибуны, нарочито торжественно провозгласил Кешка. – Записочки, стишата, мечты о робком поцелуе. Воздыхатели вы, а не мужчины! У нас с Анютой все ясно и определенно. Мы с ней дружим почти с первого класса. И считаем, что теперь уже достигли того возраста, когда всяческие предрассудки и условности незачем принимать во внимание. Мы – рыцари свободной любви.
– Врешь ты все, Кешка, – не совсем уверенно предположил Вадька, обескураженный откровенным признанием. – Фантаст ты...
– Нет, не фантаст! – ликующе отверг Вадькины слова Кешка. – Я – земной человек, а вы живете в плену ложных постулатов. И никогда не испытаете счастья, потому что вас вечно будут сковывать вами же придуманные условности. Да хотя бы вот ты, Вадька. Ты хоть раз целовался с Асей?
Вадька насупился и молчал.
– А если бы ты знал, как целуется Анюта!
– Ну зачем ты... – подавленно прошептал Мишка. – Я бы никогда не стал так о своей Раечке.
– Подумаешь, святоша! – взорвался Кешка.
– И все-таки я не стал бы так о Раечке... – настаивал на своем Мишка.
– Ва-а-а-дька! – вдруг раздался отчаянный крик Тим Тимыча со стороны реки.
Они вскочили на ноги и помчались. Вадька включил прихваченный из дому карманный электрический фонарик. Спуститься к реке в темноте, при слабом луче фонарика, оказалось непросто.
Фонарик высветил сперва валун, коряжистое дерево, обреченно свесившееся над бурлящей черной водой, а потом и Тим Тимыча, безуспешно пытавшегося перебороть течение и ухватиться за выступавшую из воды корягу. Он был в одежде, с вещмешком за спиной.
– Как ты здесь очутился? – крикнул Вадька, пытаясь перекричать шум несшегося в стремнине потока.
– Тоже мне, нашел время проводить пресс-конференцию, – пробурчал Кешка и, отыскав на берегу длинную увесистую палку, протянул ее Тим Тимычу.
Тот сноровисто ухватился за нее и, спотыкаясь о камни, начал выбираться из реки. Вылез он на берег мокрый, дрожащий. Зубы стучали от холода, как клавиши пишущей машинки.
– Поздравляю с форсированием водной преграды, – торжественно протянул ему руку Кешка, но Тим Тимыч не ответил.
– Не паясничай! – оборвал Кешку Вадька. – Скорее к костру, не видишь, он закоченел.
Тим Тимыча привели к костру, помогли снять рубашку и брюки, чтобы просушить их над огнем.
– Согрелся? – участливо спросил Вадька.
– Не в этом дело, – все еще не попадая зуб на зуб, пролепетал Тим Тимыч. – Лопатку жалко.
– Саперную? – уточнил Кешка, не удержавшись от иронии.
Тим Тимыч отвернулся от него.
– И чего переживать? – удивился Кешка. – В армии другую выдадут. Еще получше этой. Ну, вы как хотите, а я пошел спать.
И Кешка решительно направился к шалашу.
– А все же как ты в реке оказался? – проводив Кешку взглядом, спросил Тим Тимыча Вадька. – И когда ты успел?
Тим Тимыч долго не отвечал, а потом сконфуженно, будто в чем-то был виноват, сказал:
– Уйти хотел.
– Куда?
– В город.
– Так поезд же утром.
– Пеший переход. Пусть не с полной выкладкой, а все же тренировка. И форсирование реки.
– Ненормальный! – не выдержал Вадька. – А мы бы искали. Хорош гусь!
– Нормальный я, – вздохнул Тим Тимыч. – Просто поскользнулся и упал. Урвань – река злая. Закалка нужна. А у меня разве закалка? Или у тебя? А у Кешки только и силы что в языке. Зачем мы, такие слабаки, армии нужны?
– Значит, ради тренировки все это затеял?
– Не в этом дело, – ответил Тим Тимыч. – Не мог я его слушать. Понимаешь, не мог!..
Накануне
Ночное купание Тим Тимыча в Урвани не прошло даром: он занемог и слег в постель. Правда, уложить его было непросто. На все увещевания матери – такой же порывистой, неутомимой, как ее сын, – Тим Тимыч упрямо и категорически ответствовал, что никакая у него не простуда, а просто играет кровь и что утихомирить ее можно лишь пребывая на ногах. Совладать с Тим Тимычем смогла лишь высокая температура: когда ртутный столбик подскочил до тридцати девяти, он забеспокоился.
– Придется лечь на денек, – заплетающимся, как в бреду, языком сказал он. – Но только на денек, ни секундой больше.
– «На денек», – сердито передразнила мать. – Ныряй под одеяло и помалкивай. Сейчас тебе сушеной малинки заварю. А не будешь слушаться – улепетнут твои дружки в армию – только гудочек от их эшелона и услышишь. А тебя, горемыку, на инвалидность...
– Ну, ты, мам, даешь, – всерьез заволновался Тим Тимыч. – Каркать-то зачем? Да я к утру буду как штык...
С этими словами Тим Тимыч забрался на старый диван, выпиравшие пружины которого остро ощущались всей спиной, и, чувствуя неловкость от своей беспомощности и от того, что не он сам, а мать укрывает его стеганым одеялом, попросил:
– Только ты Вадьке и Мишке ничего не говори, будут зубоскалить. Я за ночь эту температуру поборю...
– Эх, отца с нами нет, – вздохнула мать, тайком от Тим Тимыча смахивая слезу. – Он бы тебе твою температуру ремнем в один момент сбил.
– Как же так, мам, тридцать девять, а морозит?
– А очень просто, – объяснила мать и провела грубоватой, шершавой ладонью по воспаленному лбу Тим Тимыча. – Значит, еще выше подскочит. Придется доктора вызывать.
– И не вздумай! – вскинулся с постели Тим Тимыч.
– Ладно, ладно, лежи смирно, я тебя по-своему лечить буду. Травами. Как бабушка твоя.
– Не в этом дело. Это же чистое знахарство, – запротестовал Тим Тимыч. – Я, мам, категорически против. Лечи по всем правилам нашей медицины. Ты, мам, у меня совсем темная. Наша советская медицина – лучшая в мире. И никаких трав не признает.
– И у кого ты болтать научился? – рассердилась мать. – Небось у Кешки Колотилова.
– При чем тут Кешка? – сердито выпалил Тим Тимыч, враз вспомнив все, о чем разглагольствовал Кешка на берегу Урвани.
Мать, казалось, пропустила все это мимо ушей. Она достала из старенького комода, с которого уже слоями облезла краска, стеклянную банку с сушеной малиной и разожгла керогаз, от которого сразу же потянуло керосиновым чадом.
– А на отцову могилку я и без тебя поеду, – послышался из кухни ее вдруг изменившийся и ставший глухим и скрипучим голос. – Когда я тебя-то дождусь? Теперь на три года ты не мой, а государственный.
– Государственный – это ты здорово сказанула, мам, – цокая зубами, откликнулся Тим Тимыч. – И ты, мам, обязательно съезди.
– Далеко ехать-то, аж в Карелию. – От одного предчувствия такой дальней поездки мать зябко поежилась. За всю свою жизнь она не выезжала из города дальше узловой станции Прохладная, да и та, казалось ей, существует где-то в другом мире. – С тобой бы вдвоем...
– Так я, мам, как отслужу, мы с тобой съездим. Подумаешь, три года. Пролетят, не заметишь, вот и всех-то делов.
– Эх ты, дите! – вздохнула мать. – Ничегошеньки ты еще в этой жизни не смыслишь. И зачем вздумали таких молокососов в армию призывать? То ли дело раньше: у человека уже семья, хозяйство, он на своих ногах, а потом уж и в армию. Соображали, что к чему. А теперь птенцов желторотых – да в шинель. Какие из них вояки?
– Не в этом дело, – уже борясь со сном, пролепетал Тим Тимыч. – Ты за нас будь спокойна... И радио слушай...
На миг перед его воспаленными глазами закачались под тяжким ветром, застилая небо и погружая всю землю в зыбкую темноту, великаны-сосны. Оттуда, со стонущей от ветра сосны, прогремели частые выстрелы финской «кукушки», и перед Тим Тимычем явственно, как живое, возникло лицо отца. Все в его облике было сейчас бесконечно знакомым и родным, все, кроме глаз, которые всегда светились теплом и добротой, а сейчас горели гневно, испепеляюще. Отец еще стоял на ногах, не выпуская из рук винтовки, оторопело смотрел на Тим Тимыча, будто не понимая, почему он не хочет его спасти. И вдруг земля вздыбилась под отцом и он поднялся вместе с нею и стал медленно клониться к ней, как клонится поначалу подрубленный дуб, и, рухнув на окоченевшую вмиг траву, исчез в огненной тьме...
Тим Тимыч тяжко застонал и затрясся под одеялом.
– Ты потерпи, потерпи, сынок, – донеслось до него издалека, будто мать шептала ему эти слова откуда-то с высоты небес и каждому слову нужно было прорваться через толщу облаков, прежде чем коснуться ушей Тим Тимыча. – Запей аспирин малиновым чаем...
К утру Тим Тимыч, вопреки своим заверениям, был вовсе не «как штык». Температура упорно вцепилась в него, словно хотела доказать, что не все зависит от воли человека, даже от такой железной воли, какую в себе изо дня в день вырабатывал Тим Тимыч. Пришлось вызвать доктора.
Доктор – сухонький старичок с взъерошенными, точно собиравшимися взлететь, бровями – долго прослушивал Тим Тимыча стетоскопом, каждый раз удивленно покачивая клинышком-бородкой, прикладывал костлявые пальцы левой руки к горячей груди Тим Тимыча и стучал по ним пальцами правой, отчего получался звук, похожий на стук кастаньет во время исполнения испанских танцев. Танец с кастаньетами Тим Тимыч видел однажды в летнем театре. На полукруглой эстраде со вздымавшейся над ней обшарпанной раковиной выступали тогда артисты какой-то заезжей оперетты. Досмотреть до конца это представление Тим Тимыч не пожелал, так как сразу же зачислил оперетту в разряд никудышных и несерьезных представлений. Все эти шутовские канканы и куплетики, по его убеждению, не выдерживали никакого сравнения с военными маршами в исполнении духового оркестра. А вот сухой и настырный звук кастаньет врезался в память Тим Тимыча, хотя время от времени отравлял ему настроение.
– Прекратите! – бредил Тим Тимыч, когда доктор настойчиво повторял свои манипуляции, простукивая ему грудную клетку. – Я не люблю оперетту!..
Доктор изумленно поглядывал на него, но так как у Тим Тимыча глаза были плотно закрыты красными, вспухшими веками, а сам он не пытался пояснить, чем вызван его столь бурный протест, то он и продолжал простукивать выпиравшие из-под туго натянутой загорелой кожи ребра Тим Тимыча.
– Если к завтрему температура не понизится – придется положить в больницу, – хмуро изрек доктор визгливым тенорком, не глядя на испуганную, пригорюнившуюся мать. – Вполне вероятно, что у него воспаление легких.
– Никаких больниц! – вдруг почти здоровым голосом выкрикнул Тим Тимыч и открыл глаза. – И никаких воспалений! Легкие у меня закаленные! Я на медкомиссии так дунул, что цилиндр вылетел!
Доктор испуганно воззрился на Тим Тимыча через выпуклые стекла очков.
– Молодой человек, – от укоризненного тона голос доктора стал еще более визгливым, – да будет вам известно, что я окончил медицинский факультет Санкт-Петербургского университета еще до революции...
– Оно и видно, что до революции, – ворчливо перебил ого Тим Тимыч.
– Тимка! – грозно предостерегла его мать.
– Если вы не будете лечиться, – угрожающе сказал доктор, выписывая рецепты, – то ваши могучие легкие станут очень хилыми. А что касается моего опыта, молодой человек, то я поставил на ноги не одну сотню людей. И заметьте, обхожусь без рентгена и прочих современных новшеств.
Всю ночь Тим Тимыч стонал, метался в постели, что-то выкрикивал угрожающее, будто наяву боролся с невидимым противником, а к утру взмок так, будто его окунули в Урвань.
– Вот теперь пойдешь на поправку, – облегченно вздохнула мать. – Уразумел, какая сила в малине?
Она принесла Тим Тимычу кружку горячего молока с медом и поставила ему на табуретку рядом с диваном. Табуретку делал отец еще тогда, в той счастливой жизни, когда они жили втроем, Тим Тимыч был маленький и не было еще войны с белофиннами. Мать очень дорожила этой табуреткой и разрешала садиться на нее только по праздникам или же самым желанным гостям. А так как гости в ее доме были очень редки, то как-то зимой на табуретке сидела классная руководительница Антонина Васильевна, которая приходила к ним, чтобы всерьез поговорить с матерью о том, что у ее сына из рук вон плохи дела с литературой и русским языком.
– Он прекрасно знает алгебру, физику, химию и даже астрономию, – удобно устроившись на табуретке, торопливо и с восхищением говорила Антонина Васильевна, словно спешила сообщить исключительно приятную новость и как бы опасаясь, что им кто-либо помешает. – Иными словами, у вашего Тимы огромная тяга к точным наукам. И это, конечно, не вызывало бы отрицательных эмоций, если бы... Дело вот в чем. – Антонина Васильевна хотела быть как можно деликатнее. – На уроках литературы у вашего Тимы будто язык отнимается. Подкреплю это примером хотя бы последних занятий. Я задала классу выучить наизусть отрывок из «Разгрома» Фадеева. Чудесный писатель, прекрасный роман! Это то место, когда отряд Левинсона попадает в болото, в засаду. Такой трагический момент! Так ваш Тима запомнил только одну фразу: «Молчать! – вскричал Левинсон, по-волчьи щелкнув зубами и выхватив маузер». И все, представляете?
Тимкина мать сокрушенно покивала головой, сопровождая этими испуганно-печальными кивками почти каждое слово Антонины Васильевны, особенно когда она цитировала «Разгром», хотя не имела ни малейшего представления ни о Фадееве, ни о его книге. Она зачарованно смотрела на вдохновенное лицо учительницы, страдала оттого, что Антонина Васильевна была недовольна, и радостно оживала, когда та хвалила сына то за пятерку по физике, то за десятки в мишенях на занятиях по военному делу. Больше всего мать боялась, что Антонина Васильевна не успеет ей все рассказать до прихода Тим Тимыча, и потому суетливо повторяла одни и те же слова:
– Вот я уж ему... Ишь, какой умный...
Но именно эти слова и настораживали Антонину Васильевну, она тревожно всматривалась в усталое лицо матери, мысленно отмечая, что Тим Тимыч – ее копия, и взмахивала руками:
– Нет, нет, никаких мер принуждения, никаких наказаний! И не вздумайте! Его надо убедить, понимаете, убедить, что современный красный боец, а тем более командир, – это человек высокого интеллекта и литература должна быть спутницей всей его жизни. А какие взгляды у вашего Тимы? Вы знаете, что он мне заявил? Литература, говорит, это для развлечения, когда у человека много свободного времени. Вы представляете, Анна Филипповна, как узко он смотрит на духовные богатства человечества и как негативно воспринимает воспитательную роль литературы, представляете?
– Представляю, очень даже представляю, Антонина Васильевна, – торопливо соглашалась мать и снова твердила свое: – Вот я уж ему... Ишь, какой головастый...
А когда Тим Тимыч поздно вечером возвратился домой, мать встала перед ним как воплощение кары за страшные грехи.
– Ты почему это по литературе двойку схватил?
– По литературе? – озадаченно переспросил Тим Тимыч, пытаясь сообразить, каким образом мать пронюхала про эту несчастную двойку. И, набравшись храбрости, мрачно и решительно ответил: – Литература, мама, мне ни к чему. Я вот уйду в армию и там останусь.
– Как это останешься? – всплеснула руками мать.
– А так. На всю жизнь.
– А какой ты красный боец, и тем более командир, если без этого богатства?