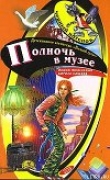Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
ШКОЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Детям моим – Евгении, Наталии и Вячеславу – посвящаю

Уличный фотограф
Идея сфотографироваться в парке в день последнего экзамена пришла в голову, как это ни странно, не Кешке Колотилову, всегда любившему запечатлевать себя для истории, не Мишке Синичкину, прозванному в школе «лондонским денди» за фанатичное стремление одеваться по последней моде (что было для него сравнительно просто, ибо отец его был портным, и портным хорошим), не Тимке Тимченко, по прозвищу Тим Тимыч, который вообще избегал фотообъектива, как заяц избегает нацеленной на него двустволки (по причине предельной узкости, а точнее, спрессованности лица и ярко выраженной остроносости он не относил себя к числу фотогеничных особ). Пришла же эта идея Вадьке Ратникову, чья доведенная до своего окончательного апогея скромность вызывала уже не столько восхищение, сколько взрыв иронических, даже ядовитых, эмоций.
– Что есть скромность? – монументально воздевал холеный, аристократической породы указательный палец Кешка, возвышаясь своей поджарой, как у гончей, фигурой над нескладным, отнюдь не атлетического сложения Вадькой. Видя, как Вадька беспомощно и отчаянно хлопает редкими рыжими ресницами, безуспешно пытаясь понять, к чему клонит Кешка, и боясь клюнуть на очередную «покупку», торжествующе, как с амвона, изрекал: – Скромность – это кратчайший путь к неизвестности!
Кешка вообще питал непреодолимую страсть к афоризмам.
Услышав новое, доведенное до степени парадокса определение скромности, Вадька неожиданно расхохотался. Потом так же внезапно осекся, будто запретил самому себе столь бурно реагировать на Кешкин треп, и снова стал таким же задумчивым, серьезным, целиком ушедшим в себя, каким он обычно и был.
Вполне возможно, что мысль сфотографироваться на память не возникла бы у Вадьки, если бы они не шли сейчас по аллее городского парка и если бы на пути у них не оказалась огромная неуклюжая тренога с громоздкой, как большая скворечня, деревянной фотокамерой.
Уличный фотограф, еще издалека заметив ребят, неторопко и валко бредущих по аллее, конечно же смекнул, что у него наклевывается отличный шанс подзаработать на их прекрасном настроении и младой беспечности. Он был в курсе всех событий, происходящих в городе, этот уличный фотограф. Знал, у кого намечается свадьба и даже у кого предстоят похороны, кто планирует торжественно отметить свой юбилей, а кто питает особую страсть к тому, чтобы на витрине в парке увидеть свое изображение и хотя бы таким образом прикоснуться к нетленности. А уж о том, что в школе закончились экзамены и ошалевшие от радости десятиклассники, еще не вполне поверившие в реальность того, что наконец сбросили тяжкий многолетний груз со своих еще почти детских плеч, жаждут каких-то необычных поступков и даже приключений, – уличный фотограф знал несомненно. Тем более что был отцом сына-десятиклассника, завалившего экзамен по химии, но не потерявшего надежду получить разрешение на пересдачу, так как папа был в школе своим человеком, фото которого красовались на всех школьных стендах и даже проникли в личные альбомы учителей.
Цепким взглядом определив, что к нему приближаются именно выпускники, уличный фотограф, натренированно, почти артистически, улыбаясь все шире и обаятельнее, вышел из-за своей кормилицы – камеры и по-мушкетерски истово раскланялся. Для полного эффекта ему явно не хватало широкополой шляпы со страусовыми перьями и, что еще важнее, гибкого юношеского стана.
– Молодые люди уже жаждут запечатлеться! – не вопросительно, а как о чем-то давно решенном и не подлежащем сомнению, объявил он, выразительным жестом фокусника сорвал крышечку с объектива и произвел ею молниеносное вращательное движение.
В линзе сверкнуло солнце, по-свойски подмигнув счастливым выпускникам. Кешка предостерегающе выставил вперед ладонь, всем своим видом показывая, что он решительно отвергает поползновения уличного фотографа.
– Уймите ваши страсти, сеньор, – выразительно посмотрев на фотографа, бархатистым голосом изрек он. – Убежден, что вы и сами отдаете себе отчет, что ваши фотографии, даже самые удачные, отнюдь не шедевр мирового искусства. Мы же воспитаны на лучших образцах, исполненных в соответствии с принципом социалистического реализма. Вы и в самом деле уверены, что мы сможем различить друг друга на вашем монументальном полотне? И сможем, не испытывая угрызений совести, поместить вышеназванную продукцию в личный семейный альбом?
Речь Кешки была столь откровенно изничтожительна и так агрессивно неожиданна, что круглое, сияющее и зазывное лицо уличного фотографа враз слиняло. Вадьке стало жалко его. Он было раскрыл рот, чтобы хоть как-то смягчить остроту момента, но фотограф уже оправился от Кешкиного натиска.
– Молодой человек, – укоризненно произнес он, подчеркивая свое достоинство, – вас, извините меня, не было еще и в проекте, когда я вот этим самым аппаратом, – он, будто девушку, погладил ладонью камеру, – снимал в Одессе авиатора Уточкина, а в Негорелом – Максима Горького.
– Не сомневаюсь, что у вас богатейшая фантазия, маэстро, – небрежно откликнулся Кешка. Информация уличного фотографа, прозвучавшая как сенсация, не опалила его воображения. – Прощаясь с вами, мы можем лишь пожелать вам и впредь снимать только гениев!
– А давайте сфотографируемся! – вдохновенно воскликнул Вадька, желая хоть этим спасти уличного фотографа от разгромной тирады Кешки. – А, ребята? – уже умоляюще продолжал он. – Представьте: через три месяца мы уйдем в армию. И разлетимся на все четыре стороны. А, ребята?
– Абсолютно точно: нас четверо, сторон света столько же, – заметил Тим Тимыч.
– А разлетимся, так что? Фотографироваться будет поздно, и захотели бы, да ничего не выйдет, – все с тем же воодушевлением продолжал Вадька. – А когда встретимся? Кто знает? Да никто не знает!
– Остановись, мгновение, ты прекрасно! – почти пропел Кешка, ежась от косноязычия Вадьки.
– А в самом-то деле, – поддержал Вадьку Мишка Синичкин. Он вдруг представил своего отца – портного, у которого бы не захотели шить пиджаки и брюки заказчики. – Сдается, вы уже не хотите и думать о том, что школа закончена и необходимо запечатлеть наши счастливые и совершенно лишенные забот физиономии?
– Тебе хорошо, – не сдавался Кешка. – У тебя костюм из Рио-де-Жанейро.
– Но вы будете запечатлевать не костюмы, а ваши одухотворенные лица! Придет время, и вы, любуясь, не оторвете взгляда от этой фотографии. И будете вспоминать меня добрым словом, – ожил уличный фотограф. – Может, вы думаете, что я не имею заработка? Так я вас очень прошу так не думать. Что я на вас заработаю? Вы уже подсчитали мои дивиденды? Я заработаю на вас несчастный ломаный грош, но я выше меркантильной выгоды! – Голос его поднялся до уровня высокой патетики. – Я хочу запечатлеть вашу неповторимую юность!
– Уговорили, – сдался Кешка. – Куда прикажете садиться?
– Вот сюда, – засуетился фотограф. – Вот на эту великолепнейшую скамью, которую будто бы специально установили здесь для вас. Я снимал на ней таких знаменитостей!
– Только не говорите, пожалуйста, что вы снимали на ней Дюма-отца вместе с Дюма-сыном. Умоляю вас, не говорите этого, – остановил его Кешка, скорчив шутовскую гримасу.
Но теперь уже фотографа невозможно было сбить с толку, даже если бы Кешка выдал что-либо еще более язвительное. Фотограф приступил к делу, которому посвятил свою жизнь, и все, что он сейчас предпринимал, можно было бы назвать священнодействием. Он прочнее установил треногу на посыпанной крупным песком аллее, виртуозным движением обеих рук расправил раструб из черной материи позади камеры, удивительно ловко просунул в него свою аскетически удлиненную голову и, протянув правую руку вперед, начал усиленно вращать никелированное колесико в нижней части камеры, отчего она громоздко заскользила по направляющим полозкам, то сжимая, то разжимая черные складки футляра. Наконец, выпростав голову, он по-юношески стремительно подбежал к скамье, на которой сидели четверо друзей, нетерпеливо ожидавших завершения этих нудных манипуляций, и вдохновенно, будто в их жизни предстояло некое историческое событие, заговорил:
– Нет, вы только посмотрите, как они сидят! Так можно сидеть где хотите, но только не на такой ответственной съемке. Я уже подозреваю, что из вас никто не снимался в кино и никто не станет вторым Николаем Крючковым. Ах, как он прекрасно сыграл Клима Ярко в «Трактористах»! Можете себе представить, когда он пел: «Броня крепка, и танки наши быстры...», мне самому захотелось забросить на любой, самый захудалый коммунальный чердак эту проклятую камеру и пойти в танкисты. Да, да, не улыбайтесь столь сакраментально, мои прекрасные юноши! Если вы думаете, что я шучу или просто загибаю от нечего делать, то вы очень и очень ошибаетесь. Нет, нет, у вас очень узковатое, но весьма фотогеничное лицо! – Он повернул голову Тим Тимыча вбок. – Это лицо древнего римлянина! И потому оно смотрится только в профиль, запомните это, юноша, на всю вашу долгую-долгую жизнь! А вы, – теперь он добрался до Вадьки, – вы, в отличие от своего соседа, смотрите мне прямо в аппарат, и никуда больше, избави господь! Вы, конечно же, даже не подозреваете почему? Секрет мастера! Никогда не снимайтесь в профиль, я вас умоляю! Вы красавец, когда снимаетесь в фас! Вы меня правильно поняли – красавец! А в профиль, вы меня простите за мою назойливую откровенность, вы не только не захотите подарить свое изображение любимой девушке, но даже сами с негодованием отвернетесь от самого себя и будете мучить свою матушку одним и тем же вопросом: почему она родила вас, не позаботившись о том, чтобы ваш нос не был столь отчаянно вызывающим? Он затмевает у вас все остальное. Но это лишь тогда, когда вы позируете в профиль. Да, да, и сложите руки перед собой на груди, так будет гораздо выразительнее. Уверяю вас, каждый скажет, что вы задумались, по меньшей мере, над смыслом жизни. А может, и над тем, что произойдет с нашей планетой, поскольку на ней поселился такой злодей, как Адольф Гитлер.
– Я чувствую, что мы так и не сфотографируемся, – нетерпеливо заерзал на скамье Кешка, готовый вскочить и гордо удалиться. – Вы же не режиссер Протазанов, а мы не актеры.
– Да, я не Протазанов! – почти с радостью подхватил фотограф. – Я Ефим Разгон, и, как видите, моя фамилия ничуть не хуже. Сейчас я займусь вами, молодой человек. Что я хочу попросить у вас? Сделайте более озабоченное лицо. В ваших глазах, я бы сказал, безумно обаятельных глазах, поселилась младая беспечность. Вы читаете газеты? Вы слышите, как старушка Европа содрогается от лязга немецких танков? Я не хочу предсказывать ничего дурного, типун мне на язык, но, скажите, вы можете поручиться, что эти танки захотят остановиться у нашей границы и танкисты, как наш Клим Ярко, переквалифицируются в трактористы? Называйте меня как вам будет угодно. Да, я старый ворон, который любит каркать, но я, молодые люди, читаю газеты, слушаю радио, я видел своими глазами, как господин Риббентроп ехал по улице Горького в Кремль. Вы думаете, я поверил хотя бы одному его слову? В таком случае я могу на вас обидеться на всю мою оставшуюся жизнь.
– Вы нас как будто стращаете? – вскинулся на него Кешка. – Вы разве забыли слова товарища Сталина?
– Нет, нет и еще раз нет! – испуганно отшатнулся от Кешки Ефим Разгон. – Я очень хорошо, более того, наизусть знаю слова товарища Сталина. Да, мы ответим тройным ударом на удар поджигателей войны! И я очень хочу, молодой человек, очень прошу, чтобы этот прекрасный лозунг каждый, кто только задумает посмотреть вашу школьную фотографию, прочитал бы в ваших мужественных глазах. – Он вгляделся в Кешкины бледно-голубые глаза, от бесовской красоты и томности которых и впрямь сохли десятиклассницы и даже кое-кто из девятого класса, и удовлетворенно изрек: – Именно так! Теперь в вашем взгляде лед и пламень. А вы, юноша, – он наконец дошел до Мишки, – клянусь всеми своими предками, очень добрый, хотя и достаточно бойкий экземпляр. Пусть ваше лицо излучает только доброту. Это необходимо хотя бы для контраста. Нет, молодые люди, – возвращаясь к камере, возвысил голос Ефим Разгон, – если вы решили, что я халтурщик, то пусть ваши юные, пышущие здоровьем лица станут от стыда красными, как первомайские флаги. Фотография – это моя судьба, я умру, снимая колпачок с моего аппарата на очередной съемке. Вот увидите! А сейчас я призываю вас превратиться в изваяния. На один только миг!
Затвор издал звук, похожий на скрип старой калитки, и юноши поняли, что дело наконец сделано.
– А когда будет готово? – нетерпеливо спросил Кешка, получая от фотографа квитанцию.
– Завтра в это же время, – с важностью в голосе и как бы теряя интерес к клиентам, сказал Ефим Разгон. – Моя фирма гарантирует скорость, качество и только положительные эмоции!
Кешка беззаботным взмахом ладони попрощался с уличным фотографом, покровительственно обхватил Вадькино плечо левой рукой и сказал с улыбчивой иронией, которая всегда въедалась во все, что бы он ни произносил:
– Однако маловато мы заказали фоток, коллега. Всего по три штуки на брата. А между тем, если подойти к проблеме по науке, получается ерундистика с маком. Поворочай мозгами, Вадик. Маме ты фотку обязан оставить? Еще бы, она же будет рассматривать ее в бессонные ночи, когда сыночек подхватит песню в армейском строю. Итак, мамочке экземпляр номер один, как и положено поступать воспитанному и добропорядочному сыночку. Что же касается экземпляра номер два, то его, сэр, вы обязаны вручить в лирико-интимной обстановке своей возлюбленной. Опять краснеешь, малыш? – Кешка не щадил тех чувств, которые всегда предательски обозначались на Вадькином лице. – Но кто не знает о твоем романе, достопочтеннейший? Увы, этот роман уже перестал быть тайной. Не можете надежно хранить свое эпистолярное наследие, милорд! Кто же оставляет любовные письма в учебнике по тригонометрии, на который у нас и без того столь повышенный спрос? Ну, не злись, Вадик! – еще крепче обхватил Вадима Кешка. – Бери пример с меня – я ничего и нисколечки не скрываю. Все лицезреют меня и Анюту как неразделимое целое, все к этому привыкли, и потому народ безмолвствует. Более того, на нас могли бы обрушиться пересуды, если бы в один прекрасный день мы с Анютой перестали влюбленно смотреть друг на друга. Вот тогда бы посыпались запросы, как в английском парламенте. Так-то, Вадимчик! А как неразумно поступаешь ты? Пытаешься целоваться с Асей тайком. Вывод? Массы до сумасшествия жаждут хоть в щелочку увидеть по меньшей мере один ваш поцелуй. Ну, все, все, я прерываю свою обвинительную речь, – поспешно оборвал нескончаемую тираду Кешка, видя, что Вадька насупился и помрачнел до той степени, которая уже чревата взрывом. – Я просто хотел сказать, что оставить Асеньку без своего изображения было бы в высшей степени неблагородно. А предусмотрел ли ты фотку для нашей обожаемой классрукши? Антонина свет Васильевна непременно пожелает поместить в домашний альбом самых гениальных своих воспитанников. Представляете, братцы, проходит, предположим, четверть века, нам уже за сорок, прибываем в свое родное гнездо. Тим Тимыч, естественно, – комкор, Мишка – нарком легкой промышленности, я, разумеется, академик, лауреат Нобелевской премии. А ты, Вадик, ты-то кем станешь, дружище? Не иначе как звездой киноэкрана, ты же как-то поведал свету о том, что тебя пытались снимать в картине «Пламя гор». Отдаешь должное моей блистательной, почти фантастической памяти, джентльмен? Ты плакал там над убитым отцом. Или ты навек останешься сочинителем од и сонетов?
– И сколько часов ты будешь разглагольствовать? – хмуро осведомился Вадька.
– Да пусть треплется, – милостиво разрешил великий молчун Тим Тимыч.
– Слушаюсь и повинуюсь, – галантно раскланялся Кешка. – Значит, смею вам напомнить, экземпляр номер три вручаем Антонинушке. Кроме того, у каждого из нас есть братья, сестры, племянники, друзья и подруги. А потом появятся сыновья и дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки. И все они будут мечтать о том, чтобы заполучить эту историческую школьную фотографию. Итог: каждый из нас закупает у гения фотохроники Ефима Разгона минимум по десять фоток. Ефим Разгон огребет кучу денег, вполне достаточных, чтобы купить себе виллу на островах Зеленого Мыса.
– Смотрите, горы! – неожиданно вклинился в Кешкино стрекотанье негромкий и удивленный голос Вадьки.
В той стороне, куда показывал Вадька и где, казалось, кромка городского парка поглощалась горизонтом, вздымая свои тяжелые снежные вершины, недвижимо застыли горы. Наверное, они были видны так отчетливо с самого утра, но Вадька как бы открыл их заново только сейчас.
Они на миг остановились на аллее и молча смотрели, как Эльбрус и Казбек горят розоватым манящим пламенем. Сколько раз прежде эти горы вставали перед ними, но сейчас у друзей было такое чувство, будто именно в этот час народились на свет и возвысились на горизонте новые вершины.
– Взойти бы и сесть на ту седловину, – мечтательно сказал Мишка, кивая на Эльбрус.
– Да, взойти, и обязательно вчетвером! – подхватил Кешка. – Вот как сейчас!
– Не в этом дело, – охладил его рассудительный Тим Тимыч. – Кто-то обязательно сойдет с дистанции.
– Отъявленный пессимист! – фыркнул Кешка.
– То, что одному под силу, другому – слабо́, – все так же серьезно продолжал Тим Тимыч. – У меня друг – альпинист. У подножия все герои. А на маршруте – один устал и лапки кверху, второй шоколадку хочет, третий по маме соскучился. Глядишь, лезли наверх четверо, поднялся один. Так что, не в этом дело.
– Закоренелый мизантроп, – подвел черту под Тимкино высказывание Кешка. – Кстати, Тим Тимыч, на твою долю я выкуплю не десять, а лишь девять фоток. Насколько я информирован, ты за свои восемнадцать лет ни разу не влюблялся. Убей меня, не понимаю, как человек с обликом древнего римлянина может существовать без девочек.
– Я ненавижу женщин! – В свое запальчивое и гневное восклицание Тим Тимыч постарался вместить как можно больше искренности. – Все они – красивые и кикиморы – способны лишь предавать!
Вадька удивленно посмотрел на Тим Тимыча. Он никак не мог представить себе Асю в роли предательницы. Если бы не стыдно было перед окружающими, он каждый день начинал бы с того, что целовал Асю в ее смуглые, вспыхивающие пожаром щеки. Казалось, ничто в мире – ни мать, ни солнце, ни даже сам бог, если бы он существовал, – не могло быть для Вадьки столь же притягательным, необходимым, как Ася. Сила земного притяжения была ничто по сравнению с тем, как манила она его к себе – то загадочно, то реально.
– Но, позвольте, мистер мизантроп, – с великолепным прононсом заговорил Кешка, – ваш лозунг приведет к гибели человеческого рода. Кроме того, женщины – чудо природы. Стоит жить уже ради того, чтобы хоть на мгновение узнать обнаженную маху!
– Все они – красивые и кикиморы – способны лишь предавать, – Тим Тимыч упрямо твердил свое.
– И как ты можешь такое! – не вытерпел и Вадька. – А твоя мама – разве она не женщина?
– Не в этом дело. Это единственная женщина, которую я люблю. И точка! – почти свирепо отозвался Тим Тимыч.
– Боже мой, с каким человеком мы свели дружбу! – Кешка воздел свои бледно-голубые очи к небу. – Помоги, господи, образумить заблудшего отрока...
В колючих, как репейники, глазах Тим Тимыча раскалились злые угольки, он оттолкнул Кешку, пытавшегося облапить его, и почти выкрикнул, не сдерживая бешенства:
– Паяц несчастный! Целуйся со своей Дульсинеей, только не в классе за партой! Апулея начитались!
Вадька и Мишка притихли, панически ожидая взрыва, и были ошеломлены, услышав Кешкин хохот, раздавшийся поистине с гомерической силой. Кешка хохотал долго, с наслаждением. Казалось, этот хохот вот-вот достигнет гор, и эхо вернет его обратно, в тихий и немноголюдный сейчас парк. – Цицерон! Сократ! – восторженно восклицал Кешка в паузах между хохотом. – Марат! Робеспьер! А между тем, кретинище, ты даже не подозреваешь, как ты меня превознес! «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал...» – пропел Кешка. – Нет, надо же! Так возвеличить, так обласкать! Я по гроб жизни перед тобой в долгу, милейший ты наш Тим Тимыч!
– Рехнулся он, что ли? – подозрительно косясь на Кешку, спросил плетущийся в сторонке Тимка. – Паяц, сказано, паяц...
– Да, я паяц и тем горжусь! – уже серьезно воскликнул Кешка. – Горжусь тем, что живу на земле и радуюсь жизни. И тем горжусь, что люблю. И что целуюсь. Хочешь, я свою Анюту при всех расцелую вот здесь, в этом парке? Или на Кабардинской? Хочешь?
– Ну и целуйся, юбкострадатель! – презрительно набычился Тим Тимыч.
– А ты, Тим Тимыч, случаем, не больной? – озорно вскинулся на него Кешка, все еще надеясь перевести столь неожиданно вспыхнувшую ссору в мирное русло.
– Подлец ты, Колотилов! – словно выстрелил Тим Тимыч и, круто свернув в боковую аллею, стремительно зашагал прочь.
– Зря ты его так, – с жалостью в голосе сказал Мишка. – Ты же знаешь, он парень обидчивый.
– А мне с Казбека плевать на его обиду! – неожиданно взорвался Кешка. – Когда он меня каменьями, вы с Вадькой в рот воды набрали?
Они остановились и стали похожи сейчас на взъерошенных петухов. Кешка ждал, что друзья начнут оправдываться или попытаются нападать на него. В его возбужденном мозгу уже рождались веские и неотразимые доводы, но Валька вдруг сказал просто, мирно и обыденно:
– Ребята, а хорошо, что сфотографировались, да? По крайней мере, на фотке вчетвером будем. А то, глядишь, подеремся и каждый – своей дорогой.
Эти слова немного охладили Кешку, но он долго не мог утихнуть, оглядывался назад, надеясь увидеть возвращающегося с повинной Тимку, и, не обнаруживая его, вновь закипал:
– Из-за того, что его Катька в восьмом классе переметнулась к Гришке Воскобойникову, возненавидел весь прекрасный пол! А заодно и своих лучших друзей!
Гулять по парку им расхотелось. Мишка сказал, что ему позарез нужно выполнить поручение отца – купить ниток в магазине «Галантерея», а Вадька, как всегда, должен был отправляться в столовую получать комплексный обед. Родители Вадьки учительствовали в школе и домашние обязанности, связанные с питанием, возложили на него. Кешка, не скрывая обиды, холодно распрощался с друзьями. Вадька и Мишка пошли к выходу из парка, Кешка же наоборот, продолжил путь в ту сторону, где, уже укрываясь синеватой мглой, громоздились горы. Он будто намеревался совершить восхождение. Один, без своих друзей.
На другой день Вадька, не сговариваясь, встретился с Кешкой у уличного фотографа. Ефим Разгон, широко улыбаясь, вручил им четыре пакета фотографий.
– В каждом пакете по десять штук, – многозначительно заявил Разгон.
– Как вы угадали наши мысли? – изумился Кешка, выпялив на Разгона свои бледно-голубые глаза.
– Ефим Разгон не только фотограф, милый юноша, он еще и волшебник, – важно произнес тот. – И поимейте в виду, что за дополнительные двадцать восемь фотографий я с вас не беру ни копейки. Пусть это будет мой скромный дар будущим защитникам Родины. – Он вдруг посерьезнел и сказал со скорбью в голосе таким тоном, будто признавался им в чем-то самом сокровенном: – Если хотите знать, мои юные друзья, я тоже имею сына. И его тоже заберут в армию. Нет, простите, я неправильно выразил свою мысль. Скажите, разве это годится, когда говорят, что в армию забирают? Нет, в армию – я, как вы понимаете, говорю о нашей, Красной Армии – не забирают, в армию идут – с радостью, с гордо поднятой головой. Вот у вас, – он обратился к Кешке, – на вашей вельветовой курточке я вижу значок «Ворошиловского стрелка». Это очень почетный значок, я дико завидую, когда вижу его на груди таких же юношей, как вы. Мой сын, его зовут Яшенька, имеет значок ГТО второй степени, но он никак не может заработать «Ворошиловского стрелка», потому что левый глаз у него, как у горного орла, один-ноль, а правый, тот самый, которым надо целиться в мишень, а значит, и во врага, – всего ноль-шесть, вы думаете, это не обидно? Но он все равно тренируется в тире каждый божий день, и пусть у него по трижды нелюбимой химии хроническая двойка, он пойдет в армию со средним образованием и с гордо поднятой головой. И кто знает, может, там, на больших учениях, не хотелось, чтобы на настоящей войне, вы встретитесь с моим Яшенькой. Вы не будете жалеть, если заимеете такого верного друга, как мой сын.
Вадька и Кешка машинально слушали неторопливую, задумчивую речь Ефима Разгона, а сами всматривались в фотографию, будто никогда еще не видели себя такими, какими были изображены на этом листке фотобумаги.
Слева на скамье сидел Тим Тимыч. У него и впрямь было лицо древнего римлянина, короткая, ершистая прическа, взгляд человека, раз и навсегда определившего свою цель в жизни. Костюм у Тим Тимыча был, пожалуй, ничуть не хуже, чем у «лондонского денди» Мишки Синичкина. Левой рукой Тим Тимыч как бы полуобнял Вадьку, который с напряженной задумчивостью, даже угрюмостью, всматривался в объектив, словно пытался увидеть в нем свою судьбу. Несмотря на старания Ефима Разгона, Кешке не удалось отрешиться от беспечности, и лицо его было, как всегда, иронично-улыбчивым. С Вадькой у него было общее только одно – и тот и другой пялились в аппарат, и тот и другой сложили руки на груди. В аппарат смотрел и Мишка, но более застенчиво, пожалуй, даже добродушно.
– Ну вот и родилась наша школьная фотография, – деловито сказал Кешка. – Сэру Тимченко вручи пакет сам. И тоже десять фотографий, а не девять, как я ему обещал. Никогда не поверю, что он не втюрится. Тоже мне, протопоп Аввакум!
– В сведению некоторых эрудитов, – со смехом сказал Вадька, радуясь, что хоть раз сумел подловить Кешку, – протопоп Аввакум был женат, страстно любил свою жену – протопопицу, звали ее Анастасия Марковна, и были у них дети. Анастасия Марковна слыла очень верной женой. Она, не задумываясь, пошла вслед за протопопом в ссылку, в Сибирь.
– Ты это серьезно? – растерянно удивился Кешка. – Ну, тогда – отец Сергий. Тот, чтобы не согрешить, палец себе оттяпал! Указательный!