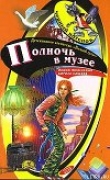Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Приободрив себя, Волобуев почти вылетел из пролетки, скорым шагом устремился к крыльцу, решительно взялся за ручку двери приемной, по-хозяйски рванув ее на себя, изобразил на припухшем круглом лице с темными обводьями вокруг глаз должную озабоченность.
Едва он переступил порог, на ходу застегивая непослушные пуговицы кителя, как Илья порывисто вышел из-за двери и тихо, чуть дрогнувшим голосом спросил:
– Полковник Волобуев?
– В чем дело, мумия ты моя египетская? – вскинул Волобуев красные от бессонницы и пьянок глаза, ища адъютанта. Однако тот был в кабинете у Врангеля.
– Дело в том, – не давая Волобуеву опомниться, быстро проговорил Илья, – что именем революции вы приговорены к смерти!
Он выхватил наган, который успел извлечь из урны, когда Врангель беседовал с адъютантом, и всадил три пули в грузное тело начальника контрразведки.
Волобуев, истошно вскрикнув, рухнул на пол. Илья вымахнул в открытое окно и задами, через дворы, помчался к окраине города. Он достиг уже перелеска, примыкавшего к последним дворам, надеясь скрыться в нем, как позади себя услышал погоню: то с гиканьем и свистом, стреляя на ходу, неслись вслед за ним на полевом галопе казаки из охраны Врангеля...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Крушинский любил афишные тумбы. В каждом объявлении – будь то афиша спектакля в городском театре, реклама бакалейного магазина или же частное объявление о продаже домика с вишневым садом и банькой во дворе, – таилась какая-то неразгаданная и потому манящая к себе жизнь со своими заботами, интересами и страстями.
Было время, когда Крушинского интересовало в афишах все подряд: фамилии актеров, занятых в той или иной роли, названия торговых компаний, описания происшествий, пропаж и находок. Он мог подолгу быть очарован красивой и звучной фамилией актрисы, и вдруг ее лицо постепенно возникало перед ним как бы в зыбком тумане – полное очарования и немой грусти; он пытался мысленно угадать ее жизненный путь в разные годы и рисовал в своем воображении портрет женщины, предназначенной, как ему казалось, лишь для одной роли: смягчать людские сердца, делать их добрее, нежнее и красивее.
Торговые объявления нравились Крушинскому своим деловым зазывным языком, за которым скрывались то какой-нибудь пройдоха, поднаторевший на обмане покупателей, то преуспевающий торговец, лихорадочно подсчитывающий по ночам свои барыши, то почуявший близкий крах и разорение купчик, проживающий остатки денег в кабаках.
И лишь люди, объявляющие о продаже своих домов, представали его воображению в одном и том же облике – растерянные, сломленные судьбой, принужденные горестно покидать насиженные гнезда и с отчаянием бросаться в омут неизвестности.
С большим трудом, рискуя быть схваченным, добравшись до Майкопа, куда и советовала ему ехать Анфиса, Крушинский исходил уже едва ли не весь город в поисках объявления о сдаче жилья. Как на грех, улицу и номер дома, которые назвала ему Анфиса, он начисто забыл, и никакие попытки напрячь память и восстановить в ней адрес ни к чему не привели.
И потому оставалось одно – снять угол у какой-нибудь хозяйки, соблазнив ее возможностью дешево приобрести картины, найти себе хотя бы временный приют, тем более что надвигалась осень, а за нею уже маячила и зима. Пока что Крушинскому негде было приклонить голову, и объявление о сдаче угла или комнаты было бы равнозначно спасению из того положения бездомного бродяги, в котором он сейчас находился.
Моросил дождь, нагоняя уныние и тоску. Крушинский брел по улице, опасаясь навлечь на себя внимание патрулей. Его тянуло к базару, где он надеялся добыть хоть что-нибудь из съестного. По правде говоря, он даже не представлял себе, как это сделать, ибо по природе своей был крайне застенчив, не приспособлен к крутым обстоятельствам и не умел обременять других людей какими-либо просьбами.
Блуждающий взгляд его вдруг скользнул по высокому, когда-то крашенному зеленой краской забору. На ржавом кривом гвозде слегка колыхался под каплями дождя мокрый клочок бумаги. Трудно понять, почему он вдруг заинтересовал Крушинского. Он приник к бумажке и с трудом разобрал несколько строк, написанных химическим карандашом, отчего буквы слиняли и расползлись: «Здается комната мусчине спокойного ндрава недорого и чтобы непьющий. Кривой переулок, 12, рядом с Госпитальной».
Крушинский несколько раз перечитал объявление, все еще не веря в его реальность. Госпитальная! Так это та самая улица, которую ему второпях назвала Анфиса! И вслед за этим озарением в памяти возникла цифра: тридцать семь! Ну конечно же, она так и сказала: «Госпитальная улица дом тридцать семь!»
Он едва не вскрикнул от радости. Скорее, скорее на Госпитальную, и если даже там никого не окажется или ему откажут в пристанище, у него в запасе есть еще и ставший таким бесценным неведомый прежде Кривой переулок. Спасибо ему уже и за то, что он не где-то в безвестном пространстве, а именно рядом с Госпитальной улицей. И как прекрасно, что он, Крушинский, как раз и не пьет и не курит, а значит, в точности соответствует требованию, которое содержалось в объявлении.
И тут неприятная мысль обожгла его: он же без паспорта! Паспорт изъяли еще тогда, когда пригнали на призывной пункт, а Волобуев так и не вернул его, видимо опасаясь, что художник может скрыться. Оставалось одно – сказать, что паспорт утерян, и попытаться разжалобить хозяев, чтобы те разрешили ему хотя бы переночевать.
У семенившей мимо старушки он спросил, как пройти на Госпитальную.
– Дак это, сынок, аж на том конце. Как от церкви свернешь налево, так прямо и прямо. И в нее самую упрешься.
Крушинский поблагодарил и, волнуясь, прибавил шагу. Когда он приближался к церкви, ударили в колокола. Сразу в нем ожило детство, набожная мать, деревенская церквушка с высокой, будто пытавшейся достать крестом до самого всевышнего, колокольней на крутом берегу Москвы-реки. Деревушку разметал смерч, а колокольня осталась стоять – торжествующе, гордо, будто старалась внушить людям, что она не подвластна никаким стихиям.
«Как давно это было, и было ли?» – печально подумал Крушинский.
Госпитальную улицу он нашел довольно быстро. Это была тихая, почти безлюдная улица на окраине города. Домишки, смотревшие маленькими окнами на выгон, были сплошь с палисадниками, в которых еще не увяли астры. Кое-где у заборов, как это бывает в станицах, стояли скамейки. Вымощенного булыжником тротуара, как в центре города, здесь не было, и потому не заезженная телегами улица заросла почти сплошь травой и бурьяном.
«Как здесь хорошо! – обрадовался Крушинский. – Прелесть этой улочки в том, что она стойко сопротивляется цивилизации. И даже в дождь здесь тепло сердцу».
Он медленно шел вдоль улицы, вглядываясь в номера домов. У многих из них были наглухо закрыты ставни, как это обычно бывает при отъезде хозяев или ночью, когда их закрывают, чтобы обезопасить себя от воров, или же в сильную жару, чтобы укрыться от палящего солнца.
На углу возвышался кособокий уличный фонарь. «Какая, должно быть, темнота царит здесь по ночам», – отметил Крушинский и подумал, что в его положении это как раз и подходит.
Наконец он дошел до дома с номером тридцать семь. «Значит, это здесь», – подумал Крушинский, и ему очень захотелось, чтобы случилось чудо и из дома, распахивая настежь старую калитку, выбежала ему навстречу запыхавшаяся, сияющая от счастья Анфиса.
Однако, судя по закрытым ставенкам, в доме никого не было. Сам же дом напоминал старую игрушку, о которой забыли и которую забросили за ненадобностью. Он грузно осел в землю одним боком, и крохотные его оконца были почти на уровне пояса Крушинского, как это бывает, когда человек останавливается возле полуподвального помещения. Побелка на фасаде и краска на ставенках сильно облупились, и казалось, что он изрыт темноватыми крупными оспинами. Черепица на крыше местами была разбита, местами плотно покрылась зеленоватым слоем мха, хотя сейчас, на тихом дожде, старалась казаться моложе, чем была на самом деле.
И все же домик сразу понравился Крушинскому. Он и сам не смог бы объяснить почему: может, тем, что от него веяло стариной, а наверное, прежде всего потому, что в нем жила Анфиса.
Крушинский не без колебаний взялся рукой за мокрую калитку, медленно открыл ее, посматривая на окошко, выходившее во двор и не запечатанное ставней, с надеждой, что в нем появится хоть одна живая душа. Но окно было безжизненно, и только герань краснела на подоконнике, как бы свидетельствуя о том, что жилье не покинуто людьми.
Дождь хотя и был тихим, а капли его будто просеивались через мельчайшее сито, Крушинский успел основательно вымокнуть. С пиджака и шляпы стекала вода.
Войдя в калитку, Крушинский осмотрелся вокруг. Двор был совсем крохотный, стиснутый соседскими заборами. Поодаль от тыльной стороны дома лежала груда бревен, сваленных здесь, видимо, еще в незапамятные времена, что было заметно по их почерневшему виду и по зарослям бурьяна вокруг. Дальше, к противоположному забору, шли рядком запущенные грядки, и трудно было понять, что растет на них; а еще дальше раскинули корявые ветви старые вишни.
Крушинский поднялся на крыльцо и осторожно постучал в дверь. Никто не отозвался, вокруг было все так же тихо, только дождь стучал по черепице и по лужицам, образовавшимся вокруг крыльца. Он постучал сильнее – молчание. Тогда Крушинский, отчаявшись, забарабанил в дверь кулаком.
– Кого черт принес? – раздался вдруг из глубины дома глухой раздраженный мужской голос.
– Выйдите, пожалуйста, на минутку, – просяще произнес Крушинский, теряя всякую надежду на отзывчивость хозяина.
В доме что-то глухо стукнуло.
– Проваливай, откуда пришел! – Ярость клокотала в голосе хозяина. – Сами нищие!
– Простите великодушно, – громче сказал Крушинский, решив не сдаваться, пока не выйдет хозяин, – но я вовсе не нищий.
– Так какого тебе дьявола надобно, если не нищий? – раздалось уже ближе, почти у самой двери.
– Этот адрес... – Крушинский немного раздумывал, говорить это ему или нет, и вдруг решился: – Этот адрес мне дала Анфиса Дятлова.
Ответом ему было долгое молчание. Он хотел было уже уйти и отправиться в Кривой переулок, как дверь распахнулась настежь и Крушинский увидел перед собой высокого (он наклонил плечи, чтобы рассмотреть Крушинского), чернобородого, похожего на цыгана человека, опиравшегося правой рукой о костыль. В первый момент Крушинский так и не понял, о чем говорит взгляд его пронзительных страдальческих глаз под густыми широкими бровями; в нем соединялись неприязнь к незнакомцу и острое, возбужденное любопытство.
Глядя друг на друга, они молчали, словно не зная, с чего начать разговор, которого опасались и тот и другой. Но первым не выдержал хозяин:
– Анфиса? Ты сказал – Анфиса?
Что-то мучительно-горькое было в том, как он произносил это имя.
– Совершенно верно, – ответил Крушинский. – Этот адрес дала мне Анфиса Дятлова.
– Проходи. – Теперь в голосе хозяина прозвучала жалость, обращенная непонятно к кому – то ли к Крушинокому, то ли к самому себе. – Я сейчас печь растоплю, одежу тебе просушить надо.
Он первый прошел в горницу. Крушинский перешагнул порог вслед за ним. Там стоял полумрак, лишь сквозь щели в ставнях струился слабый свет.
– Садись, – кивнул хозяин на табуретку, встряхивая гривой иссиня-черных курчавых волос.
Крушинский сел. Хозяин открыл железную дверцу печи, кинул несколько полешек дров на еще не совсем погасшие угли.
– Разгорится сейчас. Ранняя осень ноне, – словно оправдываясь за погоду, сказал хозяин.
По его лицу, выражавшему нетерпение, было видно, как он жаждет, что пришелец заговорит. Но Крушинский предпочел, чтобы он сам задавал ему вопросы.
– И где ж ты встревался с ней? – осторожно, будто невзначай, с трудом выдавил вопрос хозяин.
– Простите, но с кем я имею честь? – поинтересовался Крушинский. В самом деле, не может же он открывать душу первому встречному.
– А ты кто такой? Каким ветром занесло?
– Моя фамилия – Крушинский. Зовут Ратмиром. По профессии художник.
– Сам майкопский?
– Нет, здесь я впервые. Я москвич.
– Чего ж тебя черт-те куда занесло?
– Очень просто. Революция. Гражданская война. Красные и белые. Смерч.
– Смерч? – переспросил недоуменно хозяин.
Крушинский кивнул.
– На фронте воевал? – строго спросил хозяин.
– Практически нет. Хотя и был мобилизован. А почему вас это интересует?
– Время такое. Откель я знаю, что ты за человек?
– Так и я о вас абсолютно не осведомлен. Кроме того, я уже представился, а сам даже вашего имени не знаю, – с обидой проговорил Крушинский.
– Вот ты говоришь – мобилизовали. А куда?
– В дивизию Врангеля.
– Вон оно как... – мрачно изрек хозяин и, надолго замолчав, занялся печью.
– Но я не принимал участия в боях. Меня заставили портреты рисовать, – надеясь развеять подозрения хозяина, сказал Крушинский.
Хозяин, стоявший на коленях возле печки, не поворачивая к нему головы, спросил сдавленным, дрогнувшим голосом:
– Выходит, там и Анфису видал?
– Мы с вами явно в неравном положении, – воспротивился отвечать на этот вопрос Крушинский. – Скажите хоть, кто вы, как вас зовут.
– Какая разница кто? Дятлов я. А зовут Тимофей, по батюшке Евлампиевич. А только ты раз зачал говорить, так и договаривай. Твоя сабля – моя голова.
– Так вы тот самый? Анфиса часто ваше имя вспоминала: Тимоша да Тимоша.
Тимофей рывком встал с пола, схватил костыль и стоял, гневно глядя на Крушинского, как будто тот и был главным виновником его горя.
– «Тимоша», говоришь? А сама – с поручиками по бульварам? Это как?
Крушинокий тоже встал – порывисто, нервно, как бы и этим хотел выразить свое несогласие с ним и неприятие тех слов, которые он выпалил с неприкрытой злобой.
– Как вы не правы! Я знаю Анфису. Она не из таких, поверьте мне!
– А из каких?
– Она чистая, верная. Если бы вы только могли представить, сколько мук и страданий выпало на ее долю!
– А кто ее туда силком пихал? Что сама накрошила, то пусть и хлебает.
– Нет, нет, истина не на вашей стороне. Так сложились обстоятельства. А обстоятельства бывают выше наших желаний. Вы – счастливый человек, если у вас такая жена!
Тимофей хмыкнул, глядя на Крушинского как на блаженного.
– Баба, она и есть баба, – мрачно изрек он. – Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет.
– Как вы можете так говорить о женщинах? – запинаясь, горячо возразил Крушинский. – Их нужно понимать. Все беды оттого, что мы их не понимаем. Женщина выше нас, сердечнее, чище, мудрее. Нет, что там, она выше всего земного! Пока мужчины не научатся ее понимать и ценить, они не испытают истинного счастья.
– Мудрено гутаришь, – усмехнулся Тимофей, зыркнув глазами. – А как быть, ежели она не баба, а сатана в юбке? Тогда как?
– Нет! – со всей страстью воскликнул Крушинский. – Вы говорите совсем не то, что думаете. Наша жестокость, самовлюбленность, вера в свою непогрешимость – вот что приводит к заблуждению. Женщина не может быть сатаной. Вы посмотрите, как позаботилась о ней природа. Женщина – средоточие земной красоты. И это вовсе не случайно, это ее высшее предназначение – излучать красоту. А красота и злодейство несовместимы.
– Ладно, – махнул рукой Тимофей, чувствуя, что Крушинского ему не переговорить. – Ты небось голодный как волк? Я тоже еще сегодня не жрал. А соловья баснями не кормят. Пойдем на кухню, поедим чего.
– Неудобно, право, – поежился Крушинский.
– Неудобно голому в крапиву садиться, – хмуро пошутил Тимофей.
На кухне было светло, и Крушинский невольно зажмурил глаза, а когда открыл их, увидел, что дождь за окном шел на убыль и откуда-то из-за края тучи проглянуло солнце. Пока Тимофей, поставив чугунок на стол, разливал в миски кулеш с пшеном, Крушинский с интересом разглядывал его. Черная борода делала Тимофея старше своих лет, но придавала ему мужественности. Нос был по-орлиному крут, в глазах будто тлели угольки. «Да, у Анфисы хороший вкус», – подумал Крушинский и вдруг со щемящей болью осознал ту горечь разлуки, какая, наверное, терзала сейчас сердце Тимофея, и свою полную беспомощность в том, чтобы изменить ход событий и повернуть к лучшему судьбу этих двух разъединенных смерчем войны людей.
– Вот ты тут о красоте гутарил, – неожиданно заговорил Тимофей, нехотя хлебая деревянной ложкой суп. – А то не знаешь, что они своей красотой одно замышляют – как бы нашего брата мужика до себя приманить, а потом вволюшку над нами же и поизгаляться. Ихняя красота нам завсегда боком выходит.
– Нет, нет, вы глубоко заблуждаетесь, – запричитал Крушинский. – Красота искренна. Она требует ответного восторга, ласки, нежности, обожания.
– Брехня! Отчего мужик дешев? Оттого что глуп.
– Мы сами превратили женщину в зверя. Она вынуждена защищаться, ловчить, хитрить, лгать. Но придет время – люди станут другими – чистыми, прекрасными, добрыми.
– Поешь ты, как тот соловей, – недобро усмехнулся Тимофей. – А только бабу мы на свою колодку не перетянем. Ежели она потаскуха, так до конца жизни потаскуха.
Крушинский почувствовал, что эти слова поранили ему душу.
– Анфиса ваша не такая! – с возмущением выкрикнул он. – Как вы смеете произносить такое! Разве она виновата, что мы все попали в смерч? Война уродует женщину, убивает ее. А убивать женщину – значит убивать будущее.
Тимофей отодвинул миску, положил на край ее ложку.
– Чего об этом гутарить? – уже мягче сказал он. – Все одно не договоримся. Твои слова как святым кулаком да по окаянной шее. Ты лучше скажи, как ты сюда попал и чего шукаешь.
И Крушинский поведал ему всю историю своей жизни и своих бесконечных скитаний. Солнце, вырвавшееся из-за туч, уже клонилось к закату, а он все говорил и говорил, словно от его исповеди перед Тимофеем зависела вся его оставшаяся жизнь.
– Ясно и понятно, – коротко подвел итог Тимофей. – Оно ведь в жизни как? Какова балалайка, такова и пляска. Выше себя не прыгнешь. И раз так, оставайся у меня. Вдвоем оно сподручнее.
– Спасибо, – растроганно произнес Крушинский. – Вы – мой спаситель, этого я никогда не забуду!
– Да чего там! А с портретом ты это здорово придумал.
– Не я один. Если бы не Анфиса...
– Да ладно! Тебе лишь бы ее передо мной оправдать...
– Но я же совершенно искренне, честно!
Тимофей молчал, глядя куда-то в одну точку.
– А вы так и живете один? – спросил Крушинский.
– Есть тут еще одна девчонка, – нехотя ответил Тимофей. – Аришка. Она к бабке в станицу подалась. За харчами. Да вот третий день как ушла и доселе не вернулась.
– Не случилось ли что? – забеспокоился Крушинский.
– Чего сразу паникуешь? Куды денется? Прыткая она! А ты оставайся. А то закукуешь, как та кукушка, у которой своего гнезда нет.
– Но я должен вам честно признаться, что я без паспорта.
Тимофей почесал затылок.
– Это, конешно, хужей. Ну да, как мой дед говорил, не жаль спины, а жаль дубины. Перебьемся как-нибудь. Ноне таких, как ты, мильон с хвостиком. А за то, что про Анфису рассказал, благодарствую.
Так и остался Крушинский у Дятлова. Подружилсся с вернувшейся из станицы Аришей. Ему сразу понравилась эта смышленая, ловкая, не по годам развитая девочка. Без дела он не сидел – вместе с Тимофеем нанимался копать картошку на огородах, подряжался грузчиком на товарной станции, работал на лесопилке. Тем и кормились.
Крушинского мучила бессонница. Он засыпал на короткое время, стонал, когда во сне мерещилась всякая чертовщина, снова пробуждался и после этого уже долго не мог заснуть. Тимофей спал крепко, но и он порой кричал среди ночи, словно стоял посреди степи:
– Анфиса!
– Что, дядя Тимофей? – спросонья испуганно спрашивала его Ариша. – Только я не Анфиса, я – Ариша...
– Ну, ладно, Ариша! – Тимофей злился на самого себя. – Разница какая? Одна сатана! Хочешь, женюсь на тебе?
– Не надо на мне жениться, дяденька Тимофей! Я вам и так помогать буду. Когда постираю, когда борщ сварю. А то полы помою... Нешто я убегу от вас?
– А подрастешь – к молодому переметнешься. Знаем мы вас как облупленных.
– В жисть от вас не сбегу!
– Слыхали... Хорошо ты баюкаешь, да сон не берет. А спохватишься – тебя и след простыл.
– А куда мне бежать? Одна надежа на вас.
Крушинский прислушивался невольно к этому странному разговору, то удивляясь его откровенности, то опасаясь за Аришу. «А в самом-то деле, каково ей одной жить среди двух мужчин? И вырасти она не выросла, и подросла уже до той черты, когда недалеко и до греха. А Тимофей, ожесточенный на Анфису, уже и о женитьбе заговорил». И Крушинский решил не давать Аришу в обиду, попытаться образумить Тимофея, если тот сойдет с тормозов.
Оказалось, однако, что его вмешательства не потребовалось. Тимофей относился к Арише бережно, как к дочке, не позволял делать тяжелую работу, оставлял лучшие куски, чтобы не отощала. Была Ариша трудолюбивой как пчелка, приспосабливалась к любым, самым тяжким условиям и никогда не роптала. Она и минуты не сидела без дела, и все ей было с руки: она и шила, и вышивала, и готовила обед, и колола дрова, как будто ее с малых лет учили всему этому.
Шли дни за днями, как вдруг произошло неожиданное, враз повернувшее ход событий в совершенно противоположном направлении.
Ветреной ночью, когда с мрачного, тяжелого неба стал срываться первый снежок, а в доме благодаря стараниям Ариши в печке весело трещал хворост, кто-то с улицы боязливо дотронулся до ставни.
– Стучат... – сразу же встрепенулась Ариша.
– Ветер никак не перебесится, – сонно отозвался Тимофей.
Крушинский уже крепко спал и не слышал того, что произошло дальше. Через несколько минут сквозь завывания ветра послышался теперь уже отчетливый стук в ставню.
– Кому там не спится? – сердито сказал Тимофей, нехотя слезая с кушетки.
Он прихватил костыль и пошел к входной двери, светя перед собой коптилкой.
– Кто там? – громко спросил Тимофей.
Никто не ответил на его вопрос.
– В молчанку играть будем или как? – разозлился Тимофей. – Кто там стукотит, я спрашиваю!
И вдруг совсем рядом, прорываясь сквозь завывание ветра, жалобно прозвучал голос, который Тимофей узнал бы и в свой последний час:
– Я это, Тимоша... Я, Анфиса...
Тимофей рывком отбросил засов, распахнул дверь. Ворвавшийся в коридор ветер задул ночник, и он не видел, а лишь чувствовал, как через порог шагнула женщина, закутанная платком, с которого на Тимофея, стоявшего в исподнем белье, сыпануло мокрым снегом. Женщина кинулась к нему, будто хорошо видела его в темноте, обхватила сильными холодными руками, и Тимофей ощутил на груди ее трясущуюся голову и капли влаги – то ли слезы, то ли тающие снежинки.
– Погоди, погоди, – неловко проговорил он, ошеломленный встречей. – Еще застудишь меня.
– И правда, застужу, – опомнилась Анфиса, отшатываясь от него.
– Пойдем, пойдем, – торопливо позвал он, словно боялся, что она как внезапно появилась, так же внезапно и исчезнет в снежной тьме.
Они вошли в комнату, Тимофей подцепил из печки уголек, зажег фитиль. Коптилка неярко засветилась. Он поднес крохотное дрожащее пламя к самому лицу Анфисы, как бы желая удостовериться, что это именно она, а не какой-то другой человек. Но то была она! Она часто дышала ему в лицо, запыхавшаяся, счастливая, разгоряченная долгой ходьбой и легким морозцем.
– Ты?! – вскрикнул Тимофей.
– Живой! – опустошенно и потерянно сказала Анфиса и, качнувшись, опустилась на табуретку.
– Живой, куды я денусь, – приходя в себя, сказал Тимофей. – Да вот гляжу, и ты живая.
Анфиса всмотрелась в него, пытаясь по глазам прочитать его мысли.
– Не рад мне, Тимоша? – удивилась она.
Тимофей помолчал, потом ответил спокойно и вроде бы равнодушно:
– Рад – не рад, какая в том разница.
– Чует мое сердце, что не рад, – испуганно проговорила Анфиса и, бросившись к Тимофею, крепко обхватила его руками, прижалась всем телом.
– Чего об этом зря гутарить? – отвел взгляд Тимофей.
– Любый мой! – задыхаясь от нежности, прошептала Анфиса. – И где я только тебя не шукала... Не верю, что нашла...
– Шукала, да не там, где надо, – еще сильнее нахмурился Тимофей. – Когда хорошо шукают, так находят.
– Так все одно, нашла же, – жалобно сказала Анфиса. – Только не верю я, Тимоша, в свое счастье, убей меня, не верю. Неужто это ты?
Тимофей сел на кушетку, отчужденно отвернулся от Анфисы, будто ее и не было рядом.
– Ну хорошо, откроюсь тебе чуток. Только побожись, что никому ни единого моего словечка не перескажешь.
– Еще чего – божиться! – фыркнул Тимофей. – Ясное дело, никому не скажу.
Анфиса долго молчала, не зная, как ей начать. И наконец решилась.
– Красные меня к белякам послали, Тимоша. Можешь ты это понять? И там я что мне велели красные, то и сполняла.
Тимофей рывком обернулся к ней.
– И долго ты думала, как бы поскладнее сбрехать?
– Не веришь? – вскрикнула Анфиса.
– А как докажешь?
– Как же я тебе докажу, Тимоша? Только своей чистой душой.
– Ладно, спи, – коротко бросил он. – Утром поговорим. А за красных ты не прячься, у меня свидетели есть...
Он лег, устроился поудобнее и вскоре захрапел.
Анфиса лежала на краешке кушетки безмолвная, потерянная. Разве такой представляла она себе их встречу?
Полная дурных предчувствий, она задавала себе вопросы, не находя на них ответа. Что случилось с Тимошей? Может, у него другая женщина? Или кто-то наговорил на нее? Да и как ей теперь отвечать на вопросы Тимофея? Она то вдруг решалась открыться ему во всем, рассказать и о Шорникове, и об Илье, и о том, какие задания она получала от них и какие сведения передавала. И даже о Ксении. Но тут же обрывала себя, внушая, что не имеет на это права, недаром же Шорников не раз так строго предупреждал ее о сохранении тайны. Да и поверит ли он ей, даже если она ему во всем откроется? Ведь не может она ему доказать.
– Тимоша... – жалобно позвала она.
Но он захрапел сильнее, и Анфиса почувствовала, что он притворяется, не спит.
– Тимоша... – снова прошептала она. – Я же только на одну ночку... Сбежала я... Нельзя мне тут долго... Дознаются, и тебя погублю...
Тимофей не отвечал. Может, и в самом деле заснул. И она затихла, закрыла глаза...
Едва забрезжил рассвет, как Тимофей выметнулся из постели. Оделся, не глядя на Анфису, шагнул к двери, опираясь на костыль.
– Пораненный ты? – охнула Анфиса.
– А то не видишь! – грубо отрезал он.
– Да куда ж ты?
– Зараз возвернусь.
Он подошел к окнам, вытащил щеколды из запоров, отправился на улицу. Рывком пооткрывал ставни. За окнами, слегка припорошенный снегом, под низким чужим небом лежал просторный и тоже словно чужой выгон.
Тимофей вернулся в комнату с какой-то отчетливо видной по его лицу странной решимостью. Анфиса уже успела одеться и покорно сидела на кушетке, словно ожидая приговора.
– Гутарить будем при свете, – многозначительно заявил Тимофей. – Так, чтобы я глаза твои хорошо видел – остался в них стыд или весь испарился.
– Об чем ты, Тимоша?
– А то не знаешь об чем. Скажи, какая непонятливая!
– Ну и чем же я перед тобой провинилась, Тимоша, что ты уже и пожалковал, что приголубил меня?
Тимофей с неприкрытой усмешкой окинул ее с ног до головы, как бы говоря презрительно: «И чего придуряешься?»
– А вот это разговор длинный, – враз закипая ненавистью, накопившейся за долгое время разлуки, предупредил Тимофей. – А ежели ты торопишься к своим разлюбезным поручикам и прочему офицерью, так я могу и короче.
Анфиса враз сникла, румянец на щеках поблек, и она как-то сразу состарилась. Значит, уже наговорили ему, нашептали в уши, потому он и такой, совсем не похожий на ее Тимошу.
– Ясное дело, – обреченно промолвила она. – Только я ни в чем перед тобой не виноватая.
– А это мы еще посмотрим, – угрожающе произнес Тимофей. Смущение и настороженность Анфисы еще больше озлобили его. Значит, и впрямь вину за собой чует, значит, не зря Прокофий рассказывал, как она с поручиком по бульварам шастала. – А только я тебе сразу скажу: умела грешить, умей и покаяться. А еще, как моя покойная бабка говорила, каков грех, такова и расправа.
– Не виноватая я, – твердила Анфиса, глядя ему прямо в глаза.
– И не стыдно вот так на меня пялиться? – возмущенно спросил он. – Ты лучше скажи, как у белых оказалась и как там свое времечко веселое проводила.
Анфиса смотрела на него жалобно, будто молила пощадить.
– А вот этого, Тимоша, я тебе не могу рассказать, хоть убей меня на этом месте.
Тимофей от ярости вскочил на ноги, хотел ударить ее наотмашь, но с трудом сдержался.
– Это как же понимать? – Голос его охрип, он уже не владел собой. – Единокровному, можно сказать, мужу? Да какие такие секретные дела ты там крутила, окромя бесстыжего твоего распутства, чтобы в энти дела мужа своего не допущать? Это как же понимать, – распалял он себя все сильнее, – распрекрасная ты моя супружница, каковая обязана верность мужу блюсти до самой своей смертушки? Я што, беляк? Или гидра какая?
– Не беляк ты, Тимоша, красный конник ты, – пытаясь вложить в эти слова всю искренность своей души, заговорила Анфиса. – И я тоже красная, ты не думай. А только не могу, казни ты меня, режь, сожги в печи огненной, – не могу, не имею таких правов...
Тимофей в гневе отшвырнул костыль.
– Понятненько... Вполне ясный вопрос, в каких делах бабы своим мужикам не признаются. А если ты красная, так у красных бы и воевала, а то у беляков развлекалась!
– Как же ты... – едва не задохнулась она от обиды и, вскочив с кушетки, принялась поспешно натягивать на себя пальто.
– Сбечь от меня хочешь? – не помня себя, взвился Тимофей. – От поручиков небось не бегала? С белым офицерьем, заклятым врагом нашим, на пуховых перинах тешилась, так от кушетки нос воротишь? Убью!
Анфиса, дрожа от страха и горя, подскочила к дверям. Тимофей выхватил из-под матраца наган, рванулся вслед за ней.
– Все одно убью, паскуда!
Анфиса остановилась на пороге, гордо подняла голову, сокрушенно сказала немыми губами:
– И такого дурака я любила...
Слезы выступили на ее потухших глазах, и она выбежала на улицу. Тимофей помчался следом. Улица еще была безлюдна, где-то во дворах в последний раз проголосили третьи петухи.
– Стой, не уходи! Не уходи, говорю! – крикнул Тимофей.
Он не видел, что позади него уже стояли встревоженные и растерянные Крушинский и Ариша. Анфиса скорой, неверной походкой удалялась в конец улицы, оставляя на снегу отпечатки маленьких ног.
– Убью! – снова страшным голосом взревел Тимофей, нажимая на спуск.
Крушинский кулаком саданул по его плечу. Грохнул выстрел. Анфиса оглянулась, осуждающе покачала головой, крикнула не своим, срывающимся голосом:
– Эх ты, стрелять не умеешь!
Тимофей помчался за ней, как разъяренный бык.
– Не подходи! – как на самого лютого врага, вскрикнула Анфиса, и было в этом крике столько презрения и гнева, что Тимофей остановился, точно споткнувшись о невидимую преграду.