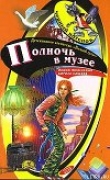Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Однако никакого чуда не происходило, и, понимая это, Резников, поостыв, спросил:
– Кто стрелял по самолету?
– Товарищ капитан, назвать фамилию виновника я еще не готов.
– Почему?
– Доклада с границы пока не поступало. По приказанию начальника отряда я срочно выехал в ваше распоряжение...
– В ваше распоряжение... – почти передразнил Резников. – Мне нужны не вы, а ваш доклад о причинах нарушения приказа и о виновниках этого происшествия.
– Ясно, товарищ капитан! – багровея от обиды, все так же четко проговорил Коростелев. – Хотя я еще не уверен, что самолет сбит бойцами моей заставы.
– Он не уверен! – с удивлением, в котором сквозила грозная ирония, воспроизвел слова Коростелева капитан. – Он не уверен! – Это он произнес, обращаясь уже не к Коростелеву, а к подошедшим командирам. – Он не уверен, что самолет сбит, обломки пред нами, и между прочим, в тылу участка вашей заставы, товарищ старший лейтенант!
Коростелев угрюмо и сокрушенно молчал. Резников обернулся и подал знак рукой бойцам, приехавшим вслед за ним из отряда:
– Осмотреть место происшествия! Максимально!
Бойцы приблизились к останкам самолета, осторожно обходя места, где еще из-под обломков вырывалось тихое, затухающее пламя.
Резников терпеливо ждал результатов осмотра. Вскоре к нему подбежал рослый запыхавшийся старшина.
– Товарищ капитан! Обнаружены два немецких летчика. Один мертвый, весь обгорел. А второй еще жив.
– Оказать первую помощь, – коротко приказал капитан. – И немедленно в машину и – в госпиталь.
Старшина поспешил выполнить приказ.
Резников стоял все так же недвижимо и невозмутимо смотрел, как бойцы пронесли мимо него на брезенте немецкого летчика. С головы пилота наполовину сполз шлем, обнажая удлиненную, с ранними залысинами голову и шрам на лбу с запекшейся кровью.
– Машину вернуть на заставу Коростелева! – бросил им вслед капитан. – Мне – коня! – Резников как бы выстреливал короткие, звучные фразы. – Вы – со мной, – на мгновение обернулся он к Коростелеву. – Встреча с немецким погранкомиссаром в тринадцать ноль-ноль. Максимально! Составить акт! – Теперь уже Резников отдал распоряжение сопровождавшим его командирам.
Резникову подвели коня Коростелева, старший лейтенант сел на коня Онипко, и они, с места взяв галоп, поскакали на заставу. За всю дорогу ни Резников, ни Коростелев не произнесли ни слова.
У ворот заставы их встретил дежурный. Поодаль от него, неловко переминаясь с ноги на ногу, стоял Тим Тимыч, сменившийся с наряда.
– Выяснили, кто стрелял? – негромко спросил у дежурного Коростелев, едва тот закончил свой рапорт Резникову.
– Выяснить не удалось, товарищ старший лейтенант, – виновато ответил дежурный. – Ни один наряд, находившийся на участке заставы в это время, огня не открывал.
– Выходит, сам упал, – мрачно констатировал Резников. – Ну и цирк у вас, старший лейтенант. Выясните вы, в конце концов, кто стрелял? – Тон, каким задал этот вопрос Резников, красноречиво говорил о том, что он окончательно потерял терпение.
– Я стрелял, товарищ капитан! – громко и смело, будто сообщая о победе, воскликнул Тим Тимыч.
– Вы? – не веря тому, что слышит, уставился на Тим Тимыча Резников.
– Так точно, я, боец Тимченко! – четко, строевым шагом приблизился к капитану Тим Тимыч и столь же четко приложил ладонь к фуражке, отдавая честь.
– И как же вы его сбили, боец Тимченко? – в упор рассматривая худощавое лицо Тим Тимыча, спросил Резников.
– Из закрепленной за мной винтовки, товарищ капитан! – с воодушевлением и готовностью ответил Тим Тимыч. – Винтовка номер одна тысяча семьсот тридцать три!
– Одна тысяча семьсот тридцать три... – как бы в лирическом раздумье повторил капитан, и Коростелев, зная его характер, чувствовал, что вслед за этой лирикой неминуемо последует взрыв.
Однако на этот раз взрыва не произошло. Резникова, казалось, парализовала нагловатая смелость бойца Тимченко.
– Значит, из винтовки... Максимально... – не находя в себе сил выйти из глубокой задумчивости, протянул Резников. – А ты, случаем, не брешешь, боец Тимченко? – совсем не по-уставному спросил капитан и даже сам удивился, что от всегдашней официальной манеры разговора и с подчиненными, и с вышестоящими начальниками он перешел почти на панибратское фамильярничанье, которого не терпел.
– Факт выстрела может подтвердить сержант Твердохлебов! – выпалил Тим Тимыч, оборачиваясь и нетерпеливым жестом призывая стоявшего у крыльца сержанта засвидетельствовать его признание.
– Ну, кто был прав тогда, на учениях, старший лейтенант? – Резников просиял столь победоносно, будто ему только что вручили по меньшей мере ценный подарок. – Кто доказывал, что винтовкой можно сбить самолет?
– Вы, товарищ капитан! – надеясь, что гроза миновала, поспешил ответить Коростелев.
– А кто настаивал на том, что это невозможно?
– Начальник отряда майор Звягинцев! – почти услужливо ввернул Коростелев.
– То-то же! Максимально! – удовлетворенно произнес Резников, и в тот же миг его торжественно-хмурое лицо вновь будто застыло и глаза льдисто похолодели. – А вам, боец Тимченко, известен приказ...
– Так точно, товарищ капитан, известен! – не дождавшись, когда Резников закончит фразу, отбарабанил Тим Тимыч.
– В таком случае чему вы столь бурно радуетесь, боец Тимченко? – грозно спросил Резников. – Не думаете ли вы, что я незамедлительно вручу вам медаль «За отвагу»?
– Не думаю, товарищ капитан!
– Так почему вы нарушили приказ?
– Немецкий военный самолет нарушил государственную границу Союза Советских Социалистических Республик, – почти торжественно ответил Тим Тимыч. – И я поступил с ним так, как положено поступать с нарушителем!
– Значит, вы сознательно нарушили приказ?
– Не в этом дело...
– Так, понятно. За эту «сознательность» объявляю вам, боец Тимченко, десять суток ареста. Для начала, на период следствия. А затем не исключено, что вы пойдете под трибунал. Максимально!
– Есть, пойти под трибунал, товарищ капитан! – Голос Тим Тимыча стал звонким.
– Смотрите, какой герой! – вконец разгневался Резников. – Ничего себе, дисциплинка на заставе, – скосил он бесцветные, холодные глаза на Коростелева и, лихо щелкнув по голенищу сапога ивовым прутом, пошел к крыльцу.
Твердохлебов поспешно подскочил к Тим Тимычу и горячо, спотыкаясь от своего бессилия, проговорил ему прямо в ухо:
– Ну и дурень ты, ну и бестолковщина! Обещал же тебе, что не доложу! Мало ли отчего эта птичка гробанулась? Может, у летчика шарики в башке перемешались? А может, немецкий рабочий класс сработал? А ты: «Я сбил!» Из-за тебя и мне суток пять припаяют.
– А я могу твои пять суток к своим приплюсовать, – продолжал храбриться Тим Тимыч. – Какая разница? А только пусть зарубят у себя на носу: советская граница им не позволит...
Чего не позволит немцам советская граница, Тим Тимыч произнести не успел, так как запыхавшийся дежурный по заставе потребовал его к капитану Резникову.
– Вот что, боец Тимченко, – хмуро, не глядя на него, сказал капитан, – поедете со мной на переговоры с немецким погранкомиссаром. Но без моего разрешения не мурлыкать. Ни единого слова, понятно?
– Понятно, товарищ капитан! – отчеканил Тим Тимыч, пытаясь сообразить, для какой цели капитан решил взять его с собой.
– Готовность – к двенадцати тридцати, – добавил капитан уже менее сурово. – Пообедайте, ибо приема с коньяком и лимончиком не предвидится. Максимально.
Тим Тимыч, получив разрешение, отправился на кухню. Заставский повар Ковальчук моментально поставил перед ним миску густых щей с большим куском свинины. Это была мозговая кость – то, что обожал Тим Тимыч. В этом благородном жесте повара он сразу же уловил искреннее сочувствие. Вести на заставе разносятся с быстротой майской молнии, и Тим Тимыч понял, что повар уже в курсе событий и той кары, которая обрушилась на него. Столь явной щедрости от повара Тим Тимыч прежде не удостаивался, даже когда после ночного наряда просил добавки.
– Подкрепляйся, – милостиво сказал Ковальчук, с нескрываемой завистью глядя на Тим Тимыча. – Будь моя воля, я бы тебя к ордену представил. Ишь, разлетались, и граница им нипочем. – Ковальчук присел к столу, за которым ел Тим Тимыч, и доверительно присовокупил: – Как на губу поедешь, загляни ко мне. Я тебе сала из своего энзе припасу, понял? А то ведь там не курорт, одни сухарики да водичка.
Тим Тимыч благодарно кивнул, есть ему не хотелось вовсе, но он ел, чтобы повар не подумал, что он переживает из-за сбитого самолета и из-за предстоящего водворения на гауптвахту. Даже на гильотину надо идти весело и гордо, внушал себе Тим Тимыч.
К двенадцати ноль-ноль на заставу вернулась машина капитана Резникова. Штабист, приехавший на ней, был хмур и озабочен, сразу же направился в канцелярию и, уединившись с Резниковым, доложил, что тяжело раненный немецкий летчик еще по дороге в госпиталь скончался. Капитана это сообщение еще более расстроило, и он, то и дело поглядывая на часы, сердито слушал подробности, считая, что теперь они абсолютно несущественны и что на предстоящих переговорах все козыри будут в руках у немецкого погранкомиссара.
– Пора, – скупо произнес он. – Мы должны прибыть к месту встречи минута в минуту. Максимально. Немцы дьявольски пунктуальны.
Он хотел добавить, что пунктуальности как раз не хватает русским и что всегда, когда нужно поспеть вовремя, обязательно случится что-либо непредвиденное и пакостное: то спустит проколотый скат, то в дорожной хляби забуксует машина, а то и ненароком кончится бензин.
На встречу с немецким погранкомиссаром выехали вчетвером: капитан Резников, штабист со странной фамилией Перебейнос, Коростелев и Тим Тимыч. Каждый из них, сидя в тесной машине и глядя на мелькавшие по обе стороны деревья, думал о своем. Капитан Резников пытался предвосхитить, как будут вести себя немцы и как им доказать, что пограничный отряд не несет ответственности за самолет и что ответственность за нарушение границы должна взять на себя немецкая сторона. Доказать все это до марта сорокового года было значительно проще, но сейчас на календаре уже начал отстукивать свои дни июнь сорок первого, и все давно стало иным. Главное заключалось в том, чтобы в любой, пусть самой немыслимой, ситуации не поддаваться на провокации, то примитивные, то изощренные, на которые немцы были большие специалисты. Резников вел учет этих провокаций, с упрямой пунктуальностью записывая все подробности. Но если бы из этих записей сделать выборку, обозначив лишь суть провокаций, то один их перечень занял бы, наверное, целую общую тетрадь.
Чего тут только не было! Срезан ножом угол пограничного столба номер 115... Пограничный наряд шестой заставы обстрелян с немецкой стороны из пулемета трассирующими пулями... На участке погранотряда нарушили границу три германских бомбардировщика... Столкновение пограничного наряда третьей заставы с группой вооруженных нарушителей в составе восьми человек... Продолжается передвижение германских войск вдоль границы... Продолжается отселение местных жителей из приграничных районов. Оставленные жителями постройки занимаются немецкими войсками... В местечке на сопредельной территории расположился механизированный полк... На приграничную станцию прибыл эшелон с танками... На аэродроме сопредельной стороны отмечено до сотни самолетов... Во многих пунктах вблизи границы у реки сосредоточены понтоны и надувные лодки... В мае на участке отряда задержано 120 нарушителей – в три раза больше, чем за период с января по апрель, а за первую неделю мая – 82 нарушителя, причем нарушители снабжены приемно-передающими радиостанциями, оружием и гранатами... На сопредельной стороне германская пехота отрабатывает гранатометание из окопов и стрельбу из минометов... В село на сопредельной стороне прибыло до двух полков гаубичной артиллерии на конной тяге...
Машину то и дело встряхивало на ухабах и корневищах деревьев втянувшейся в лес дороги, и капитан Резников невесело перебирал в памяти эти записи. Будучи разрозненными по времени, они выглядели не столь угрожающими, но стоило их спрессовать воедино в пределах небольшого пространства, как они начинали ударять в мозг набатным колоколом. Против многих записей значилось: заявлен протест, заявлен протест, заявлен протест, – но немцы столь же упрямо и педантично продолжали нарушать границу и нагло игнорировать наши требования.
«Да... – размышлял Резников. – Начали они с того, что портили пограничные столбы, а завершают тем, что приготовились к броску на нашу землю».
По сравнению со всем этим самолет, сбитый упрямым и своенравным бойцом Тимченко, казался пустяком, но Резников, понимая это, все же вынужден был подвергнуть аресту с содержанием на гауптвахте нарушителя приказа, дать всему делу серьезный ход. Этим самым он хотел упредить более строгую кару, которая могла бы низвергнуться на бойца Тимченко сверху, и уберечь парня, который, хотя Резников и не показывал этого, пришелся ему по душе своей прямотой и смелостью.
Направляясь на встречу с немецким погранкомиссаром, Резников был заранее уверен, что она не принесет никаких результатов – в том смысле, что немцы как летали через нашу границу, так и будут летать, и летать еще более нагло и чаще. Резников понимал, что точно так же, как и во взаимоотношениях между двумя людьми, когда зарывается и наглеет один из них, крайне важно вовремя осадить наглеца и поставить его на место решительными, смелыми действиями, вплоть до применения силы, иначе наглость неизбежно перейдет все допустимые пределы, так и во взаимоотношениях между двумя государствами бесполезно ограничиваться одними увещеваниями и призывами к благоразумию, если они оказываются совершенно бесплодными. Однако постоянное и ставшее уже неизменным требование не поддаваться на провокации уже настолько прочно и всесильно овладело Резниковым, что определяло все его действия в любых передрягах. И сейчас он, внутренне радуясь, что самолет-нарушитель получил то, что должен был получить, видел в бойце Тимченко человека, который вполне мог спровоцировать если не нападение немцев, то хотя бы их ноту протеста, направленную по дипломатическим каналам, а то и с публикацией в прессе.
Домик, в котором проходили встречи погранкомиссаров, стоял на опушке леса, обращенной к реке, по которой проходила граница. Прежде этот домик занимал лесничий. Резников очень любил лес и, как заядлый охотник, всегда водил дружбу с егерями. Но с тех пор как он чуть ли не изо дня в день вынужден был приезжать на встречу с немецким погранкомиссаром, чтобы заявить очередной протест, и лес, и дорога, петлявшая в нем, как издыхающая гадюка, и бревенчатый домик, и даже воспоминания о егерях и удачной охоте стали вызывать в нем сперва смутное, а потом все более явное чувство неприязни, как точно такое же чувство стало в нем вызывать даже само слово «протест». Чем ближе подъезжал Резников к месту встречи, тем неукротимее вскипала в его душе ярость и нервное напряжение усиливалось оттого, что ему нужно было постоянно сдерживать схожее с кипящей лавой чувство.
Едва машина остановилась, как Резников стремительно вышел из нее, оглушительно хлопнув дверцей, и сразу же, став еще более стройным и подтянутым, и даже щеголеватым, уверенным и четким шагом пошел в домик. В просторной комнате, где пахло хвоей и сосновыми стружками, стояли широкий стол и крепкие, будто навечно сработанные, стулья. Штабист, сопровождавший Резникова, изящным и многообещающим жестом выметнул из планшетки топографическую карту и аккуратно разложил ее на столе.
Тим Тимыч, пока что не получивший никаких распоряжений и потому продолжавший безучастно сидеть на заднем сиденье эмки, видел, как почти вслед за Резниковым в дом вошел рослый немецкий офицер, во всем облике которого главным и определяющим была неприкрытая спесь. Немец шествовал так, будто и у крыльца, и в домике, и во всей округе не существовало никого, кроме него самого, а если даже кто-то случайно и существовал, то ни с кем он не намерен был считаться.
Тим Тимыч и вовсе застыл на своем сиденье: впервые в жизни он так близко, почти в упор, увидел живого немецкого офицера, и только теперь ему вдруг стало жалко капитана Резникова, который из-за него, беспутного бойца Тимченко, вынужден будет выслушивать претензии этого чванливого, влюбленного в самого себя фашиста.
Долго размышлять ему не пришлось. Боец из охраны подбежал к машине и сказал, что капитан Резников вызывает бойца Тимченко к себе. Тим Тимыч выскочил из машины и бегом преодолел расстояние до крыльца. На ступеньках он почувствовал, как сердце, будто дятел бил клювом по стволу, застучало в груди, но он взял себя в руки и решительно распахнул дверь в комнату. Резников жестом указал на дальний от стола угол, где ему надлежало находиться. Этот же жест, как его понял Тим Тимыч, означал, что представляться ему не надо.
Послушно выполнив распоряжение капитана, Тим Тимыч пристально разглядывал немца, стоявшего по другую сторону стола, точно напротив Резникова.
– Господин пограничный комиссар, – громко и отчетливо начал Резников, останавливаясь и делая паузы лишь для того, чтобы дать возможность переводчику перевести его слова, – сегодня в пять часов тринадцать минут германский одномоторный самолет нарушил советскую государственную границу на данном участке, – Резников дотронулся остро отточенным карандашом до карты, – и, потерпев аварию, упал в трех километрах от села Бобренки. – Резников указал место падения самолета, однако немец даже не удосужился нагнуться к карте, продолжая недвижимо смотреть прямо перед собой. – Факты нарушения государственной границы Союза Советских Социалистических Республик германскими самолетами, – еще жестче продолжал Резников, – неоднократно отмечались и ранее. Исходя из вышеизложенного, по поручению командования я уполномочен заявить германской стороне решительный протест. Максимально!
Резников умолк и в звенящей тишине, воцарившейся сейчас в комнате, немигающе смотрел прямо в узкое холеное лицо немецкого офицера, ожидая его ответной реакции.
Подполковник Рентш, слушая перевод заявления Резникова, оставался все таким же бесстрастным и преисполненным чувства высокого достоинства человеком, которого, если судить по его каменно застывшему лицу, не только не волновало, но и вовсе не интересовало ни то, что произошло с немецким самолетом, ни то, что советский погранкомиссар со столь решительной интонацией заявил ему протест. Немец продолжал молчать, пауза явно затягивалась, и у Резникова на скулах бешено зашевелились, то напрягая кожу, то ослабляя ее, крупные желваки.
– Какова причина аварии германского самолета? – каркающим голосом наконец взорвал тишину Рентш, продолжая смотреть не на Резникова, а куда-то поверх его головы.
– Германский самолет сбит советским пограничным нарядом как нарушитель государственной границы, – стремительно ответил Резников, и Тим Тимыч про себя отметил, что капитан не хочет делать паузы, чтобы не подражать Рентшу.
– Пограничным нарядом? – не выказывая любопытства, бесстрастно переспросил немец после минутного молчания, в течение которого он как бы переваривал слова Резникова, – Советские пограничные наряды имеют на своем вооружении зенитные пулеметы?
– Германский самолет, – почти торжественно произнес Резников, – сбит выстрелом из винтовки образца одна тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года. Максимально!
– Из винтовки? – Окаменелость Рентша исчезла, и он стал похож на нормального, живого человека, забывшего о необходимости сделать обязательную минутную паузу. – Это невероятно, господин капитан!
– Очень даже вероятно, – усмехнулся Резников, довольный, что заставил ожить этого манекена. – И сбил его боец Тимченко, который здесь присутствует.
Подполковник Рентш стремительно и как бы защищаясь от возможного нападения обернулся туда, куда ему указывал Резников, и уставился на не менее ошеломленного Тим Тимыча немигающим, пронзительным взглядом. Тим Тимыч внутренне съежился, будто на него нацелили дуло пистолета.
– Боец Тим-тшен-ко? – переспросил немец, словно во всей этой истории особенно важна была фамилия пограничника. – Но я не знаю зольдат немецкой армия, который мог сбивать самолет из винтовка. Это есть самолет, но не есть дикий утка! – слегка коверкая слова, произнес Рентш по-русски.
Он несколько минут все с той же нагловатой пристальностью изучал Тим Тимыча, оглядывал его с ног до головы, и вдруг, неожиданно для всех присутствующих, порывисто, на негнущихся ногах подошел к нему и театрально протянул ему руку:
– Я хочу поздравлять вас, боец Тим-тшен-ко, – считая, что жестом истинного арийца он осчастливит этого невысокого, щуплого азиата, сумевшего сбить из винтовки (несомненно, это или заведомая выдумка русских, или же помог его величество случай!) немецкий военный самолет.
Тим Тимыч вконец растерялся и панически переводил взгляд с холеной руки немецкого офицера на продубленное ветром и солнцем лицо капитана Резникова и не знал, как ему поступить.
Выручил его Резников. Он едва заметно кивнул, и Тим Тимыч расшифровал этот скупой жест как разрешение, протянул руку немцу. Тот пожал ее, внутренне поражаясь тому, что этот русский дикарь не оценил великодушного шага немецкого офицера и не воспринял его как высокую награду.
Все тем же порывистым, жестким шагом немец вернулся на свое место, будто не мог стоять на другом. Лицо его снова приняло высокомерное, отчужденное выражение.
– Я уполномочен заявить, – раздельно, чеканя каждое слово, произнес Рентш, – что германская сторона выражает сожаление в связи с тем, что немецкий самолет оказался в пределах воздушного пространства Советского Союза. Однако совершенно ясно, что это произошло без какого бы то ни было злого умысла. Я склонен предполагать, что экипаж самолета потерял ориентировку. Немецкие летчики, пилотировавшие самолет, обучаются в летной школе и совершали обычный учебный полет. Германская сторона считает, что стрельба советских пограничников по самолету не вызывалась необходимостью, учитывая, что отношения между Советским Союзом и Германией основываются на пакте о ненападении. Германская сторона надеется, что впредь подобных недружественных акций в отношении немецких самолетов не будет допущено.
По мере того как немец произносил эти слова, как бы показывая, что все, о чем он сейчас говорит, лично ему почти безразлично, Резников наливался гневом. Воспользовавшись тем, что немец сделал продолжительную паузу, дававшую основание предположить, что он завершил свой монолог, Резников произнес краткую речь с той железной твердостью, которая в дипломатических правилах считается отклонением от принятого этикета, но которая, как сразу же отметил Тим Тимыч, отрезвляюще подействовала на немца.
– Советская сторона, – сказал Резников, – еще раз заявляет решительный протест по поводу нарушения немецким самолетом государственной границы СССР. Максимально! И выражает надежду, что германская сторона примет необходимые меры к тому, чтобы подобные факты были впредь исключены. Пользуясь случаем, я хотел бы обратить внимание германской стороны на то, что за последнее время нарушения границы СССР немецкими самолетами участились. Это уже не единичные случаи, а целая продуманная система, имеющая цели, несовместимые с пактом о ненападении.
Рентш слушал внимательно, опять-таки глядя куда-то мимо Резникова, но Тим Тимыч сумел уловить в его взгляде некоторую растерянность, смешанную с негодованием, вызванным тем, что этот советский капитан как бы читает ему мораль.
– Германская сторона оставляет за собой право настаивать на высказанной мною версии и требует передать останки самолета и трупы летчиков, – коротко и глухо произнес Рентш.
– Советская сторона готова выполнить эту просьбу и предлагает германскому погранкомиссару ознакомиться с текстом акта.
Резников протянул переводчику лист бумаги с отпечатанным на нем текстом, и тот прочел, сразу же переводя с русского на немецкий:
– «Мы, нижеподписавшиеся, представитель пограничной охраны СССР капитан Резников и представитель пограничной охраны Германии подполковник Рентш, составили настоящий акт в том, что 5 июня 1941 года в районе 101—103 – погранзнаков германский военный самолет, нарушив границу, перелетел на территорию СССР. В результате обстрела самолета при нахождении его на территории СССР самолет был сбит и упал на территорию СССР, в трех километрах от села Бобренки. Самолет типа «разведчик». При падении самолета один пилот погиб, второй тяжело ранен. Последний по дороге в госпиталь скончался.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах».
Переводчик вернул акт Резникову, а тот протянул его Рентшу. Пристально вглядевшись в текст акта, как бы проверяя, насколько точно перевел его переводчик, Рентш стремительно извлек из кармана френча авторучку и, положив акт на карту, размашисто подписал его, кивком давая понять, что считает переговоры законченными.
«А прежде приносил извинения и заверял, что больше таких нарушений со стороны Германии не повторится», – устало подумал Резников, подписал акт и взял под козырек.
...Через три дня после этих переговоров Тим Тимыча водворили на гарнизонную гауптвахту. Переживал он это событие очень тяжело. Если бы прежде кто-либо посмел предсказать, что в армии его ожидает гауптвахта, он бы не выдержал и поколотил такого «прорицателя». Не было дня в преддверии призыва, чтобы Тим Тимыч не мечтал о том, что в армии он заслужит орден и даже звание Героя Советского Союза. Теперь же вместо ордена он заработал десять суток ареста, и еще неизвестно, что ждало его впереди, ибо капитан Резников предупредил, что будет проведено дознание.
С тех пор как Тим Тимыч уехал из Нальчика, он ни разу не вспомнил о родном городе. И не потому, что был бесчувственным человеком. Просто некогда было вспоминать. Город все еще оставался в его воображении колыбелью младенца, а о младенческом возрасте вспоминать не хотелось. Даже письма матери он писал раз в месяц, и то столь короткие, что они были похожи на военные сводки: жив, здоров и все нормально.
Здесь же, на гауптвахте, он впервые подумал о том, что́ с ним было до призыва в армию, с волнением, которого не ощущал прежде. В душу как бы из далеких, напрочь растворившихся в бездне времени лет пахнуло и ледяной прохладой Урвани, и сладким запахом цветущих акаций на Кабардинской, и хохотом никогда не унывавшего Кешки Колотилова, и жалкой улыбки Кати, в последний раз взглянувшей на него, перед тем как исчезнуть навсегда. И почему-то уже не с прежней тоской, а здраво подумал он о том, что Катя любила не его, а другого. В этом сумеречном воспоминании было что-то странное. Было так, будто все это происходило не с ним и не с ней.
Сейчас перед его глазами навязчиво и возбуждающе вставал образ Любови Никаноровны Коростелевой, и Тим Тимыч испытывал отчаянное и горькое чувство зависти к старшему лейтенанту, который сумел отыскать на белом свете такое сокровище и имел полное право называть эту молодую, обаятельную и возмутительно красивую женщину не по имени-отчеству, а просто Любой, Любашей или даже Любкой. Тим Тимыч и сам еще не понимал, чем, какой немыслимой силой влекла его к себе эта женщина, всегда посматривавшая на него чересчур снисходительно, как смотрит мать на еще неоперившееся дитя. И чем сильнее проявлялась непонятная, таинственная власть этой женщины над Тим Тимычем, тем острее он чувствовал свою вину перед Коростелевым, тем заметнее смущался и боялся смотреть ему в глаза, когда тот обращался к нему. Тим Тимыч мысленно казнил себя за то, что, приняв, по его мнению, единственно верное и разумное решение возненавидеть всех женщин на свете, какими бы они красивыми и манящими ни были, вновь начал поддаваться странному и необъяснимо упорному влечению к женщине. Временами он радовался тому, что Люба уже была замужем, уже отдана другому, и потому влечение к ней оставалось платоническим, а она так никогда и не смогла бы узнать, с какой тайной силой страдает по ней Тим Тимыч.
А главное, об этом никогда не узнает Коростелев, которого Тим Тимыч очень любил за удаль, за преданность границе, за умение понять любого бойца. Вот и на днях, отправляя Тим Тимыча в отряд, где его ждала гауптвахта, Коростелев стиснул его за плечи своими мощными ладонями, по-отцовски встряхнул и, лукаво улыбаясь, подмигнул:
– А ты не дрейфь, боец Тимченко! Ты, может, думаешь, я на губе не сидел? Имей в виду, даже Чкалов сидел! Великий летчик нашего времени! А между нами, мальчиками, говоря, правильно шандарахнул ты этих зарвавшихся асов. И придется еще нам с тобой, Тимофей Николаевич, по этим летунам огонь вести, помяни мое слово. И потому – возвращайся скорее, дорогой наш боец Тимченко! Мне сейчас каждый штык позарез нужен. – Он еще доверительнее склонился к Тим Тимычу и негромко добавил: – Все будет в порядке. Майор Звягинцев отпишется перед округом, округ – перед Москвой. Звягинцев знаешь какой дипломат – ему прямая дорога в Наркоминдел...
Тим Тимыч, смущенно раскрасневшись, слушал его, с огромным трудом сдерживая себя, чтобы не сказать вслух: «Товарищ старший лейтенант, вы со мной как с человеком, можно сказать, как с другом, а ведь я люблю вашу жену...»
...Наконец Тим Тимычу объявили, что срок его пребывания на гауптвахте закончился, но до особого распоряжения ему надлежит оставаться в гарнизоне отряда. Это, по всей видимости, означало, что предстоит дознание.
А как ему хотелось поскорее вернуться на заставу! Она, эта застава, стала для него как магнит, неудержимо притягивающий к себе. Что-то родное, истинное, свое, неотделимое от его существа, таила в себе его первая в жизни застава, и Тим Тимыч всерьез был уверен, что без него она не сможет так же надежно беречь от врага свой участок границы, как могла это делать вместе с ним. Он всерьез уверовал, что без него застава оказывалась совсем беззащитной, и думал о ней, как о живом человеке, как о матери, которая ищет защиты у своих сыновей. Возможно, он не думал бы об этом так взволнованно и пронзительно-тоскливо, если б на этой заставе не жила Любовь Никаноровна Коростелева, чужая жена, как на грех воплотившая в себе тот идеал женщины, который нежданно возник в душе Тим Тимыча, заставляя его мечтать, надеяться и страдать.
По этой причине сообщение о том, что ему пока что не разрешено вернуться на заставу, повергло Тим Тимыча в уныние. Значит, та угроза, которую ему высказал капитан Резников, не была лишь средством припугнуть его, а таила в себе те дальнейшие непредвиденные еще неприятности, которые должны были обрушиться на Тим Тимыча за то, что он посмел ослушаться строгого приказа. И если прежде, до водворения на гауптвахту, Тим Тимыч, несмотря ни на что, был непоколебимо убежден в своей правоте, то теперь эта уверенность была ослаблена. А вдруг и в самом деле то, что он сбил немецкий самолет, значительно серьезнее, чем он предполагал? Ведь он мыслит с точки зрения рядового бойца, а там, в Москве, мыслят с точки зрения всей страны и даже всего земного шара. И вдруг он вместо того, чтобы принести своей стране пользу, своим анархистским поступком принес ей вред? Может быть, приказ о запрещении вести огонь по самолетам, нарушающим наше воздушное пространство, исходит от самого товарища Сталина?