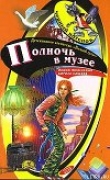Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
– Я уверен, Василий Макарович, что опыт полководцев древности тоже можно взять на вооружение в гражданской войне. В интересах пролетариата.
– Какой еще опыт? Что у нас, своей головы на плечах нет?
– Цезарь не лез на противника нахрапом, как иной раз мы, а разъединял его и бил по частям. Это во-первых. Цезарь держал войска в кулаке и быстро создавал превосходство в силах на главном направлении удара. Это во-вторых. А когда у него было маловато силенок, он действовал стремительно, напористо, шел на военную хитрость, искусно маневрировал. Это вам в‑третьих. А одерживая победу в бою, не останавливался, как это бывает в нашей дивизии. Возьмем станицу – и по куреням отъедаться да отсыпаться. А Цезарь безостановочно преследовал вражескую армию до полного уничтожения. Это в‑четвертых. И как вы любите повторять, и так далее. Кстати, он очень ценил конницу.
– Вот это по-нашенски! – одобрил Шорников.
– А еще – разведку.
– Выходит, таких, как мы с тобой, ценил? – обрадовался Шорников. – Видать, этот Цезарь был парень не промах.
– А если я добавлю, Василий Макарович, что великий русский полководец Суворов и французский император Наполеон считали, что каждый военный обязан изучать труды Юлия Цезаря и знать их назубок?
– Это точно?
– Абсолютно. Особенно надо изучать историю его Галльских походов. Их было целых восемь. В результате римляне завоевали всю Галлию.
– Галлию? С чем ее едят?
– Это территория, на которой в наше время располагаются Северная Италия, Франция, Люксембург, Бельгия, Германия, часть Голландии и Швейцарии.
– Вот это аппетит! – поразился Шорников. – Все это проглотил и не подавился? Так он, выходит, захватчик, а значит, лютый враг трудового народа.
– Это уже другой вопрос, – уклонился от спора Илья. – Я говорю о его полководческом искусстве.
– А что, в этом направлении придется мне нашего начдива просветить. Да и начальника штаба не мешает.
– Ну, что касается Румянцева, то ему все это известно. Он же военную академию кончал.
Илье очень хотелось познакомить Шорникова с Цезарем поглубже, прочитать ему, что писали о Цезаре Цицерон, Светоний и Плутарх. Тем более что именно эту книгу он обнаружил в разрушенной библиотеке, когда отступали из Армавира. Илью самого привлекла мысль Плутарха о том, что для деятельной натуры Цезаря успехи не служили основанием для покоя. Напротив, как бы воспламеняли и подстрекали его к великим предприятиям в будущем. Это было, отмечал Плутарх, некое соревнование с самим собой, словно с соперником, и стремление будущими подвигами превзойти совершенные ранее.
«Вот каким надо быть! – с завистью размышлял Илья. – А что ты, Илья Шафран, значишь на этом свете? Собираешь по крохам через Анфису Дятлову какие-то жалкие сведения, что-то из них учитывается, что-то отбрасывается. Посмеется иной раз начдив над твоей информацией, гаркнет: «Шашки к бою!» – и помчал лихой полководец напролом, как бык на тореадора, никакой тебе военной хитрости. А потом еще и скорбит, что много потерял своих боевых товарищей, вечная им слава. А мог бы и не потерять, если бы знал, как воевал Юлий Цезарь. Вот бы мне доверили водить войска, какие бы фанфары славы гремели! И вообще, совершить бы что-то такое, чтобы имя твое запомнили все, даже далекие наши потомки. Да где уж тебе, дорогой товарищ Шафран, до таких великих свершений! Лишь бы товарищ Шорников похвалил – и на том спасибо...»
Так рассуждал о славе и своей скромной судьбе Илья Шафран, отправляясь в ночь на встречу в условленном месте со связным, который должен был передать новые сведения, добытые Анфисой Дятловой, и через которого Илья должен был растолковать ее новое задание.
Он шел, хорошо ориентируясь в ночи, предчувствуя, как после его возвращения в штаб Шорников станет дотошно расспрашивать об Анфисе: как там она, веселая или печальная, не угрожает ли ей опасность и не передавала ли чего устно лично для него, Шорникова. И когда узнает, что не передавала, почернеет, умолкнет и уйдет в себя.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
У Врангеля не было желания ехать в театр. Он никогда не принадлежал к поклонникам Мельпомены, считая, что театр – это нечто искусственное, не относящееся к тем ценностям, какие имеют ощутимую пользу для человека, посвятившего себя исключительно военной карьере. Не был он и меломаном, и потому горячие заверения полковника Волобуева о том, что в спектакле будет много музыки и танцев, не прибавили ему желания отправиться в театр. Все, что не относилось к его непрестанной и неутолимой жажде славы, к рождению все новых и новых замыслов, способствующих развенчанию его главного соперника – Антона Ивановича Деникина, не могло привлекать Врангеля, ибо не имело для него никакого практического значения.
И потому, когда полковник Волобуев с чарующей улыбкой стареющей кокотки пытался соблазнить его посещением городского театра, Врангель, все более мрачнея и наливаясь неприятием, молча всматривался в него, как в человека, которого он вот-вот прикажет вздернуть на виселице, ничуть не пожалев о его скорбной и трагической участи.
– Ваше превосходительство, – не придав ровно никакого значения роковой мрачности Врангеля, еще более осклабился в зубастой улыбке Волобуев, – мозг великого полководца нуждается в отдохновении. И, смею вам доложить, ничто так благотворно не влияет на суровость души, как божественные ножки танцовщиц.
Врангель живо восстановил в памяти матовые, радующие своей упругой нежностью ноги Ксении и несколько оживился.
– А главное, ваше превосходительство, – уже без улыбки, принимая торжественную позу, возвестил Волобуев, – человечество жаждет лицезреть своего кумира и вождя, вздымающего святые хоругви во имя освобождения России.
При этих словах, прозвучавших как сигнал боевой трубы, Врангель встал, прямой и стройный, устремив все еще мрачный, неживой взгляд куда-то поверх головы Волобуева.
– Этот исторический момент, – возвышая самого себя в своих глазах, рокотал Волобуев, – долженствует быть запечатлен на полотне кистью большого мастера живописи, коего после окончания спектакля милостиво прошу принять для приличествующего данному случаю разговора и для подачи необходимого импульса художнику.
Врангель скользяще стрельнул черным глазом в Волобуева, беспокойно и тревожно заерзавшего в кресле.
– Сподручно ли, Афанасий Никодимович, при ваших многотрудных обязанностях, отвлекать свою кипучую энергию на подобное предприятие? – не без искренности вопросил Врангель, чувствуя, однако же, внутреннюю сладость от замысла Волобуева. – И не забываете ли вы о том, что при моем положении и заботах весьма непозволительно отдавать драгоценнейшие минуты на беседы с не известным мне художником?
Врангель сразу же понял, что Волобуев потащит в театр и художника, а значит, вряд ли будет благоразумным везти с собой Ксению, а это в свою очередь приведет к тому, что она надует губки. А Врангель женских упреков, а тем паче слез, не выносил.
Волобуев нутром почувствовал, что все эти вопросы не более как попытка не выпускать на волю того неутоленного зверя, который издавна поселился в душе Врангеля и которого именуют честолюбием.
– Мы, ваше превосходительство, – тут же откликнулся Волобуев смиренно и почти ласково, – не принадлежим самим себе. Мы в плену у капризнейшей из любовниц – госпожи истории. И она вертит нами, как ей заблагорассудится. И тут ничегошеньки не попишешь. Повелевает сия дама оставить на обозрение далеким потомкам нашим живые портреты военных гениев – как же с этим может конкурировать дух сопротивления и тем более ложной скромности? И позвольте доложить вам, ваше превосходительство, портретное изображение – это лишь первый шаг в намеченной мною стратегической программе, призванной питать анналы истории. Одновременно смею предложить вам написание ваших личных мемуаров. Ни один день, ни один час вашей жизни из цикла ваших мудрых деяний, ни одна мысль из тех мириад мыслей, кои владеют вами, не должны исчезнуть бесследно, все надобно фиксировать. – Тут Волобуев поймал себя на мысли о том, что слово «фиксировать» было одним из его любимых слов, и любовь эта проистекала, по всей вероятности, от его профессиональной принадлежности. – Ваши деяния войдут в летопись истории и, смею утверждать, даже в учебники по военному искусству.
Идеи Волобуева подкупали Врангеля, но он хотел остаться в его глазах человеком, начисто лишенным тщеславия.
– До этого ли ныне?
– Молю всевышнего, чтобы вы не изволили отложить сие на потом! – театрально вздымая пухлые, ухоженные руки, провозгласил Волобуев. – Я сам преисполнен готовности быть вашим летописцем.
– А кто же будет истреблять тайных врагов отечества? – Врангель произнес эту фразу без малейшего оттенка иронии и уставился на Волобуева стеклянным, немигающим взглядом.
– Смею заверить вас, ваше превосходительство, меня на все хватит, силы в себе ощущаю прямо-таки неистребимые. Душу вложу!
Врангель был из тех динамичных, словно бы начиненных бесовской энергией людей, которые не могут принудить себя хотя бы минуту спокойно посидеть на одном месте, – жажда действия всеохватно верховодила им, находя свое проявление в постоянном движении, сопровождаемом выразительными, полными эмоций жестами и клокотанием новых замыслов.
При последних словах Волобуева он молодцевато забегал по кабинету, поражая полковника юношеским гибким станом и бурей чувств, полыхавших и на его лице, и, чудилось, во всей фигуре. «Сколько силушки в нем, удали, веры! – восхищенно причмокнул пухлыми губами Волобуев. – Разве сравнишь его с Деникиным, или тем паче с забулдыгой Май-Маевским, или со Слащевым, этим законченным психопатом?»
– Решено! – враз оборвав нескончаемые словесные упражнения Волобуева, отчеканил Врангель. – Едем!
Они спустились по тускло отблескивающим ступенькам к парадному выходу, где их ожидал автомобиль. Врангель опустился на сиденье, как на седло, – с проворством и почти парадным изяществом прирожденного конника. Волобуев тяжело плюхнулся рядом с ним.
Между тем Крушинскому незадолго до этого уже передали распоряжение Волобуева быть в готовности, и он в назначенное время стоял в ожидании его приезда на перекрестке, у дома, где размещалась мастерская. Настроение у него было подавленное, ему никуда не хотелось ехать, но не подчиниться воле Волобуева он не мог. Крушинский не имел ни малейшего желания лицезреть Врангеля, а тем более писать его портрет, однако другого выхода пока что не было, и он решил всецело положиться на свою судьбу.
На настроении Крушинского отражалась и та отчужденность, с которой относилась к нему Анфиса. Бывая в его доме, она все время молчала, думая о чем-то своем. И только когда Крушинский сказал ей, что сегодня едет в театр, вдруг оживилась:
– Это хорошо. И поезжайте. А то вы туточки совсем прокисните.
– А я ведь не один еду.
– Так еще лучше. С женщиной куда как веселее.
– В том-то и дело, что не с женщиной. С самим генералом Врангелем. И с полковником Волобуевым.
– Везет вам, вы обязательно поезжайте, – с непонятной Крушинскому настойчивостью поспешно сказала Анфиса. – Вам такое счастье привалило, а вы еще и сомневаетесь.
– И не поехал бы, так принуждают, – посетовал Крушинский. – Велено писать портрет.
– Самого Врангеля? – заинтересованно спросила Анфиса.
– Ну разумеется. И хотят, чтобы я вжился в образ.
Анфиса прикинула, что, общаясь с Врангелем, Крушинский может стать человеком, которому, чем черт не шутит, тот расскажет что-нибудь такое, что не грех узнать и Анфисе.
– Чего же вы раньше не сказали? – засуетилась она. – Я вам сейчас брюки поглажу. И сорочку. Разве ж в таких, неглаженых, можно в театр идти?
Стараниями Анфисы Крушинский вышел на улицу в ладно сидящем, отутюженном костюме, блестевших глянцем туфлях (хоть смотрись в них, как в зеркало!) и шляпе, подчеркивавшей его элегантный вид.
Машина, визжа тормозами, подкатила к тротуару. В ней, на заднем сиденье, торжественно, словно принимая парад, возвышались Врангель и Волобуев.
Врангель бросил небрежный взгляд на Крушинского, вновь мысленно посетовал на Волобуева с его вечными фантасмагориями, крепко сжал тонкие, бескровные губы и едва кивнул на приветствие художника.
– Рядом с шофером! – тоном хозяина произнес Волобуев, и Крушинский поспешно и как-то неуклюже-стыдливо сел на отведенное ему место.
Машина грозно заурчала и, выпуская облачко гари, понеслась по булыжной мостовой к театру.
Здание театра было ярко освещено снаружи, и потому площадь, на которой он находился, тоже пропечатывалась в густой темноте вечера светлым пятном. Казалось, что этот, освещенный фонарями театр – единственное светлое место во всей России, погруженной во тьму...
Автомобиль затормозил у запасного входа. Тут же Врангеля с восторженным подобострастием встретил директор театра и, расточая сладкие улыбки, повторял одни и те же слова:
– Милости просим... Мы счастливы...
– Мое посещение не предавать широкой огласке, – сурово сказал ему Врангель.
– Ваше превосходительство, приняты все необходимые меры, – поспешил заверить его Волобуев.
Директор галантно указал направление, по которому надлежало идти, на всякий случай улыбнулся Крушинскому, и они вошли в подъезд. Поднявшись по ступенькам, оказались в ложе второго яруса, которая располагалась в глубине и потому лишала любопытных возможности разглядеть тех, кто в ней находился.
Врангелю, однако, хорошо был виден партер. Он давно не был в театре, и его несколько передернуло от дорогих, нарядных туалетов зрителей. Тут и там, отражаясь в свете хрустальных люстр, яркими молниями по-змеиному вспыхивали бриллианты в серьгах и перстнях оживленных, сияющих улыбками женщин, лоснились дорогие меха, сверкали причудливыми украшениями модные шляпки. Чудилось, что в театре блеск, сияние, ослепляющая россыпь ювелирных украшений господствуют над людьми: сверкали погоны и аксельбанты офицеров, сверкали, источая все цвета радуги, драгоценные камни, сверкали жемчужно-белые зубы красивых женщин...
«Впрочем, – уже спокойнее подумал Врангель, – этот контраст между ужасами войны и этим блеском необходим. К тому же это театральное празднество свидетельствует о том, что наши победы на Кубани и Дону прочны и незыблемы. И все идет как в старые добрые времена!»
Поднялся занавес. Давали оперетту «Птички певчие». Постановка отдавала той посредственностью и серостью, которые часто бывают заметны в игре провинциальных актеров. Аффектация била через край, канкан был схож с кривляньем проституток во время оргий. Врангель пришел в крайнее раздражение и бросал свирепые взгляды в сторону Волобуева, который, подобно разжиревшему коту, сладко дремал в кресле.
В антракте Врангель неожиданно обратился к Крушинскому:
– Каково ваше просвещенное мнение о спектакле?
Крушинский растерялся. Слушая оперетту и глядя на сцену, он все время думал, сравнивая главную героиню «Птичек певчих» с Анфисой: «Нет, Анфиса совсем не такая. Эта – вздорная, вульгарная баба, прошедшая огонь, воду и медные трубы, а та – чистая, свежая, истинная...»
И потому не сразу нашелся, что ответить.
– Неужели вы не составили своего мнения? – нетерпеливо спросил Врангель. – У художника подразумевается обостренное чутье на подлинное и поддельное.
– Я отвечу вам вашими же словами, – подавив нерешительность, сказал Крушинский. – Вы нашли очень точное определение. Искусство может быть или подлинным или поддельным.
– Но вы ничего не сказали о «Птичках певчих», – напомнил Волобуев.
– А что можно сказать, если здесь искусства нет и в помине?
– Вот видите, – повернулся к Волобуеву Врангель. – А вы мне давеча все уши прожужжали со своими «Птичками».
– Но зато какие актрисы, ваше превосходительство! Не столь уж важно, как они лицедействуют на сцене. Гораздо предпочтительнее их поведение после спектакля.
И он рассыпал по ложе дробный, похотливый смешок.
– То-то вы дремали с таким превеликим наслаждением, – поддел его Врангель.
Кончился антракт, в зале погасли огни, но занавес почему-то не поднимался. И тут на авансцену вихляющей походкой вышел высокий, с седой шевелюрой господин во фраке и, будто с церковного амвона, бросил в публику слова, извергая их в каком-то нечеловеческом экстазе, как в цирке:
– Милостивые государыни и государи! В то самое время, когда мы здесь веселимся, предаваясь сладостям жизни, с восторгом лицезреем прекрасных женщин, там, на фронте, – он ткнул длинным сухим пальцем почему-то вверх, – геройские наши войска не на живот, а на смерть борются за честь единой, великой и неделимой России! Стальной грудью прикрывают они нас от врага, неся нам мир и благоденствие. Мы обязаны всем им, этим героям, и их славным вождям. Я предлагаю вам, – тут голос его превратился в призывный страдальчески-торжественный вопль, – приветствовать одного из них, находящегося здесь, в нашем театре, – генерала Петра Николаевича Врангеля!
Сноп света внезапно ударил в ложу, где сидел Врангель, в ту же секунду стремительно взвился занавес, оркестр грянул туш, сгрудившаяся на сцене труппа и публика в партере, стоя, повернувшись к ложе, неистово зааплодировали. Там и тут раздавались крики «Виват!» и «Ура!».
Все ликовало в груди у Врангеля. Он стоял, как изваяние, сияя черными глазами, и казалось, что еще немного, еще один шквал аплодисментов, и он воспарит над партером, как воспаряют святые в проповедях священников.
Теперь, после такого оглушительного приема, спектакль и вовсе показался Врангелю не соответствующим той жажде славы и действия, которые всецело владели им, обжигая душу. Не дождавшись окончания спектакля, он покинул театр. За ним поспешили Волобуев и Крушинский.
Врангель был настолько вдохновлен приемом, что полностью игнорировал то обстоятельство, что этот второй «спектакль» был хорошо подготовлен и отрепетирован не кем иным, как Афанасием Никодимовичем Волобуевым, который сейчас шел вслед за ним и блаженно щурил глаза в предвкушении похвалы, а то и очередной награды.
– В гостиницу «Палас»! – распорядился Врангель. – Я чертовски проголодался.
– Да, ваше превосходительство, совершенно верно, не искусством единым жив человек, – охотно согласился Волобуев.
Однако обстановка в ресторане, куда они пришли, показалась Врангелю весьма неблагоприятной. Зал переполнен разношерстной, галдящей на разные голоса публикой. Столики были почти сплошь оккупированы изрядно «заряженными» офицерами. Одни, завидев Врангеля, поспешно вскакивали и вытягивались во фронт, другие продолжали звенеть бокалами. Со всех сторон гремели пьяные, исполненные дикого восторга крики «ура», вся ужинавшая публика выметнулась из-за столиков и черной тучей двинулась на Врангеля. Оркестр оглушительно грянул воинственный марш.
Врангель, ответив на приветствия взмахом руки, сел за ближайший свободный столик. За ним следом уселся Волобуев, указав место и Крушинскому.
Но побыть Врангелю вместе со своими собеседниками не дали. Восторженные возгласы не утихали, со всех сторон к нему протягивали бокалы с вином. Одни поздравляли с последними победами, другие лезли обниматься, третьи просили ответить на вопросы, среди которых были и явно наглые. Это бесило Врангеля.
Так и не поужинав, он покинул ресторан и вместе со своими спутниками поехал на станцию, в свой салон-вагон.
Только здесь, в привычной обстановке, он почувствовал облегчение и расслабился. В нем зрела, набирая силу, подспудная окрыляющая мысль: «Сегодня тебе аплодировал какой-то захолустный театрик, а завтра будет чествовать и прославлять вся Россия!» И эта мысль так согревала его душу, вливала такие мощные силы, что он позабыл и о дрянном спектакле, и о неприятных вопросах, которыми его, как пиками, пытались уколоть в ресторане. Он настроился на благодушный лад. Приказав подать ужин, Врангель по-домашнему устроился в кресле и впервые за все это время выдавил на своем колючем и хищноватом лице некое подобие улыбки.
Волобуев сразу же смекнул, что настал благоприятный момент для беседы, которая может пойти на пользу Крушинскому в работе над портретом.
Подали ужин. Врангель широким жестом длинных костлявых рук пригласил присутствующих к трапезе.
– Теперь вы и сами убедились, как тяжко бремя славы, – заговорил он с видом мученика. – Но это еще можно пережить. Гораздо более сложно другое. Я имею в виду нынешнюю обстановку. Вас, господин Крушинский, я вынужден предупредить, что все мною сказанное отнюдь не для прессы. Предупреждать вас о последствиях какого-либо малейшего даже разглашения считаю излишним. Тем более что вас опекает такой надежный патрон. – Врангель положил длинную худую ладонь на мясистое плечо Волобуева. – Чтобы понять меня, вам должно проникнуться сложностью той ситуации, в которой мне по предначертанию всевышнего выпало действовать.
Врангель отрезал кусочек сочного, с кровью, бифштекса, тщательно прожевал его, запил вином и продолжал:
– Нами отбита у красных громадная территория. Ценою огромных, не поддающихся описанию жертв. Но на ней царит первозданный хаос! Кубань и Дон управляются целым выводком мелких сатрапов, начиная с губернаторов и кончая самым захудалым войсковым начальником, комендантом или контрразведчиком. Обыватель положительно сбит с толку, запуган и не знает, кого ему слушаться, чьим повелениям внимать. Целые тучи всевозможных авантюристов заполонили отбитую у врага территорию и, пользуясь преступным бессилием власти, проникли во все поры государственного организма.
Врангель откинулся в кресле, заговорил еще более торопливо, отрывисто. Язык не поспевал за мыслями, и фразы были похожи на спешащего человека, то и дело спотыкающегося о неровности дороги.
– Законность предана забвению. Каждый дудит в свою дуду. И знает, каналья, что действует совершенно безнаказанно. Губительный пример, к величайшему сожалению, подается сверху.
– Один Май-Маевский чего стоит! – угоднически вставил Волобуев. – Пьет без продыху и просыпу, устраивает оргии.
– Май-Маевский не в счет, – резко оборвал Врангель. – Вы, Афанасий Никодимович, хитрец. Бьете из пушек по воробьям. А о птицах покрупнее почему-то умалчиваете.
– Так я, ваше превосходительство, и до крупных птиц доберусь.
– Ну-ну...
– А чем Антон Иванович лучше? Тем, что не пьет? – будто в омут прыгнул Волобуев. – Так это не бог весть какая заслуга.
– Вот именно, – напористо продолжал Врангель. – Меня всегда возмущало, что людям, не способным справиться с выпавшей на их долю ответственностью, более того, колоссальной исторической задачей, как раз судьба и вручает штурвал государственного корабля. Это же возмутительный парадокс!
– Случай! – пропел на той же высокой, с возмущением, ноте Волобуев. – Но разве вы не видите, ваше превосходительство, что генерал Деникин выпустил эту власть из своих рук? И вот вам результат – хищения, мздоимство. А эти великолепные запасы продовольствия, снаряжения, обмундирования, что поставляют нам англичане? Все это бессовестно расхищается. Наши доблестные воины вынуждены сесть на шею населению. А это непосильное бремя. Прекрасная пища для большевистской пропаганды. Нужен новый вождь белого движения, мудрый, с просветленным умом и железной рукой.
И Волобуев преданно уставился в лицо Врангелю, будто тот уже и был тем новым вождем, о котором он только что сказал.
– Однако хватит о политике, – великодушно заявил Врангель. – Господина Крушинского она, видимо, мало интересует.
Крушинский слабо улыбнулся:
– Действительно, я всегда старался быть подальше от нее...
– Великолепно! – одобрил Волобуев. – Искусство должно быть чистым и незамутненным. Ваше превосходительство, – обратился он к Врангелю, – художнику конечно же самое главное – лицезреть вас. Это даст ему возможность точнее и ярче изобразить ваши черты на полотне. И если позволите, господин Крушинский приступит к эскизам.
– Если это столь необходимо...
– Именно необходимо! Вы готовы, господин Крушинский?
– Пожалуй. А вас я попрошу, – сказал он Врангелю, – во время позирования быть возможно естественнее. Мне будет легче, если вы продолжите свой рассказ и позабудете о моем существовании.
– И все же, лучше, если вы услышите от его превосходительства нечто биографическое, предоставляющее особый интерес для художника, – сказал наставительно Волобуев.
– Воля ваша, – согласился Крушинский.
Врангель закурил папиросу, затянулся дымом и сел так, чтобы Крушинскому лучше было видно его лицо, освещенное зеленоватым светом, исходящим от абажура.
Крушинский разложил на столике куски ватмана, прихваченные с собой в папке, и, бросая короткие взгляды на Врангеля, принялся стремительно наносить штрихи черным карандашом.
– Собственно, жизнь моя и впрямь богата яркими событиями, – заговорил Врангель, глядя в черное стекло вагонного окна. – Я счастлив, что был близок к царю: меня назначили к его императорскому величеству флигель-адъютантом. Помню, будто это было вчера, как я вступил в дежурство в Царском Селе. Была суббота. Я сменил флигель-адъютанта герцога Лейхтенбергского. Государь в этот день завтракал у императрицы. Мне подан был завтрак в дежурную комнату. После завтрака государь гулял, а затем принял нескольких лиц, сколько я помню, вновь назначенного министром здравоохранения профессора Рейна и министра финансов Барка.
Врангель шумно вздохнул, испытывая приятное томление от сладостных воспоминаний.
– Обедали на половине императрицы, – продолжал он. – Я провел целый вечер в семье государя. Он был весел и оживлен, подробно расспрашивал меня о полке, о последней блестящей атаке в Карпатах. Разговор велся частью на русском, частью, в тех случаях, когда императрица принимала в нем участие, и на французском языке. Я был поражен видом императрицы... Ярко выступали красные пятна на лице. Особенно поразило меня болезненное выражение ее глаз. Императрица интересовалась организацией медицинской помощи в частях, подробно расспрашивала о новом типе только что введенных противогазов. Великие княжны и наследники были веселы, шутили и смеялись. Наследник, недавно назначенный шефом полка, спрашивал, какие в полку лошади, какая форма. После обеда перешли в гостиную императрицы, где пили кофе и просидели часа полтора.
– Ваше превосходительство, – попросил Волобуев, – расскажите о празднике георгиевских кавалеров. Это достойно кисти большого художника. Тем более, что вы и сами кавалер ордена святого Георгия и кавалер георгиевского оружия.
– Было это событие в ноябре. Все кавалеры Георгиевского креста были приглашены на торжественный молебен. Собрались все в театральной зале. Из лазаретов доставили тяжелораненых, их разместили на сцене, прямо на носилках. Свита и приглашенные сидели в партере. Вскоре прибыл царь с императрицей. По отслужении молебна генерал-адъютант принц Ольденбургский взошел на сцену, поднял чарку и провозгласил здравицу государю императору и августейшей семье. Царь выпил чарку и прокричал «ура» в честь георгиевских кавалеров. Царь и царица обошли раненых, беседуя с ними. Царица внимательно расспрашивала каждого, склонившись к носилкам, но по виду ее было видно, что мысли ее где-то далеко-далеко...
– Я рассказываю лишь для того, чтобы, позируя, не превращаться в мумию, – заметил Врангель, видя нетерпение и скуку на лице художника.
– Да, да, ваш рассказ очень помогает мне, – заверил Крушинский.
– А как-то декабрьским утром, – продолжал Врангель, – направились мы в Царское Село. Там предполагалось вручение лошади, подседланной маленьким казачьим седлом, наследнику. Лошадь отправили ранее, я же выехал с депутацией по железной дороге и вез заказанную для наследника форму полка. Мы едва не опоздали к назначенному времени вследствие неисправности пути. На станцию за нами были высланы кареты. Мы поехали во дворец. Встреченные дежурным флигель-адъютантом, мы вошли в зал. Государь в сопровождении наследника появился перед нами. Я представил государю офицеров, и он непринужденно, словно давно их знал, повел с ними беседу. Потом все вышли на крыльцо, чтобы осмотреть коня и сфотографироваться.
– А между тем в Царском Селе в свое время учился Пушкин. Всего-навсего... – задумчиво произнес художник.
Врангель сделал длинную паузу. Крушинский поднял голову и вздрогнул: прожигая его, горели зияющей чернотой глаза барона...
– Надеюсь, господин Крушинский, – вкрадчиво проговорил Волобуев, – что одного сеанса вам вполне достаточно? Его превосходительство и без того был безмерно щедр, уделив вам столько внимания и драгоценного времени. В остальном вам следует всецело положиться на творческую фантазию, коей вам не занимать.
– Да, да, – как в бреду поддакнул Крушинский. – Мне вполне достаточно...
– Вас проводят, – сказал Волобуев и вызвал дежурного офицера.