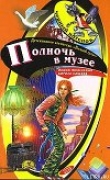Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Тим Тимыч внутренне содрогнулся от этих страшных предположений и провел бессонную ночь. А утром, когда горнист сыграл подъем, он вдруг успокоился и впервые подумал о своей судьбе без чувства обреченности. Ведь ничего уже нельзя переделать, ничего не повернуть вспять. Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Тим Тимыч сосредоточил на этих мыслях всю свою волю, и от этого даже предчувствие суда военного трибунала перестало быть таким невыносимо страшным, каким оно было прежде.
Тим Тимыча особенно огорчало то, что после освобождения с гауптвахты его не привлекали ни на занятия, ни на работу и он вынужден был оставаться один на один со своими мыслями. По сравнению с заставой здесь, в отряде, как казалось Тим Тимычу, было слишком спокойно, будто отряд находился за сотни верст от границы. И потому Тим Тимыч с нетерпением ждал вызова или к начальству, или к дознавателю, лишь бы поскорее избавиться от самого невыносимого для человека состояния – состояния неизвестности.
В субботу почти всех бойцов гарнизона отправили на заставы. Знакомый по гауптвахте боец доверительно сообщил Тим Тимычу, что немцы придвинули вплотную к границе танки и артиллерию и что дело идет к войне.
– Не посмеют они! – горячо возразил Тим Тимыч. – Каши они еще мало ели!
– Ты думаешь, если один самолет сбил, у них больше не найдется? – усмехнулся боец.
– При чем тут самолет? – обиделся Тим Тимыч. – Разве одними самолетами войну выигрывают? Не в этом дело! А немецкий пролетариат? Он же может Гитлеру в спину...
– Хорошо бы, – уклончиво сказал боец, явно не желая продолжать разговор на эту тему.
Вечером Тим Тимыч принялся было за письмо матери, но, едва начав его, отложил в сторону. О чем писать? О своей нелепой судьбе?
А на рассвете Тим Тимыча вскинула с койки война... Трясясь в кузове старенькой полуторки, в которую погрузили остававшихся в гарнизоне бойцов, Тим Тимыч кипел от переполнявших его противоречивых чувств. Радость от сознания того, что отныне и следствие, и трибунал становятся такими же нереальными и противными здравому смыслу, как и приказ о запрещении вести огонь по вражеским самолетам, грозно сталкивалась с щемящей тревогой и волнением за судьбу Любови Никаноровны, которая конечно же попала под огонь врага, как попала под этот огонь и вся застава. Если бы он, Тим Тимыч, умел водить машину, он сам сел бы за руль, и тогда эта скрипящая таратайка летела бы на заставу быстрее ветра!
К счастью, застава Коростелева была ближней от отряда, миновать ее было просто невозможно, и это придавало Тим Тимычу бодрости.
Уже на дальних подступах к заставе, едва ли не сразу же за Бобренками, Тим Тимыч и все, кто ехал в машине, услышали густой, непрерывный стрекот автоматных очередей и винтовочных выстрелов. Изредка с адским кряканьем рвались мины. Чем ближе они подъезжали к заставе, тем отчетливее накатывался на полуторку гул танковых моторов, и в этом гуле мотора полуторки почти не было слышно.
На повороте, от которого тропинка во ржи вела на заставу, Тим Тимыч перемахнул через задний борт полуторки и, глотая густую, саднящую в горле пыль, помчался, сжимая в руке винтовку, туда, где призрачно угадывались ворота заставы.
– Назад! – раздался ему вслед сердитый вопль младшего сержанта. – Нам приказано на десятую!
Тим Тимыч сделал вид, что ничего не расслышал, и помчался еще стремительнее. Как он мог допустить, чтобы его застава вела бой с фашистами без него! Чего доброго, так можно опоздать и к тому моменту, когда и пограничники, и части Красной Армии перейдут границу и начнут громить врага на его территории. Нет, допустить такого Тим Тимыч просто не мог, не имел права и никогда не простил бы себе, если бы все произошло иначе.
Тим Тимыч выбежал из-за рощи и остановился, ошеломленный непривычным и страшным видом заставы. Разрушенное прямыми попаданиями снарядов, здание горело, дымилось и плавилось в потоке огня. Гремели взрывы и выстрелы. Содрогалась земля. С ходу было невозможно понять, кто и откуда стреляет. Двор заставы был безлюден. В роще обезумело неслись два коня, один из них с седлом.
Тим Тимыч хотел было побежать к опорному пункту. Наверняка там в окопах и ходах сообщения сосредоточились все бойцы заставы. Но тут же помимо своей воли он бросился к дому, в котором жил Коростелев. «Только взгляну, как там, не нужна ли помощь, и сразу же в окопы», – решил Тим Тимыч, подбегая к крыльцу.
Самым странным и удивительным было то, что дом этот, в отличие от горящей, разрушенной заставы, стоял совсем целехонький, будто его заворожили и уберегли от выстрелов. Лишь окна были распахнуты настежь и неясная тень обреченности нависла над ним, несмотря на то, что в стеклах играло утреннее солнце.
Тим Тимыч взбежал на крыльцо, метнулся в дверь. Здесь, в квартире Коростелева, он бывал всего два раза, когда приходилось вызывать начальника заставы. Эти посещения были настолько кратковременны, что он успевал лишь бросить мгновенный взгляд на Любовь Никаноровну. Какой была квартира в те, еще мирные дни, он так и не рассмотрел. И потому сейчас ему показалось, что ничего в этой квартире не изменилось. Если бы не грохот выстрелов и взрывов в стороне заставы, могло бы показаться, что Любовь Никаноровна куда-то совсем ненадолго отлучилась и вот-вот ее босые загорелые ноги мелькнут на крыльце, припечатывая мокрыми от росы маленькими ступнями певучие деревянные половицы.
Однако сейчас было не до чудес. Тим Тимыч сноровисто обежал дом вокруг и, не останавливаясь, ринулся к опорному пункту.
Навстречу ему, будто вырвавшись из адского пламени, бежали черный от копоти Твердохлебов, с отрешенным, невидящим лицом, и какой-то незнакомый боец в каске.
– Тимченко! – задыхаясь, хрипло прокричал Твердохлебов. – Спустись в подвал, помоги вынести раненых! Приказано отходить!
– Отходить? – ошалело переспросил Тим Тимыч. – Ты с ума сошел, Твердохлебов?!
– Выполняйте приказ, боец Тимченко! – зло отчеканил тот.
Тим Тимыч поразился тому, что Твердохлебов приказывал ему так, будто он ни на одну минуту не отлучался с заставы и будто его появление не может удивлять или радовать. Именно в этот миг Тим Тимыч понял, что война не просто меняет привычное, но опрокидывает и ломает его, как не отвечающее ее существу.
– Погоди, – остановил Тим Тимыча худой, вертлявый боец в каске, когда тот уже приблизился ко входу в подвал. – Ты только ей не говори...
– Чего не говори? Кому не говори? – прокричал он, полагая, что боец не расслышал его в грохоте нового взрыва.
– Не говори, что старшего лейтенанта убило, – ответил тот и скрылся за углом здания.
Тим Тимыч оторопело оглянулся вокруг, подавленный всем тем, что лавиной обрушилось на него. Война... Бой... Горящая застава... Убит Коростелев... Раненые... Взрывы... И безучастное солнце, которое все так же весело всходило сейчас над землей, словно ничего особенного на этой земле не происходило, словно война была таким же естественным и обычным явлением, как дождь и ветер, как облака и дозревающая рожь.
Не разбирая крутых ступенек, Тим Тимыч почти скатился в подвал; здесь тоже струилась, забивая нос и легкие, едкая гарь. После яркого света казалось, что в подвале стоит гулкая полутьма. Однако Тим Тимыч сразу же разглядел Любу, нет, Любовь Никаноровну. Задыхаясь, она пыталась разорвать на две части нижнюю рубашку, ту самую, которую бойцы в обиходе называли нательной. Прочное полотно никак не поддавалось ее рукам, рубашка как живая белела в полутьме. Боец, над которым склонилась Люба, негромко стонал, как бы стыдясь своей слабости, а она тревожно и ласково приговаривала, повторяя одни и те же слова: «Потерпи, сынок... Потерпи, сынок...»
Эти слова вовсе не подходили к ней, потому что она сама была почти такого же возраста, как и тот, кого она называла сынком. И Тим Тимыч тут же прервал ее:
– Любовь Никаноровна, приказано отходить!
Люба непонимающе посмотрела на него и, когда он повторил ей те же слова, метнула на него недобрый, даже сердитый взгляд – точно именно он принял решение об отходе и не дает ей возможности перевязать бойца.
Тим Тимыч выхватил из ее рук рубашку, вмиг располосовал ее на две части и сноровисто перевязал раненого. Он сразу же узнал в нем Ковальчука, того самого, который столь одобрительно отнесся к его поступку и снабдил увесистым куском сала. Сейчас Ковальчук смотрел на него мутными, ничего не видящими глазами и вздрагивал всем телом, когда Тим Тимыч покрепче стягивал его раненую ногу самодельным бинтом.
Закончив перевязку, Тим Тимыч ощутил, что стоит на коленях почти вплотную к Любе. Чуть покачнись – и можно будет коснуться ее плечом. Временами, когда гул наверху смолкал, он слышал ее учащенное дыхание, даже стук ее сердца и больше всего страшился взглянуть ей в лицо.
– Надо вынести раненого, – твердо сказал Тим Тимыч, вставая. – Приказано отходить. Немцы могут ворваться сюда...
– Вдвоем нам не вынести, – тихо сказала Люба, поведя рукой вдоль противоположной стены, и только сейчас Тим Тимыч увидел еще трех лежавших ничком и уже перевязанных бойцов.
– Вынесем, – заверил Тим Тимыч. – Вы мне только на ступеньках подсобите.
Не сговариваясь, они приподняли Ковальчука и понесли его к выходу. В подвал текла новая волна гари, воздух накалился от огня, было тяжко дышать. Люба боялась, что у нее загорятся волосы. С трудом они вынесли раненого наверх. Тим Тимыч взглянул на крышу здания и простонал от бессилия: еще минута – и она рухнет, завалит вход в подвал. Люба поняла его без слов. Они оттащили раненого к забору, и Люба тут же метнулась назад, к подвалу.
– Стойте! – в отчаянии крикнул Тим Тимыч, но было поздно.
С треском и скрежетом рухнула крыша, Любу ударило куском черепицы, и она упала на землю. Тим Тимыч подбежал к ней, схватил на руки и, торопясь, понес от горящей заставы.
Никогда еще в своей жизни он не ощущал себя таким сильным, как сейчас. Что-то богатырское пробудилось в нем, и он не чувствовал тяжести. Он был счастлив, потому что нес Любу, и даже война в это мгновение почудилась ему совсем в другом облике – не в страшном, сеющем смерть и разрушения, а в добром, давшем ему возможность прикоснуться к Любе, обнять ее и нести, нести, чтобы спасти от гибели.
Он был уже почти у опушки рощи, как совсем рядом грохнул снаряд. Что-то схожее с ударом молнии вздыбило землю и взвихрило отпрянувшие с опушки березы. Тим Тимыч понял, что падает и, падая, роняет Любу, да, теперь уже не Любовь Никаноровну, а Любу.
«Теперь у нас не будет сына...» Любе почудилось, что она прошептала эти слова и что Тим Тимыч услышал и обязательно передаст их Коростелеву.
«Я не сказал тебе, что старший лейтенант Коростелев погиб. И что, спасая тебя, я ни разу не выстрелил в наступающих гитлеровцев... Это всегда будет мучить мою совесть... Хотя... хотя это же я, именно я, сбил самолет. Но не в этом дело...» Тим Тимычу казалось, что он произнес эти слова и что Люба услышала их.
Но Тим Тимыча никто не услышал.
Высота 261,5
Рота второй раз поднималась в атаку и снова откатывалась назад, стремительно уменьшаясь в объеме, подобно шагреневой коже, и оставляя убитых на склоне зловредной высоты, будто начиненной пулеметами, минометами и автоматами.
Мишка Синичкин обессиленно, уже ничему не удивляясь, свалился в окоп. Шинельная скатка смягчила удар, и он, словно парализованный, обреченно застыл на ней, запрокинув голову и закрыв глаза. «Как хорошо, что ничего этого не видит Раечка», – мелькнуло в его сознании, и тут же все исчезло – и Раечка, и бой, и перекошенный криком рот сержанта, и ослепительное солнце, умудрившееся нацелить свои раскаленные лучи прямо в окоп.
Он не видел, как после недолгого затишья роту в третий раз подняли в атаку, не слышал, как ротный хрипло и остервенело матерился, подгоняя замешкавшихся в окопе бойцов, не слышал, как снова хряснули мины о задубеневшую, сухую, давно не принимавшую в себя дождя землю. Не видел, как рота опять схлынула с высоты в свои траншеи, и не знал, что теперь уже от нее остался едва ли один взвод.
Очнулся Мишка лишь тогда, когда кто-то из бойцов выволок его из окопа и швырнул, как нечто неживое, о колючую, звенящую на диковатом ветру траву.
– Видали, братцы? – возмущенно, по-петушиному прокричал боец. – Мы кровь проливаем, а он на чужом хребте – в рай!
– Кухня придет – враз оклемается, – услужливо подхватил кто-то.
– Комроты доложить надобно! – решительно произнес третий. – Таких – на распыл! Перед строем!
– «Перед строем!» – передразнил, кукарекнув, первый. – Кого строить будешь?
Мишка открыл тяжелые веки. Лилово сиял закат, и прямо на нем огненно, намертво и как бы навечно впечатавшись в чужое, непонятное небо черным проклятьем, распростерся огромный тяжелый крест. Купола церквушки, стоявшей на той самой высотке, которую безуспешно пыталась отбить у противника рота, он не видел и потому со страхом и отчаянием смотрел на этот, непонятно откуда возникший тяжелый крест – страшный в своем таинстве.
– Молчит, паскуда! – возмутился тот, что вытащил его из окопа.
Мишка пошевелил непослушными губами.
– На шепот перешел, – ядовито прозвучал скрипучий голос. – Здесь, едрена мать, шепот немодный.
– Ребята, что со мной? – чуть громче выдавил Мишка. – Как получилось? Убейте меня, не помню...
– Рассказывай байки! – зло оборвал чей-то бабий голос.
– Вы чего это? – густым басом рассудительно спросил человек, видимо только что подошедший к окружавшим Мишку бойцам. – Да он же контуженый! Совсем озверели? Так звереть надо к тем, кто на этой окаянной высоте сидит. Его в медсанбат надо, да где тот медсанбат...
– Больно ты, сержант, солома-полова, жалостливый, – угрюмо произнес тот, кто выволок Мишку из окопа. – Ты лучше тех пожалей, кто на высоте полег. Этот с перепугу в штаны наклал.
– В бою его видел? – без запальчивости спросил сержант. – А вот ты, Гридасов, свой первый бой уже начисто, видать, запамятовал. Хочешь, напомню?
– Чего напоминать-то? – сник Гридасов.
– Есть чем. А Синичкина я видел, рядом со мной на высоту карабкался. А что на третьем заходе сломался, так и не такие, как он, ломаются.
Возбужденный, на высоких нотах, разговор затухал. Бойцы валились на землю, потные, горячие тела обдавало порывистым, схожим с осенним, ветром. Вмиг накатывалась обвальная дремота. Для того чтобы доказывать что-то свое, не было ни сил, ни желания, ни воли.
– Вот, пожуй, Синичкин, – мягко сказал сержант и протянул к его губам черный сухарь. – Подкрепись. Кто знает, может, ротный опять в атаку поднимет. И поимей в виду: второй раз защитить тебя не смогу.
– Спасибо, товарищ сержант, – растроганно произнес Мишка, пытаясь раскусить крепкий, как камень, сухарь. – Второго раза не будет. Клянусь вам здоровьем Раечки...
– Какой еще Раечки? – насторожился сержант, думая, что Мишка бредит.
Мишка смущенно закашлялся, почувствовал, что краснеет, и, стыдясь своего состояния, отвернулся.
– Ты это брось, – беззлобно продолжал сержант. – При чем тут Раечка? Ты присягу принимал? Принимал. Вот это и есть твоя клятва. А за Раечку будешь думать после войны.
– После войны... – точно эхо повторил Мишка. – Сколько же надо вот таких высоток отбить, чтобы «после войны»?
– Подсчитаешь, солома-полова, – кукарекнул вдруг Гридасов. – Еще первую не отбил...
Ему никто не ответил. Если бы не ветер, по-звериному жадно лизавший сухую траву, то вокруг – и над безжизненной деревушкой, и над высотой, словно помертвевшей от оцепенения, и над окопами, и над дальними, окаймлявшими горизонт лесами – стояла бы глухая, безъязыкая и тяжкая тишина.
На какой-то миг Мишке Синичкину почудилось, что теперь уже навсегда кончилась война – отстрекотали автоматы, отлаяли минометы, отлязгали танки, отревели пикирующие бомбардировщики. Казалось, что не было никакой войны, а все происходившее с ним – и первая и вторая атаки, и контузия во время третьей атаки, – все это привиделось ему в дурном, кошмарном сне. И деревушка, и церковь на высотке, и страшный черный крест, впечатавшийся в огненно-лиловый горизонт.
Мишка лежал теперь уже один у окопа, и все еще никак не мог понять, почему молчит пулемет, поливавший их нещадным огнем с колокольни церквушки. И почему, если молчит пулемет и молчат минометы, ротный не поднимает их в новую атаку? Может, и ротного уже нет в живых? Но в таком случае поднять роту может любой командир взвода и даже сержант. Значит, они тоже лежат сейчас на звенящем ветру, будто прикованные к этой неласковой, шершавой земле? Мишка ждал их команды, как избавления от мучившей его совести. Главным для него стало доказать всем этим людям – и Гридасову с его петушиным тенорком, и тому незнакомому бойцу, который требовал пустить его, Мишку, на распыл, да еще не как-нибудь, а перед строем роты, и даже сержанту Малышеву, пожалевшему и защитившему его, – что он, ротный писарь Михаил Синичкин, не трус и храбрости ему не занимать, и что Раечке никогда не будет за него стыдно. Сейчас, в эти минуты, у него не было никаких желаний, кроме одного, всецело овладевшего им, – услышать хриплый, диковатый голос ротного: «За мной, в атаку, вперед!» И он, красноармеец Синичкин, первым выполнит эту команду и не остановится на пути к высоте даже затем, чтобы отдышаться и хватануть пересохшим ртом глоток колючего ветра. Теперь его сможет остановить только пуля, но он, Мишка Синичкин, верит в свою судьбу, верит потому, что последними словами Раечки, которые она жарко прошептала ему на ухо еще там, на нальчикском вокзале, в тот миг, когда эшелон уже лязгнул буферами и медленно, как бы раздумывая, поплыл мимо перрона, были слова: «Я заколдовала тебя. Заколдовала!» И Мишка настолько поверил в это, поверил, как в заклятье, что воспринял их как некий талисман, способный уберечь его и спасти в любую грозу. Свистела у самого уха огненной осой трассирующая пуля, с адским шипением, как натянутую парусину, распарывал воздух над головой снаряд, а Мишка повторял как одержимый то мысленно, а то и вслух Раечкины слова: «Я заколдовала тебя!», и они, эти волшебные слова, сбывались – все пули и все осколки проносились мимо, не задевая его.
«Я не погибну, не погибну, – шептал он, – не может быть, чтобы колдовство Раечки не спасло меня в самом страшном бою». И он уверовал, что пройдет всю войну – от ее первой до последней минуты – и останется цел и невредим. Иначе и не может быть, ведь у него есть Раечка, ждущая его возвращения, и если с ним случится беда, она не выдержит, не перенесет страданий. И Мишка, думая об этом, уже боялся не столько за себя, сколько за Раечку.
Думы о Раечке наполняли душу Мишки тихой, затаенной и светлой радостью, от которой его жизнь даже здесь, на войне, в окопах, под пулями, под июльским зноем, казалась желанной. Они побеждали возникавшую в сердце тоску, вселяли надежду в свою неуязвимость.
Если правомерно то обстоятельство, что любому человеку, даже храбрецу, сколько бы он ни воевал, трудно, а точнее, невозможно привыкнуть к войне по той простой причине, что война угрожает человеку гибелью в любой миг его жизни, то по отношению к Мишке Синичкину это обстоятельство было во сто крат правомернее. С простодушной, почти младенческой, наивностью он убеждал самого себя в том, что война эта не надолго, что вот-вот придет день, в который не только их изрядно потрепанная в боях рота, но и весь полк, и дивизия, и армия, и фронт, подсобрав силы, в едином порыве навалятся на врага и погонят его туда, откуда он пришел. То, что рота уже неделю толчется у этой треклятой высоты и никак не может овладеть ею, Мишка считал вполне естественным и нормальным, потому что господствующая высота есть господствующая высота и у противника из-за этого явное и неоспоримое преимущество. Но, по мнению Мишки, это преимущество временное, не может же быть так, что лишь одна их рота будет каждый день по три раза взбираться на эту высоту, откатываться с нее и вновь взбираться. Пришлют подкрепление, и тогда фрицы неизбежно запросят пощады, не помогут им ни пулемет на колокольне, ни миномет за кирпичной стеной разрушенного скотного двора, ни губные гармошки, на которых они истерично пиликают по вечерам.
Уму непостижимо, почему немцы держатся за какую-то убогую высоту, будто именно от нее зависит исход всей войны. Другое дело – наша рота. Из таких вот высоток состоит вся земля русская, и отдать хотя бы одну в руки врага – все равно что живое тело отдавать по частям – сперва палец, потом ладонь, а потом и всю руку.
Мишка вдруг почувствовал прилив сил и понял, что сможет встать на ноги. Здесь, за бугром, в лощине, это было почти безопасно – не станут же немцы стрелять из пулемета по одному-единственному бойцу. Оторвав голову от земли, он сел, как бы проверяя свои возможности, растерянно огляделся вокруг и, опираясь на вытянутые назад ладони, медленно и надсадно, как после тяжелой болезни, встал – сперва на колени, а потом и на ноги. В первый момент было такое ощущение, будто это вовсе не его ноги – они одеревенели и не слушались. Его пошатывало, и все же Мишка был рад, что способен стоять на ногах, не прибегая к посторонней помощи.
Медленно, боясь, что его снова притянет к себе земля, он приподнялся и встал на колени. Шинельная скатка душила его, но не было сил перекинуть ее через голову и избавиться от тяжелой ноши. Так он и встал на ноги – в скатке через плечо и с винтовкой в руке, которую не выпустил даже тогда, когда терял сознание. Качаясь, пошел нетвердым, спотыкающимся шагом младенца туда, откуда доносился громкий, порой взрывчатый разговор.
За изгибом лощины он увидел спорщиков: то были сержант Малышев, Гридасов и еще какой-то незнакомый Мишке боец. Малышев сидел на трухлявом пеньке и, казалось, безучастно наблюдал за тем, как Гридасов, отчаянно и бестолково размахивая длинными руками, пытался что-то доказать понуро стоявшему напротив него низкорослому, с широкими покатыми плечами бойцу. Не доходя до них, Мишка остановился. Ему страсть как хотелось сесть на небольшой взгорок, но он опасался, что если сядет, то уже не сможет подняться.
– Брать высоту? – подкукарекивал Гридасов, вопрошая не то сержанта Малышева, не то понурого бойца. – Вы что, братцы, солома-полова, белены объелись? На кой ляд она нам нужна? Сколько ребят уже на ней положили, а толку чуть!
– А приказ? – не очень уверенно спросил боец.
– Приказ? Какой, к ляху, приказ? Кто его тебе отдавал?
– Комроты, – осмелился поднять глаза и посмотреть прямо в лицо Гридасову незнакомый Мишке боец.
– «Комроты»! – зло передразнил его Гридасов. – А где он, солома-полова, твой комроты? И где та рота? Вон они где! – И Гридасов ожесточенно ткнул длинным, костлявым пальцем в сторону церквушки. – Ни комроты, ни самой роты, считай, нетути. Теперь мы сами себе командиры! Ежели охота тебе переть на эту самую высоту – на здоровьице! Я тебе не мешаю. А только и ты мне не мешай, а то горло перегрызу!
– И куда же ты попрешь, Гридасов, если не на высоту? – тихо, чеканя каждое слово, спросил Малышев.
– А то мое личное дело, – кукарекнул Гридасов.
– Ой, нет, родимый ты мой, не личное! – повысил голос Малышев и с силой похлопал тяжелой ладонью по кобуре пистолета. – Ох, не личное!
– А ты меня не стращай! – заорал Гридасов. – Я не из твоего отделения! Ты вон, солома-полова, своими командуй, которые на скате лежат. Только встанут ли? И кто ты такой, чтобы меня стращать?
Малышев встал с пенька. Обычно добрые, будто подсиненные под цвет ясного неба, глаза его ярились гневом.
– Хочешь знать, кто я? – с тихой силой глухо спросил Малышев. – Командир роты, понял? Мог бы и сам допетрить.
Гридасов гулко, будто из пустой бочки, неестественно расхохотался:
– Ну, сержант, ты даешь! Ну и хохмач ты, сержант! Это что же: самозванцев нам не надо, командиром буду я? Силен, бродяга, а? – попробовал поискать поддержки у понурого бойца Гридасов.
– А что? – вдруг горячо, возбужденно вспыхнул боец. – Комроты и есть! Что такое мы без командира? Сброд!
– Пигмеем ты был, солома-полова, пигмеем и останешься, рядовой-немазаный Романюк, – презрительно процедил Гридасов, и его толстая нижняя губа брезгливо отвисла.
– А ты кого хочешь спроси! – запальчиво воскликнул Романюк, не придав значения оскорбительным словам Гридасова. – Всех, кто в живых остался, спроси! Вон Синичкин стоит, ты и его спроси!
Гридасов лениво обернулся в ту сторону, где стоял Мишка, криво ухмыльнулся:
– Стану я его спрашивать! С дезертирами не разговариваю!
– А сам в дезертиры навострился? – хмуро спросил Малышев. – Если хочешь знать, Синичкин понадежнее тебя.
От этих слов кровь прилила к Мишкиному лицу, и он пожалел, что оказался так близко.
– Да ты подойди, – с мягкой настойчивостью проговорил сержант. – Совет держать будем.
– Военный совет в Филях! – ехидно кукарекнул Гридасов.
Мишка, с трудом переставляя негнущиеся, неподатливые ноги, стронулся с места.
– Обмотку-то наверни, вон, как гадюка, за тобой ползет, – осклабился Гридасов. – Тоже мне боец, солома-полова!
Малышев терпеливо дождался, когда Мишка приковыляет к ним, скрутил махорочную цигарку, закурил и заговорил неторопливо, рассудительно, как-то совсем по-домашнему.
– В Филях так в Филях, – без язвительности согласился он с Гридасовым. – Только, известное дело, в Филях Кутузов решал. – Чувствовалось, что перед Гридасовым он хочет показать, что тоже не лыком шит.
– А под Тарасовкой – полководец Малышев! – кукарекнул Гридасов, скорчив глупую рожу. – Фельдмаршал, солома-полова...
– Значит, так, – милостиво пропустив мимо ушей колючие слова Гридасова, продолжал Малышев, – обстановка на сегодняшний день складывается такая. Немец уже далеко за Тарасовку попер. Мы, можно сказать, у него в тылу. Ему, немцу, с нами возиться – только время терять. Но опять же он себе на уме: а вдруг с наступлением осечка? Тогда и Тарасовка ему манной небесной покажется. Вот он и сообразил оборудовать здесь опорный пункт. На колокольню – пулемет, на скате танк в землю зарыл – дот получился – люкс! Ну и отделение автоматчиков, как резерв. Вот и пораскинем мозгами – какой у нас с вами выход? Как ты соображаешь, Синичкин?
– Брать высоту! – выпалил Мишка. – Пусть все поляжем, а высоту возьмем!
– Расхрабрился, припадочный, солома-полова! – взъярился Гридасов. – Он тебе из танка возьмет!
– Верно говорит Синичкин! – запальчиво поддержал Мишку Романюк. – Есть приказ командира роты. А приказ надо исполнять – и баста!
– Ну, предположим, что обойдем мы эту раскудрявую Тарасовку, – рассуждал словно бы сам с собой Малышев, не глядя на них. – Как мы пробьемся из окружения? От собаки бежать – загрызет. Силенок у нас – взвода не наберешь.
– А на высоту лезть силенок у тебя хватит, геройский сержант? – торопливо перебил его Гридасов.
Вслушиваясь в то, что говорил Гридасов, Мишка поймал себя на мысли о том, что и в манере разговора, и в браваде, и в стремлении подначивать Гридасов чем-то очень схож с Кешкой Колотиловым. Вот только внешний вид у него совсем другой – нескладный, лицо язвительное, некрасивое.
Малышев долго молчал. Потом сбросил рыжую, промокшую от пота пилотку, зачем-то взъерошил почти такие же рыжие волосы, перекусил поднятую с земли соломинку крепкими, будто отполированными, зубами.
– Синичкин прав, – уверенно сказал Малышев. – И Романюк прав. Брать высоту – другого выхода нет.
– Очумел ты, Малышев, солома-полова...
– Брать, но с умом. В атаку не пойдем.
– А как? – нетерпеливо спросил Романюк и сел рядом с Малышевым, словно боялся, что не расслышит всего, что тот будет говорить.
– А вот так, – как бы припечатал свое решение Малышев. – Распределим, кто что будет делать. Гранаты у нас есть? Есть. Вот ты, Гридасов, самый сильный, как тьма на землю ляжет, возьмешь связку гранат – и к танку. По-пластунски.
– Еще чего! – обозлился Гридасов. – Нашел самого сильного, солома-полова! Сам-то небось издаля будешь наблюдать, как Гридасов кишки рвет?
– Тебе, Гридасов, такого важного дела доверить нельзя. Гранат жалко. С танком я сам справлюсь, – спокойно сказал Малышев и спросил:
– Ерохин и Карпенко живы?
– Куда они денутся? – усмехнулся Гридасов. – Они как заколдованные.
Мишка вздрогнул от этих слов, точно они относились и к нему. «Нет, нет, это не они, это я заколдованный», – хотелось сказать ему, но перед ним, как бы наяву, возникло лицо Раечки, и он забыл обо всем.
– Ерохин учился в школе снайперов, – сказал Малышев. – А Карпенко – отличный стрелок, с нашей заставы.
– С какой еще заставы? – недоверчиво осведомился Гридасов.
– С пограничной, – словно говорил о самых обыденных вещах, ответил Малышев. – Не видишь? – И он показал рукой на свои петлички.
Мишка изумленно всмотрелся в воротник его гимнастерки. После того как эта гимнастерка побывала и на жарком солнцепеке, и на проливных дождях, после того как проползла вместе с сержантом по глинистой неласковой земле не один десяток километров, трудно, почти невозможно, было различить цвет петличек, но что-то схожее с цветом весенней травы в них еще теплилось.
– Фуражку жалко, фуражку, когда в разведку ходил, потерял. В горячке не заметил. По дурости потерял, – сокрушенно говорил Малышев. – Короче говоря, братцы, построим всех, кто остался, на боевой расчет. Как на заставе.
Мишка вдруг подумал: до этой минуты Малышев никогда не говорил, что он служил на границе. Другой на его месте уже бахвалился бы почем зря. Такой, как Гридасов. Зато теперь, когда они попали в отчаянное положение, когда надо было найти самый верный выход, сказал о том, что он пограничник, и время от времени повторял: «Как у нас на заставе».
Романюк, получив задание Малышева, ошалело сорвался с места и помчался собирать остатки роты. Вскоре возле Малышева сгрудились два десятка бойцов, часть из них – раненые. Небритые, с прикипевшей на лицах пороховой гарью, бойцы хмуро, но еще с незатухшей надеждой смотрели на сержанта.
Малышев встал, резко одернул гимнастерку, лихо расправил складки, набежавшие на пряжку ремня, и начал говорить каким-то чужим голосом – властным, суровым и непререкаемым.
– Слушай, боевой расчет, – чеканил Малышев. – Воевать будем только ночью. Днем – отсыпаться в укрытиях. Ерохину и Карпенко – снять пулеметчика с колокольни. По-снайперски, как у нас на заставе. Посадят другого – снять и его. А только чтобы пулемет этот, – возвысил голос Малышев, – замолк, и – навечно! – Он выдержал долгую паузу и без перехода сердито спросил: – Саперы есть?
– Есть! – послышались голоса.
– Саперам – разминировать скаты, сделать проходы на высоте, с тыльной стороны. Атаковать будем, когда он нас поливать свинцом не сможет.
Он сделал долгую паузу и, стараясь не смотреть в сторону Гридасова, твердо добавил: