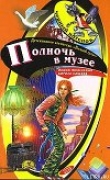Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Кешка, Тося и луна
Вышло так, что одним из уцелевших во время бомбежки эшелона орудий было то, которым командовал Иннокентий Колотилов.
Когда «юнкерсы», облегчив себя, сбросили бомбы и, злорадно выставляя свою безнаказанность, ушли за горизонт, всюду – и на полотне дороги со вздыбленными, исковерканными рельсами, и в ближней роще, где в пламени метались березы, – нависла тяжелая, опаленная солнцем тишина, прерываемая стонами раненых и паническим ржанием коней. Если во время бомбежки стоял грохот, истерически выкрикивались команды, перемешанные со злой руганью, то сейчас люди, придавленные всем происшедшим, замкнулись, ушли в себя и будто онемели.
Оправившись от паники, бойцы начали сгружать орудия с платформ и подтягивать их к большаку, который то круто уходил от железной дороги, то еще теснее прижимался к насыпи.
Первая бомбежка горячей взрывной волной разверзла восприятие жизни на две непримиримые, враждебные друг другу части: на мир и на войну. Все, что было с бойцами до взрыва первой бомбы, было лишь условным, а потому во многом неверным ощущением войны, но еще не самой войной, было тем мирным, самоуверенным и беспечным состоянием, когда человек воспринимает опасность смерти как нечто нереальное, непосредственно к нему не относящееся. Это были еще лишь мечты о том, как мужественно поведет себя человек в бою, словно бы застрахованный от вражеских пуль и осколков, а не сама реальность. В настоящем же бою человек, впервые опаленный смертным дыханием войны, вдруг открывает в себе новые черты характера. Открыв их, он либо восторгается, либо ужасается этими чертами, либо просто смиряется с ними как с фатальной неизбежностью.
Совершенно неожиданное открыл в себе и Кешка Колотилов, когда три «юнкерса» сбрасывали на эшелон бомбы. Распластавшись на горячей траве и пытаясь впечататься в землю, чтобы спастись от гибели, Кешка вдруг почувствовал, что его обуял страх – отчаянный страх за свою жизнь. Сейчас, в эти минуты, весь мир – и солнце, и людей, и всю землю – затмила от него единственная, ошеломляющая своим могуществом мысль о спасении, о том, чтобы выжить в аду бомбежки, знать и чувствовать, что по-прежнему, как и до взрыва бомбы, бьется сердце, дышат легкие, видят глаза, слышат уши, повинуются ноги и руки.
«Сейчас осколок вопьется в тебя – и все! – в ужасе взвихривались мысли в голове у Кешки. – И все! И тебя не будет! Небо будет, и солнце будет, и Анюта будет – а тебя не будет! Ты исчезнешь, превратишься в прах, и вороны будут каркать над тобой...»
Сейчас для него перестало существовать все – и бойцы, сновавшие возле горящего эшелона, и сам эшелон, и все, что происходило на земле в эти пугающие своей мрачной бесконечностью тягостные минуты бомбежки. Существовал только он сам, и существовало его стремление наперекор судьбе остаться в живых, существовало то, что было нацелено лично против него – гитлеровские самолеты и бомбы низвергающиеся на эшелон, то, что стремилось стереть его, Кешку Колотилова, с лица земли.
Самолеты уже скрылись, а Кешка все еще не мог поверить в реальность того, что небо вновь не обрушит на него смерть, и потому не мог заставить себя подняться с земли. Бойцы уже сгружали гаубицы, впрягали в передки уцелевших коней, перетаскивали подальше от горевших вагонов ящики с боеприпасами, мешки с овсом, катили железные бочки с горючим, а Кешка все еще прижимался к земле, будто надеялся на то, что она укроет его и спасет от новой бомбежки.
Все были заняты делом, казалось, Кешку никто и не замечал. Наконец он медленно, озираясь по сторонам, поднялся, ощущая уже не столько страх, сколько обиду на то, что никто даже не поинтересовался, что с ним произошло. «А если бы ты был ранен или убит? – с горечью подумал Кешка. – Никому, оказывается, ты не нужен. Песчинка во Вселенной!»
Однако долго размышлять было некогда – Кешку уже втянуло в тот водоворот, который всегда образуется после воздушного налета и в котором необъяснимо смешиваются растерянность и собранность, радость от того, что беду пронесло, и горечь от того, что уже лежат ничком – кто распластав руки и ноги, кто сжавшись в комок, будто не хватило земли, чтобы лечь по-человечьи свободно и раскованно, – первые жертвы, те самые ребята, которые только что смеялись и пели, ругались и курили, балагурили о девчатах. Странно, что сейчас Кешку не мучил вопрос: кого убило? Не потому, что он не хотел об этом знать, а потому, что страшился ответа на этот вопрос, как бы опасаясь, что, называя фамилии убитых, вдруг назовут и его. А может, те, кто лежит сейчас на истекающей горьким дымом земле, так же, как и он, не решаются встать?
Увидев, что пятеро бойцов, упираясь сапогами в сыпучий грунт косогора, спускают гаубицу вниз, к большаку, Кешка подбежал к ним и с налету пристроился к свободному месту у станины. Казалось, никто не обратил внимания на его внезапное появление, а сам он вначале даже не взглянул на лица бойцов. Они с большим трудом, напрягаясь так, что на спинах под черными от пота гимнастерками вздувались мускулы, едва сдерживали тяжелое, неподатливое орудие, готовое своенравно вырваться из их рук.
Когда орудие наконец оказалось на пыльном ухабистом большаке, взмыленные бойцы повалились на траву. Только теперь Кешка понял, что это его гаубица и его расчет. Значит, повезло ему с первого дня войны! Но радостное чувство охлаждала мысль о том, что все, что происходило во время бомбежки, могло произойти и без его участия. Ведь он был занят самим собой, и за все время – с того момента, как резко затормозил паровоз, растревожив окрестности протяжным, словно молящим о пощаде гудком, как прозвучала команда «Воздух!», и до той минуты, как «юнкерсы» растаяли в небе, – он, Кешка, не отдал своему расчету ни единого распоряжения. Сейчас, растерянно грызя стебелек травинки, он ждал упреков, язвительных насмешек, но никто не сказал ему ни слова.
– Вот и приехали, – тяжко вздохнул кто-то из бойцов. – И пальнуть не успели.
– Зато он нам разгружаться помог. Не прилети он, сколько бы копались, – усмехнулся наводчик Саенко – высоченный костлявый боец, которому во время наводки орудия никогда не удавалось укрыться за щитом.
– Да, влепил он нам, – сказал заряжающий Тихомиров. – Из батареи двух орудий как не бывало. И стрельнуть не успели.
– Злее будешь, – жестко проронил Саенко. – Небось мамку с тятькой вспомнил?
– А ты небось не вспомнил? Ну, герой! – разозлился Тихомиров.
– Еще как вспомнил! – весело откликнулся Саенко. – И не только тятьку с мамкой. Господа бога вспомнил!
«И они еще шутят, зубоскалят», – с неприязнью и удивлением подумал Кешка, вслушиваясь в этот разговор.
Мысли его прервал возглас старшего на батарее Селезнева – молодого поджарого лейтенанта, вдоль и поперек затянутого новенькими, сверкающими лаком и при каждом движении скрипящими ремнями. Лейтенанта выпустили из училища досрочно, всю дорогу, пока ехали к линии фронта, он петушился, командовал звонко, азартно. Сейчас голос его осел, и сам он как-то обмяк, будто враз постарел. Но ремни все так же скрипели, и он то и дело резким движением больших пальцев рук разгонял складки на новенькой гимнастерке, настырно собиравшиеся под ремнем.
– Командиры орудий, ко мне! – Эта команда, столько раз повторявшаяся в том, теперь уже не существующем, мирном времени, прозвучала сейчас как нечто противоестественное тому, что происходило вокруг.
Горели теплушки, как-то странно накренившись, безжизненно застыл на рельсах паровоз, все еще дыша остатками пара; беспокойно прядали ушами и нервно встряхивали гривами кони; недвижно, будто в непробудном сне, лежали убитые. И потому до Кешки не сразу дошел смысл команды; он услышал ее, но не воспринял как требование, относящееся к нему. В то время как двое сержантов из четырех (один командир орудия был ранен во время налета) уже стояли перед старшим на батарее, обозначая собой максимум внимания, Кешка продолжал безучастно сидеть на станине гаубицы.
– Командир третьего орудия! – раздраженно воскликнул Селезнев. – Колотилов! Где Колотилов? – нетерпеливо словно от наличия Колотилова зависел исход боевых действий, повторил он, и только теперь Кешка, будто возвратившись на землю из небытия, понял, что зовут именно его.
– Колотилов, вам особое приглашение? – ядовито спросил старший на батарее, когда Кешка подбежал к нему.
Кешка молчал, глядя прямо в глаза старшему на батарее, и тот осекся, то ли остановленный этим жалким вопрошающим взглядом, то ли не имея возможности развивать свою мысль о последствиях неисполнительности в условиях фронтовой обстановки.
Старший на батарее заговорил совсем иначе, чем это было в том, мирном, времени. Каждое его слово звучало сейчас как откровение, таящее в себе опасность. Он передал приказ комбата сосредоточиться на окраине деревни, название которой тут же улетучилось из Кешкиной головы, оборудовать огневую позицию и ждать дальнейших распоряжений. На месте вынужденной разгрузки оставалось лишь с десяток бойцов, которым предстояло похоронить убитых.
– А та станция, где мы должны были разгружаться, уже у немцев, – шепнул Кешке словоохотливый командир первого орудия Лыков, когда батарея, поднимая сухую пыль, наконец вытянулась на большаке.
Кешка нервно стрельнул по нему глазами, как бы прося его не продолжать делиться с ним своими страшными новостями, но тот не унимался:
– Что́ станция, я тебе такое скажу... – Он перешел на шепот: – Немцы Минск взяли...
– Чего мелешь? – оборвал его Кешка. – Сорока на хвосте принесла?
– Мелко плаваешь, Иннокентий, – покровительственно похлопал его по плечу Лыков. – И нос задираешь. Здесь тебе, малыш, не рота писарей. Здесь, между прочим, стреляют.
Кешку передернуло от такой наглости. Привыкший ко всем относиться с иронией, он не переносил такого обращения с самим собой.
– И ты, Иннокентий, запомни, – продолжал накалять его Лыков. – Тебе со мной тягаться бесполезно. И в высшей степени бессмысленно. И по части того, что происходит на фронтах. И ежели придется по танкам прямой наводкой. Ты, дорогуша, запомни: я или голову сложу, или вернусь домой с Золотой Звездой Героя. А ты, Иннокентий, создан только для мирной житухи. Загрызет тебя война, малыш.
– Не тебе об этом судить! – запальчиво возразил Кешка.
– Отчего же не мне? – удивился Лыков, одарив Кешку белозубой, ядреной улыбкой. – Думаешь, не видал, как ты расчетом командовал?
– Ты о чем? – насторожился Кешка.
– А все о том же, – многозначительно протянул Лыков. – О бомбежке...
Батарея вытянулась по большаку, послушно повторяя все его изгибы, и Кешка поспешил за своим орудием, радуясь тому, что может прервать неприятный для него разговор.
Дорога казалась длинной, нескончаемой. Самое неприятное было то, что все окружающее – и лесные рощи, и перелески, и крутые овраги, и дальние деревушки – таило в себе неизвестность. Вроде бы двигались по своей земле, но уже не по привычной – мирной, спокойной и доброй, а по тревожной, знобящей и тяжелой. Бойцы шли понуро, настороженно, часто поглядывая на небо.
Вражеские самолеты в этот день больше не появились. Уже после полудня батарея втянулась в узкую ухабистую улочку будто напрочь вымершей деревеньки, примостившейся на косогоре. Последовал приказ оборудовать огневую позицию на окраине, в яблоневом саду. Яблони были старые, сквозь тяжелую листву они протягивали к небу коряжистые, узловатые ветви.
Гаубице Колотилова выпало стать неподалеку от небольшой скособоченной рубленой избы. Ее почерневшие мшистые бревна выпирали из стен, как ребра диковинного животного. Окна даже при солнечном свете казались незрячими. Только в одном из них сиротливым огоньком горела герань.
Расчет взялся за трассировку и отрытие орудийного окопа с таким рвением и старанием, словно собирался стоять на этой позиции всю войну. Не прошло и часа, как гаубицу уже можно было закатывать в окоп почти полного профиля. Оставалось лишь вырыть траншеи для расчета, погребки для снарядов, укрытие для передка, оборудовать коновязь в роще.
Кешка, успевший обрести устойчивость, споро помогал расчету. Когда работа подошла к концу, он направился к колодцу. Но у колодезного сруба не оказалось ведерка. Кешка свесился через сруб, ощущая холодную близость воды.
– Попейте, – совсем рядом послышался девичий голос.
Кешка обернулся. Перед ним стояла тоненькая, хрупкая девушка в голубом линялом ситцевом платье, трепыхавшемся на ней от порывов ветра. Она была боса, маленькие ступни ног и лодыжки, покрытые золотистым пушком, припорошила пыль. Волосы взвихрило и разметало по оголенным плечам. Чудилось, она была совсем невесомой и вот-вот, подхваченная ветром, взлетит над землей.
Девушка обеими ладонями бережно, как драгоценный сосуд, держала кувшин, по его матовой темно-коричневой поверхности стекала тоненькая струйка молока.
– Попейте, – певуче повторила она, несмело глядя в лицо Кешки. – Я сама доила.
Она протянула Кешке кувшин, а он все изумленно смотрел и смотрел на нее, пытаясь понять, откуда она взялась здесь, в пустой, осиротевшей деревушке, рядом с гаубицами, простершими тяжелые стволы в ту сторону, куда устало и отрешенно скатывалось жаркое солнце.
– Попейте, – почти умоляюще попросила девушка.
Кешка поспешно схватил кувшин, боясь, что она уронит его. Пить ему очень хотелось. Он пил большими, жадными глотками парное, пахнущее свежими сливками молоко, от наслаждения зажмурив глаза. А когда оторвал губы от кувшина и размежил веки, девушки уже не было. Кешка диковато огляделся вокруг, но ни поблизости, ни у крохотной избы, ни возле перелеска не увидел ее. Он долго ждал ее появления, но не дождался. Так и пришел к орудию с кувшином, на донышке которого еще оставалось несколько глотков молока.
Окунувшись в привычные заботы, он на время забыл о встрече. Может, и забыл бы совсем, если бы не Лыков. Он пришел к Кешкиному орудию, как всегда, вразвалочку, довольный собой. Кошачьи глаза его масляно улыбались.
– Ну как? – с лукавой ехидцей спросил он. – Готов к труду и обороне?
– А ты, полководец, готов? – в тон ему задал вопрос Кешка. – Только не обороняться мы будем, а наступать!
– И к наступлению готов, – доверительно понизил голос Лыков. – Знаешь ли ты, малыш, какая деваха скрывается вон в той бревенчатой развалюхе? Продержаться бы здесь до утра, атакую, будь спок!
– Как бы отступать не пришлось, – попытался охладить его Кешка. – Хорохоришься, как петух.
– Чапай никогда не отступал! – блестя воспаленными глазами, хохотнул Лыков и вразвалочку зашагал к своему орудию.
Кешка смотрел ему вслед, поражаясь и завидуя тому, что Лыков и здесь, где вот-вот на них накатит война и где каждую минуту с наблюдательного пункта комбат может скомандовать открыть огонь, живет и мыслит так, будто в их жизни ничего не изменилось.
«А как там сейчас Вадька Ратников? – вдруг обожгло душу Кешке. – А Мишка Синичкин? А Тим Тимыч? Где они? Может, еще и на фронт не попали, да и не попадут вовсе? А может, уже и в живых нет?»
И Кешке вдруг очень захотелось, чтобы все они, владельцы двух последних парт в классе, оказались сейчас вместе.
«Как это прекрасно – дружить, – мечтательно подумал Кешка. – И как тяжко сходиться с новыми людьми».
Старшина уже созывал батарею на ужин, и Кешка вместе со всеми направился к полевой кухне. Повар щедро накладывал в протянутые котелки густую гороховую кашу. Кеша тоже протянул свой котелок, но его с игривой заносчивостью оттер своим мощным плечом Лыков.
– Командиру первого орудия положено без очереди, – назидательно изрек он и, подмигнув повару, внушительно добавил: – Мне на двоих. И зачерпни с мясом, гений кулинарии!
Кешка промолчал, сжав губы. Даже то, что Лыков своей манерой разговаривать был похож на него, Кешку, но не нынешнего, а того, школьного, вызывало раздражение и неприязнь.
Получив ужин, Кешка уселся на трухлявом пеньке неподалеку от кухни. Мешал молодой гибкий побег, и Кешка пригнул его к земле. Отсюда хорошо была видна тропинка, ведущая к деревне, к той крайней избе, в которой, если верить Лыкову, жила, видимо, та девушка.
Лыков не стал задерживаться возле кухни. Кешка увидел, как он поспешно удаляется по тропинке с котелком в руке. В его походке отчетливо проступали нетерпение и охотничий азарт.
«К ней пошел», – невесело и с завистью подумал Кешка.
После ужина Курочкин, горластый и нахрапистый человек, не любивший делать никаких поблажек своим подчиненным, неожиданно смилостивился и оставил у орудий только наводчиков и заряжающих, а остальным разрешил отдыхать. Кешка примостился на траве у старой яблони. Сняв тренчик со скатки, расстелил шинель, ею же и накрылся. Сон скрутил его почти мгновенно.
Очнулся он оттого, что кто-то осторожно тронул его за плечо. Он в страхе отпрянул в сторону и ошалело осмотрелся вокруг, не понимая, что произошло.
Высоко в небе загадочно и немо сияла почти полная луна, и в ее призрачном, неживом свете Кешка, все еще не веря себе, рассмотрел девушку. Она недвижно стояла вблизи него, будто не на земле, а на легком облаке, плывущем над землей. Это была та самая девушка, что поила его молоком, – высокая, хрупкая и растерянная.
Кешка приподнялся с шинели, все еще не решаясь встать, и изумленно смотрел на девушку, похожую на привидение.
– Ты можешь помочь мне? – негромко и взволнованно спросила она.
– Как? – выдавил он из себя вопрос, сознавая, что спрашивает совсем не о том, о чем надо было спросить.
– Вон там, за садом, есть овраг, – ответила девушка. – Пойдем со мной.
– Зачем? – Кешке еще казалось, что все это происходит во сне.
– Я тебе все расскажу, – настойчиво сказала она, боясь, что он так и не послушает ее. – Там, в овраге...
– Но я не могу уйти с огневой позиции, – продолжал сопротивляться Кешка. – И тебе здесь нельзя.
– Это совсем рядом, – умоляюще сказала она. – Если что, ты тут же вернешься.
– Но зачем? – Кешка наконец встал на ноги.
– Пойдем! Скорее!
Она схватила его за руку и увлекла за собой, сразу же перейдя на бег. Ладонь ее была маленькая, она утонула в широкой ладони Кешки, и он с тревогой ощутил ее горячее, трепетное прикосновение.
Девушка, видимо, хорошо знала дорогу к оврагу. Она бежала впереди, ловко и гибко лавируя между деревьев. Не прошло и пяти минут, как они оказались в овраге, плотно заросшем колючим кустарником. Отдышавшись, присели на траву.
– Спасибо тебе, – почти нежно, с искренней благодарностью произнесла она, и только сейчас Кешка рассмотрел ее большие черные глаза, в которых отражались две крохотные луны.
Кешка молчал, все еще не понимая, за что его благодарят.
– Спасибо, – еще проникновеннее повторила девушка. – Ты не знаешь, почему мы стараемся спастись от малой беды, когда кругом такая большая беда?
– Ты думаешь, я смогу ответить на твои странные вопросы? – Кешка начинал злиться. – Ты хотя бы сказала, кто ты, как тебя зовут.
– Кругом война, – не обижаясь на его раздражение, продолжала девушка, будто говорила сама с собой. – И никто не знает, что с нами будет. А я все пыталась себя уберечь. И мама всегда повторяла: береги себя, береги себя...
– Ты что, бредишь? – взорвался Кешка.
– Тут один ваш... – замялась девушка. – Ну, он приставал ко мне. А я убежала. Может, и не надо было убегать...
– Это – Лыков. С котелком? А в котелке – гороховая каша? Какая скотина!
– Ты веришь в судьбу? – судорожно схватив Кешку за локоть, спросила девушка. – На каникулы я собиралась ехать в Керчь, к тете. А тут вдруг письмо от бабушки. Она захворала. И я помчалась сюда. А тут война... В деревне одни старики. Бабушка померла. Куда мне теперь?
– Тебе надо уходить.
– Уходить? Разве от войны убежишь? Возьми меня с собой.
– Ты в своем уме? – испугался Кешка, боясь, что эта незнакомая и непонятная ему девчонка пристанет к нему как репей.
– Может, и не в своем... – покорно согласилась она. – Как тут будешь в своем...
Она помолчала, ожидая, что скажет Кешка.
– Ты спрашивал, как меня зовут, – неожиданно встрепенулась она. – Тося. Очень простое имя. Легко запомнить.
– Иннокентий, – представился Кешка.
– Иннокентий? – удивилась Тося. – Впервые слышу...
– Почему же впервые? – фыркнул Кешка. – Не такое уж оно редкое.
Он все пристальнее всматривался в Тосю, пытаясь сравнить ее с Анютой. Прежде всего его поразило сходство имен, в этом было что-то неожиданное и роковое. Во всем остальном Тося совершенно не походила на Анюту. Анюта была крупнее, в свои восемнадцать лет она выглядела старше. А Тося – хрупкая, какая-то прозрачная, дунет ветер – и понесет ее, как былинку. У Анюты – светлые, будто солнцем выжженные волосы, загадочный взгляд, ямочки на пухлых щеках, а сами щеки цвета утренней зари. А Тося – смуглая, как черкешенка, с тлеющими угольками пронзительных глаз. Здесь, вдали от гор, посреди среднерусской равнины, возле берез, она казалась чужой.
– Тебе надо уходить, – угрюмо повторил Кешка, словно боялся, что сейчас возникнет Анюта и увидит его с Тосей. – Я дам тебе банку тушенки и сухарей. На дорогу. Уходи, пока не начался бой.
– Хорошо, – покорно согласилась она. – Только посидим немного. Здесь, как подняться из оврага, есть стожок. Пойдем.
И Кешка, зная, что все дальше уходит от батареи, повиновался ей, как будто она обладала какой-то волшебной силой.
Стожок был небольшой, скособоченный, наполовину разметанный ветром, но сено было свежее, еще не прокаленное солнцем, и источало терпкий запах ромашки. Кешка повалился на сено, радуясь, что лицо и шею настырно покалывают сухие стебельки, а нос щекочет от сенной пыли. На миг начисто забылось все – и орудие, ставшее на свою первую огневую позицию, и орудийный расчет, проводивший свою первую фронтовую ночь под огромным лунным небом.
– Это я сама выметала стожок, – похвасталась Тося, садясь рядом с Кешкой. Она одернула платье, безуспешно пытаясь прикрыть им голые коленки. – У бабушки корова была. А я сроду траву не косила. Ты когда-нибудь косил?
– Не приходилось, – нехотя признался Кешка. – Впрочем, не столь уж великое искусство.
– Нет, не скажи! – горячо запротестовала Тося. – Не скажи! Еще какое великое! Вот я поначалу – машу косой, а она, проклятущая, не косит. Я даже плакала от обиды.
– Нашла от чего плакать!
– Ну как ты не понимаешь, это же еще до войны было! Сейчас из-за этого не стала бы плакать. Сейчас все по-другому. И что же будет, ты не знаешь? Ты видишь, они все идут и идут. А наши все отступают и отступают.
– Паническое у тебя настроение, Тося, – назидательно оценил ее слова Кешка. – И слово «отступают» вычеркни из своего лексикона.
– Да я бы с радостью вычеркнула! – искренне воскликнула Тося. – Вон у вас какие пушки.
– Гаубицы, – поправил Кешка.
– Гаубицы, – послушно повторила она. – Вот и остановите немцев, не пускайте дальше нашей деревни.
– И остановим, – пообещал Кешка.
Впрочем, пообещал не очень уверенно. Неуверенность эта проистекала по понятным причинам: Кешка еще не видел ни одного живого фашиста, а его орудие еще ни разу не выстрелило по врагу. Он пребывал в том, непонятном самому себе, неприкаянном и противоречивом состоянии, когда смятение то приглушается надеждой на лучшее, то вновь прорывается в сердце с еще более страшным навязчивым ожесточением.
Луна начала скатываться за горизонт, предвещая раннюю зарю, и Кешка не мог отбросить прочь мысль о том, что вместе с зарей на огневую позицию накатится нечто грозное, зловещее и в судьбе его произойдет какой-то крутой поворот.
Откуда-то с востока, в той стороне неба, где солнце собиралось сменить луну, взметнулся и пронесся над полями и перелесками холодный ветерок. Тося зябко повела плечами и придвинулась к Кешке.
– Замерзла? – участливо спросил он, обнимая ее за плечи.
Тося кивнула, не глядя на него.
– Признайся, Кеша, у тебя есть девушка?
Кешка замялся.
– Значит, есть, – не дождавшись ответа, грустно промолвила Тося. – Красивая? И ты ее любишь?
– Типичные девчачьи вопросы, – презрительно отозвался Кешка. – Но какое это имеет значение для мировой революции?
– Для мировой революции – никакого, – грустно сказала Тося, – а для меня имеет.
Она спрятала лицо, прижавшись к его плечу, и заговорила стремительно и сбивчиво:
– А знаешь, когда я увидела тебя? Еще когда ваша батарея шла по деревне. Меня как кто надоумил. То сидела в подполье, боялась бомбежки. А то к окошку потянуло. Как магнитом. И как раз – вы... Я еще никогда никого не любила... И как это среди всех я заметила именно тебя? Почему? Сама не знаю... – Она вдруг запнулась и спросила осторожно, испуганно, словно боясь его откровенного ответа: – А вдруг тебя убьют, как же тогда она? Как жить будет?
– Кто? – сделав вид, что не понял, о ком идет речь, уточнил Кешка.
– Ну, твоя девушка. Как ее зовут?
– Какая же ты любопытная! Ну, уж если тебе так хочется, изволь: Анюта.
– Анюта? Красивое имя.
Из всего того, что сбивчиво и нервно говорила Тося, Кешка усвоил только то, что она из всех, кого успела рассмотреть через свое окошко, выбрала именно его, и сознание этого обдало его радостной, опьяняющей волной, вызывая гордость и самодовольство.
«А она хороша, – в упор разглядывая ее лицо, схожее с изображением святых на иконах, думал он. – Конечно, в сравнении с Анютой проигрывает».
– Как интересно устроена земля, – будто самой себе сказала Тося. – И люди на ней. Почему мы с тобой встретились? Значит, все, что происходит на земле, – случайность? Но тогда какой смысл жить? И почему люди так ценят жизнь, если и сама жизнь – случайность?
– Самое время философствовать, – едко процедил Кешка. – А война сейчас ради чего? Ради жизни. Иначе зачем воевать?
– Но чтобы сберечь жизнь, нужно, чтобы тысячи, а может, и миллионы, потеряли ее?
– А ты не боишься погибнуть?
Кешка не ожидал этого вопроса. Ему всегда нравилось говорить о подвигах других людей и об их героической гибели. А о своей гибели... Кому нравится говорить о своей гибели! Он не считал такой порядок мыслей ущербным, полагая, что точно так же мыслят все люди, влюбленные в жизнь.
– А кто не боится погибнуть? – ушел от прямого ответа Кешка. – Вот ты – не боишься?
Тося обернулась к нему, и он поразился тому, что это была уже совсем другая девушка. Матовая бледность лица, подсиненная неживым светом луны, исчезла, и теперь лицо ее само излучало свет, но уже живой, ликующий и счастливый, с которым не могла соперничать луна.
– Раньше не боялась. А сейчас боюсь.
– Сумасшедшая! – испуганно отшатнулся от нее Кешка. – Ты же меня абсолютно не знаешь. Я тебя – тоже. Сейчас комбат передаст команду с НП, и я пулей полечу на огневую. А потом батарея сменит позицию. И наверное, ты меня больше никогда не увидишь. И мы никогда не встретимся. Ты хотя бы подумала об этом?
– Подумала! – все так же весело воскликнула Тося. – И ты не бойся! И если останешься жив на этой войне, иди спокойно к своей Анюте. Я не стану навязываться. И никогда не пожалею о том, что случилось.
– Нет, это не укладывается в моей голове, – начал нервничать Кешка. – Ты или дитё, или ненормальная.
– И дитё, и ненормальная, – без обиды сказала Тося. – Какая есть. Такой больше не встретишь. И не волнуйся. Сейчас рассветет, и я уйду.
Кешка расчувствовался, благодарно притянул ладонями ее лицо к себе, погладил жесткие курчавые волосы.
Тося диковато обожгла его почерневшими глазами.
– Давай посидим просто так, молча. И я уйду.
Тося не просто ждала, а мысленно молила Кешку, чтобы он не отпускал ее вовсе или же хотя бы просил задержаться, пока батарея не открыла огонь. Но он молчал, и желание того, чтобы она поскорее ушла, все сильнее овладевало им.
– А что это за дорога? – наконец нарушил молчание Кешка.
Начинало светать, и он приметил неподалеку от стожка наезженную колею среди травы, смутно поблескивавшей холодной росой.
– Эта? – Тося удивилась его вопросу. – По ней на сенокос ездили. И чтоб сено вывозить. Только сейчас вывозить некому. Она прямо на большак выходит. А ты что? Все напоминаешь мне о дороге? Так вот возьму и не уйду. Назло тебе.
– Когда Сократа приговорили к смерти, – задумчиво произнес Кешка, – он обратился к судьям с такими словами: «Но пора нам уже расходиться: мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить. А какая из этих двух судеб лучше, знают только боги...»
– Ты даже Сократа призвал на помощь, чтобы прогнать меня, – горько, с дрожью в голосе, сказала Тося.
– Я не гоню тебя, – не очень уверенно сказал Кешка. – Но сама подумай. Мне давно пора на позицию. Может, там меня уже хватились. Еще посчитают дезертиром.
– Да, тебе пора, Кеша, – как-то растерянно и жалко прошептала Тося. – А знаешь, мы с тобой все равно еще встретимся. После войны.
Она прильнула к нему, чтобы поцеловать на прощание, но Кешка вдруг весь напружинился и стал суматошно оглядываться по сторонам.
– Тихо... – В голосе его прозвучал страх. – Ты ничего не слышишь? Кажется, ветка хрустнула...
Они застыли, не двигаясь. Тишина была сонной, сторожкой, и казалось, ее не нарушал ни один звук. Птицы в перелесках еще не пробовали свои голоса. Молчали собаки в деревне. Не подавали признаков жизни и ранние петухи.
– Тебе почудилось, – успокоила его Тося. – Хочешь, я провожу тебя? Ты обещал мне продукты. А утром я уйду.
Кешка бесшумно встал, протянул руку Тосе. Еще раз огляделся вокруг и не заметил ничего подозрительного. Было по-прежнему тихо. Лишь стало темнее – ночь не хотела уходить бесследно.
Неожиданно где-то у горизонта полыхнуло пламя, и почти сразу же до них донесся протяжный злой взрыв. Потом другой, третий...
– Орудия бьют, – сказала Тося. – Так уже было.
– Фронт приближается, – шепнул Кешка. – Теперь не до прогулок при луне...
Он ускорил шаг, увлекая за собой Тосю. Они уже поравнялись с густым кустарником, как вдруг кто-то невидимый сбил Кешку с ног, навалился на него, будто хотел припечатать к земле. Кешка попытался вырваться из железных объятий – и не смог...
Очнулся он в избе, насквозь прошитой лучами солнца. Ощупал себя слабыми, негнущимися пальцами – гимнастерка была мокрой, струи студеной воды еще стекали на дощатый пол. Кешка дико вскрикнул и закрыл лицо ладонями, будто мог ослепнуть. Медленно отвел ладони, приоткрыл глаза, еще надеясь, что все ему мерещится в дурном сне.
Но все было наяву. Слегка склонившись над ним, стоял, как высеченный из камня, широко раздвинув прямые длинные ноги, огромный, с массивным лицом человек в форме немецкого офицера. Крупные, мощные лодыжки, как броней, были затянуты в глянцево блестевшие голенища хромовых сапог, высокая тулья фуражки почти упиралась в дощатый потолок.
Кешка, постанывая от боли, приподнялся, упираясь ладонями в пол, и почувствовал, что у него не хватит сил, чтобы встать на ноги.
– Ты есть очень слабый вояка... – сокрушенно покачал головой офицер. – Наверное, не занимался спорт. Но у нас очень мало времени.