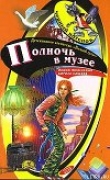Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Анфиса повернулась к нему спиной и скрылась за поворотом, в переулке. Так он и запомнил ее, уходившую – покачивавшуюся от слабости и пережитого, но гордо вскинувшую голову, будто уходила навсегда с этой горькой, полной мук и страданий земли.
Тимофей долго и окаменело стоял на одном месте, не решаясь сойти с него. Потом медленно повернулся к Крушинскому:
– Ты по какому праву? Кто тебя просил?
Но в словах его уже не было злости.
– Лучше стреляйте в меня, – твердо и искренне сказал Крушинский. – Или скажите мне спасибо. Сейчас вы могли убить свое счастье.
Тимофей не то зарыдал, не то истерически захохотал, пошел, шатаясь, по улице, с непокрытой головой, туда, куда скрылась Анфиса.
Но сколько он ни искал ее, так и не смог найти.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Весна двадцать второго года была в Майкопе голодной, но спорой и веселой. Еще болели раны, еще не все мужчины вернулись домой, еще не просохли слезы на глазах матерей, еще почти в первозданном виде зияли своей пустотой покинутые окопы и воронки от снарядов, еще стояли тут и там, пугая своей разверстой оголенностыю, развалины домов, но все равно гражданская война уходила в историю.
Уже в мирные лагеря, для мирной боевой учебы выезжали не привыкшие к тишине и оседлой жизни полки и бригады повзрослевшей в боях и походах Красной Армии.
Антанта, получившая крепкий удар прикладом в зад и убравшись восвояси, с удивлением и опаской поглядывала на подраставшего ребенка – так и не разгаданную ею новую Россию, осиротевшую, как ей казалось, без извечного монарха, – лелеяла мечту не мытьем, так катаньем задушить взбунтовавшийся против «мирового порядка» народ.
Бывшие полководцы Красной Армии в ночные часы, свободные от учений, занятий и совещаний, засели за мемуары, в которых торопливыми, горячими строками спешили запечатлеть опыт минувшей войны, ибо твердо знали, что война эта не последняя, а потому и торопились описать ее как бы в назидание своим преемникам.
Засел за мемуары и барон Петр Николаевич Врангель, с позором изгнанный из Крыма. Первую главу он начал писать еще на яхте «Лукулл», намереваясь завершить весь свой объемистый труд не позднее чем к концу двадцать четвертого года в Сремских Карловицах, что в Сербии, куда забросила его судьба. Он писал с азартом, зло, часто ломая перья от излишнего напряжения и натуги, а также на почве неизлечимого невроза, писал, пытаясь оправдаться перед потомками и наделяя нелестными эпитетами неблагодарную и коварную историю, а также сподвижников своих по белогвардейскому стану. Писал, сводя запоздалые, теперь уже никого не волнующие счеты.
Мирною жизнью дышала страна. Мирною жизнью зажил и Майкоп. Весной двадцать второго года его бесчисленные палисадники, бульвары и скверы благоухали сиренью. Ее охапками тащили девчонки в школу, своим учителям; торговки – на рынок, на бойкие перекрестки и на вокзал, в надежде продать хотя бы по дешевке; охочие до девок парни, спешащие на вечернее свидание в городской парк, где по воскресеньям гремел литаврами военный духовой оркестр.
Соловьи, не умолкавшие до самой зари, оглашали парк и городские окраины ошалело-певучим, теперь уже мирным щелканьем, как бы подтверждая, что ныне если уж и не навсегда, то надолго отгремели выстрелы, суматошные окрики патрулей и что пришла самая пора вить мирные гнезда.
Именно таких соловьев услыхал и Тимофей Дятлов в майскую ночь – в первую ночь, в которую он и Ариша стали мужем и женой. Тимофей то бурно ласкал жену, вкладывая в эти еще непонятные Арише, вызывающие тревожное смятение в ее душе ласки всю свою исстрадавшуюся нежность, всю отболевшую тоску по Анфисе, то принимался горячо шептать ей на ухо слова, от которых ей становилось и стыдно, и сладко, то говорил громко, бесшабашно, чтоб услышала вся Госпитальная улица, как они теперь будут жить, как возьмутся строить новый дом и как народится у них много детей-пострелят.
А едва забрезжила заря, Тимофей встал и вышел во двор. Плеснул в лицо студеной после ночи водой из рукомойника, взглянул на небо. Солнце еще не взошло, но восток начал розоветь.
«Ну и денек сегодня будет, на славу!» – удовлетворенно подумал Тимофей и быстрым шагом поспешил на базар, куда уже с разных направлений тянулись подводы, запряженные лошадьми и быками, устремились хозяйки с сумками и кошелками, нищие с пустыми котомками.
Тимофей шел теперь уже без костылей и радовался жизни. Еще бы не радоваться – нога почти зажила, досаждая только в непогоду, и он чувствовал в себе прилив сил. Горькие думки об Анфисе отдалило время, как бы низвергло их в черную, бездонную пропасть, а судьба взамен подарила ему Аришу – молодую, ласковую, работящую и преданную ему – о какой жене еще можно было мечтать! Зимой Тимофей работал на лесопилке, потом на мебельной фабрике, поднакопил деньжат, и хоть были они, эти деньги, такие, что отдай целую пачку, а взамен получишь коробок спичек, но все же деньги есть деньги, и он чувствовал себя с ними увереннее и спокойнее. Полегчало еще и потому, что ушел от него Крушинский. Вот уже год минул, как пригрела его молодая разбитная вдова, из тех, кто, как ни увертывайся, все одно на себе женит. По странному совпадению жила она в том самом Кривом переулке, о котором Крушинский, искавший пристанища, вычитал в объявлении. Встречаясь с Тимофеем, Крушинский всегда, улыбаясь, вспоминал об этом, а на вопросы отвечал, что все хорошо, Степанида (так звали вдову) кормит его на убой, отвела комнату под мастерскую, а что ему еще надо? Снова Крушинский мог рисовать, правда пока только надкроватные коврики с пейзажами, и Степанида таскала их на рынок, где они пользовались большим спросом.
Тимофей быстро примчался на базар и первым делом устремился туда, где торговали всяческим барахлом. Еще с вечера он загадал купить Арише в подарок красивое платье. Пускай порадуется, заслужила, да и сроду она ничего хорошего и нарядного не носила, все в обносках с чужого плеча. Он так увлекся этой задумкой, что с трудом дождался утра, и теперь мечтал только о том, чтобы нашлось красивое платье, заранее опасаясь, хватит ли у него денег.
Он остановился у лотка, где были развешаны платья, пытливо и дотошно всматриваясь в них и все не решаясь, на каком остановить свой выбор. Платья казались ему одно красивее другого, да только какое из них понравится Арише? «Вдвоем надо было прийти, пущай бы сама и выбирала, – подумал Тимофей, но тут же возразил сам себе: – Надо, чтоб сюрприз был, тогда и радости будет больше».
Наконец он остановился на ярком, цветастом платье. «Вот это в самый раз, – отметил он. – Чего еще молодой бабе надо, как не цветы?» Он попросил продавца подать ем платье.
– Французский маркизет! – гордо и значительно возвестил длинный как жердь продавец, ловко стеля платье прямо на протянутые руки Тимофея. – Прямым ходом из Парижа!
– Знаем мы ваши Парижи! – насмешливо охладил его Тимофей. – Думаешь, как мужик, так ни хрена в этом деле не кумекает? Ты лучше цену назови.
Продавец назвал. Тимофей чуть не икнул – за платье надо было отдать почти все деньги, заработанные им за целую зиму. «А что мы с ней лопать будем? Поцелуями живот не набьешь», – растерянно подумал Тимофей, собираясь вернуть платье, сославшись на то, что не подходит размер или же расцветка.
– Красота-то какая! – раздался позади Тимофея женский голос. – За такое все, что хочешь, отдам!
Тимофей обернулся. Перед ним, восхищенно глядя веселыми дерзкими глазами то ли на платье, а скорее всего, на Тимофея, стояла молодая женщина. Она скалила крепкозубый рот в ослепительной улыбке.
– А ну, примерь, – попросил Тимофей, протягивая ей платье.
– Тю! – воскликнула она. – У тебя что, глаз нету? Да если я его надену, так оно враз треснет по всем швам. Ты что, не видишь, какая я справная да гладкая?
– Верните, гражданин, платье! – разозлился продавец. – Тоже мне, покупатели! – брезгливо добавил он.
Тимофей, не принимая во внимание его слова, приложил платье к плечам женщины.
«Видать, будет как раз, – прикинул он. – А, была не была! Разве ж Аришка не заслужила?»
– Беру! – решительно обратился он к продавцу. – Заверни да тесемочкой перевяжи, чтоб все честь по чести.
– Это мы мигом! – засуетился продавец, радуясь, что с утра пораньше сбыл не очень-то ходовой товар: народишко сейчас все больше у мясных ларьков толчется да возле хлебушка, а этот, видать, богач, деньги некуда девать. Небось на войне-то грабанул...
Тимофей бережно взял сверток и, подмигнув разбитной бабенке, стал протискиваться сквозь толпу к выходу. И здесь, почти у самых ворот, нос к носу столкнулся с Прокофием Федотовым.
– Ба! – едва не заорал тот. – Базар – это, брат, великий сводник! Второй раз мы с тобой на базаре встречаемся. Куда ты запропал?
Тимофей огорчился. Он так спешил к Арише, а тут эта неприятная для него встреча!
– Никуда я не пропадал, – неохотно ответил он. – Это ты обещал заглянуть, а сам исчез – и концы в воду!
– Так я в горы ездил, – криво усмехаясь, оправдывался Прокофий. – А потом в Родниковской жил, дом родительский ремонтировал. Делов – по горло. А ты, я вижу, с покупкой? В самый раз обмыть.
– Некогда мне, – попытался уйти от навязчивого Прокофия Тимофей.
– Э, брат, так не бывает! Идем в чайную, угощаю. Да хоть расскажи, как живешь.
– А чего рассказывать? В другой раз. Живу и живу.
– «В другой раз»! – передразнил Прокофий. – А может, другого раза не будет. Вот пойдешь ты в милицию, болтанешь про свово закадычного дружка Прокофия Федотова – и заставят меня рылом хрен копать.
– Ты по себе не суди, – огрызнулся Тимофей.
– Да я так, для красного словца, – приторно заулыбался Прокофий. – Думаю, если чего, так подтвердишь, что честный я трудящий. Жизня, она, видишь, как крутанулась – к кому передом, а к кому и задом. Ну пойдем! Хоть на часок!
Как ни хотелось Тимофею уйти от его приглашения и не терять времени, не сумел вывернуться из цепких лап Прокофия.
– Ну, ежели только на часок...
– Да чего нам в чайной тереться, вшей собирать, – уже по дороге сказал Прокофий. – Зайдем ко мне домой. Женка в Родниковскую уехала, вот мы с тобой и похолостякуем.
Прокофий жил недалеко от рынка. Они прошли через палисадник, и Тимофей едва не задохнулся от сладостного запаха сирени. Дом у Прокофия был кирпичный, с мезонином, стоял основательно, выделяясь среди неказистых соседних домишек своей внушительной солидностью. «Да, это не то что у тебя – хибара», – подумал Тимофей, с интересом и завистью оглядывая добротное жилье.
Прокофий открыл тяжелую дверь тремя ключами, впустил Тимофея в прихожую. Здесь размещалась вешалка, на ней висели пальто с дорогим воротником, брезентовые плащи. Три ступеньки вели дальше, в коридор, а из него широкие стеклянные двери – в комнаты. Войдя в гостиную, Тимофей чуть не ахнул: на полу и на стене – огромные бухарские ковры, в шкафу – хрустальная посуда и сервизы, над диваном – охотничьи ружья. Увидев, как все это восхищенно и озадаченно рассматривает Тимофей, Прокофий загадочно усмехнулся:
– Вот так и живем, землячок. А что, не заслужили? Воевали за что? И все – своим горбом.
«Рассказывай сказки», – хотелось сказать Тимофею, но он промолчал.
Прокофий быстро собрал на стол. Таких яств Тимофею сроду не приходилось отведать: красная икра в хрустальной вазочке, жареный поросенок на огромном блюде, молодая редиска... Тимофей сглотнул густую, вязкую слюну.
– Здорово ты живешь! – вырвалось у него.
– А то как же? – задорно похвастался Прокофий. – Хочешь – и тебя научу, как жить. А пока сидай, отметим нашу встречу. Оно в жизни как устроено – старый друг лучше новых двух. Верно? Давай за встречу.
Тимофей все эти годы жил трезво: денег едва на хлеб хватало, да и мог он вполне обходиться без хмельного зелья. На чистую голову и жить легче, и здоровье крепче. И потому уже первая рюмка ударила ему в голову, и он набросился на еду.
– Ещь, землячок, не стесняйся. Для тебя мне ничего не жалко, – с жадностью выпивая стопку за стопкой, уверял Прокофий. – Хошь, последнюю рубаху с себя сниму?
Тимофей лишь слегка притрагивался к рюмке, что выводило Прокофия из себя:
– Гребуешь? Не уважаешь?
– Отвык я, – честно признался Тимофей. – От водки душа чужая.
– Как жил-то, расскажи, – наседал Прокофий.
– Обнаковенная у меня жизня. Как видишь, не помер. А живу не так, как ты.
– Ну и дурак! Ты за што про што с беляками рубился?
– За то, чтоб человек человеком стал. И чтоб один на другом не ездил. При царе как было: один с сошкой, а семеро с ложкой.
Прокофий посмотрел на Тимофея так, будто тот малость рехнулся.
– И ты вот так мозгуешь, что все по-другому будет? Ну, видал я придурков, а такого, как ты, – впервой. Инвалид, белогвардейскую пулю в подарок получил, а он – с хлеба на квас. Да ежели б я на твоем месте – давно бы во дворце жил. Пришибленный ты или чего?
Тимофей оттолкнул в сторону тарелку с едой.
– Ты вот чего... – набычился он. – Ты меня не трожь. Что мне положено, Советская власть все даст, не ты. Как на ноги, вроде меня, поднимется. Ты что, не видишь, что она тоже вся изранетая? Ты вот всю жизнь под себя греб. А придет час, призовут и спросют: ты, Прокофий Федотов, какую пользу для нашего молодого обчества принес? Вот и попробуй ответствуй. Небось язык-то и прилипнет.
Прокофий зло сверкнул на него покрасневшими, почти безбровыми глазами.
– Ты меня не пужай! Отвечу, будь спокоен. У меня здеся вот... – Он вскочил из-за стола, подбежал к пузатому комоду, не глядя, выхватил из ящика пачку каких-то бумажек, встряхнул ими высоко над нерасчесанной, начинавшей плешиветь головой. – Вот, читай, ежели грамотный! Здеся все сказано, все пропечатано. И сколько лошадей я в конницу самого Буденного поставил и ни гроша за то не взял, и сколько беднякам, вроде тебя, помог! Читай!
Он совал бумажки прямо под нос Тимофею, но тот отвернулся.
– Прочитают, кому надо, – сухо сказал он.
– То-то! – торжественно кукарекнул Прокофий. – А то он меня пужает!
Прокофий снова спрятал бумаги в комод, прочно уселся за стол, как бы и этим говоря: нет, шалишь, меня с моего места не сдвинешь, пупок надорвешь!
– Ну, хрен с тобой, я на тебя, земляк, не в обиде, – вдруг миролюбиво протянул Прокофий. – Я тебя понимаю, живешь ты несладко. Но у тебя друг есть, можно сказать, закадычный – сам Прокофий Федотов. Ты мне поможешь, я тебя в обиде не оставлю.
– Не надо мне помогать, – с твердостью в голосе сказал Тимофей. – Я и сам как-нибудь. Руки-ноги на месте, голова тоже вроде еще соображает.
– Гляди, какой гордый! – покрутил головой Прокофий, и на его длинной шее отчетливо взбугрились синеватые жилы. Он помолчал и вдруг спросил: – Баба у тебя есть?
– Есть, – неохотно ответил Тимофей.
– Анфиса?
– Нет, не Анфиса.
– Так, выходит, она и не возвернулась к тебе? Выходит, так с беляками и скурвилась?
– Откуда мне знать, – пожал плечами Тимофей.
– Да ты не тужи по бабе: бог девку даст, – подбодрил его Прокофий, ощерившись желтыми зубами, и погрозил Тимофею толстым пальцем: – А вот где она, ты, землячок, должон знать, как дважды два. Сейчас житуха какая? Власть новая, она пронюхает, кто кому хвост заносил. Иль до тебя ничего не доходит? А ежели кто капнет: так, мол, и так, у Тимофея Евлампиева сына женка с белыми путалась? Тогда как? И загремишь ты, земляк, туда, где Макар телят не пас. Очинно просто загремишь!
Только сейчас дошел до Тимофея скрытый смысл его слов. А в самом деле, если кто расскажет, неизвестно, как еще дело повернется. Доказывай, что не верблюд.
– Ноне все могет быть, – тягуче продолжал Прокофий, нарочно растягивая слова и делая длинные паузы, чтобы держать Тимофея в напряжении. – Времечко такое, что лиса и во сне кур считает. И ты на меня, землячок, зверем не смотри. Я как скала. Из меня, – Прокофий ударил себе кулаком в грудь, – клещами не вытягнешь! Я за своих друзей и товарищей родных под пулю пойду!
Он долго всматривался в Тимофея хмельными, с бесинкой глазами, стараясь понять, какое впечатление произвели на него эти слова, помрачнел и, ложась локтями на стол, перегнулся к нему:
– А только и ты за меня, землячок, постой. Оно ведь как? По которой реке плыть, ту и воду пить. Ты за меня – я за тебя. Я, когда белые здесь хозяйновали, мог бы тебя с потрохами продать да еще и деньгу на этом заработать. А не продал я тебя, Тимофей!
– Что-то непонятно гутаришь ты.
– Все понятно! – ликующе воскликнул Прокофий. – Ежели что, я скажу, что твоя Анфиса была у красных и никаких таких белых поручиков на бульварах не видела. А мне хвост кто прищемит – ты подтверди, что я за красных горой стоял.
– Вот оно как...
– А то как же! Ты не думай, ежели ты не согласный, так я и сам вывернусь! Огонь кочерги не боится. А только оно спокойнее на душе, когда друг за дружку горой. Ударим по рукам?
Прокофий, опрокидывая рюмки на стол, сунул ему жилистую волосатую руку. Чтобы отвязаться от Прокофия, Тимофей слегка пожал его потную шершавую ладонь.
– Вот и сговорились, земляк! – обрадованно заключил Прокофий. – Я знал, что ты свой в доску.
– Ну ладно, – привстал Тимофей. – Спасибо за угощение, я пошел.
И он решительно направился к двери.
– Ты заходи ко мне, всегда рад буду. И я к тебе как-нибудь загляну. Ты где проживаешь?
– Да там же, где и жил.
– На Госпитальной? Добро, нагряну к тебе в гости!
– Нагрянешь, так встренем, – уклончиво сказал Тимофей.
Он вышел на крыльцо. Солнце уже успело подняться над городом. Слово за слово, а просидел он у Прокофия порядком. Заждалась его Ариша, совсем заждалась!
Он поспешил домой. Было муторно на душе от неприятного, скользкого разговора с Прокофием. «Надо ж так испортить настроение, как с утра было хорошо!» – подумал Тимофей и прибавил шагу.
Тимофей подходил уже к площади, от которой начинался городской парк, тянувшийся к обрывистому берегу реки Белой, как до него донеслась траурная музыка.
Он прислушался. Музыка послышалась ближе, и была в ней такая невыразимая печаль, что у него захолонуло сердце.
«Хоронят кого-то», – догадался он.
Тимофей по молодости своей не любил похорон и всегда старался обойти траурную процессию. А тут вдруг случилось с ним то, чего никогда не бывало: Тимофея вдруг неудержимо потянуло на площадь, туда, откуда уже гремел, набирая грозную и скорбную силу, похоронный марш.
Он пришел на площадь, когда гроб уже опустили в могилу и засыпали свежей, влажной, дышавшей весенним паром землей. Воздух распорол залп ружейного салюта. «Гляди-ка, на площади хоронют, да еще и с салютом, как на фронте, – удивленно подумал Тимофей. – Небось большой начальник помер, а может, и красный командир».
Тимофей остановился поодаль, не решаясь подойти к месту похорон, где собралась большая толпа и колыхалось на ветру Красное знамя.
«Вот уж в чем все люди на всем белом свете равны, так это в том, что никому еще не удавалось уйти от своего смертного часа», – сам с собою размышлял Тимофей.
Вновь заиграл военный оркестр, теперь уже марш «Прощание славянки». Тимофею и прежде, на фронте, доводилось слушать духовые оркестры – так себе, с хрипотцой, со ржавчинкой, а то и кто в лес, кто по дрова. И все равно хотелось встать во весь рост и идти в атаку на белых гадов. А этот оркестр был слажен, сыгран и голосист. «Да, большого командира хоронят, – снова предположил Тимофей. – Видать, не меньше чем комбрига».
Он подошел поближе. «Может, из наших кого, из буденновцев... – невесело подумал Тимофей. – И война уже, можно сказать, околела, а люди все падают. Долго еще эта война стрелять будет, аукаться».
Подойдя к толпе, он негромко спросил степенного, с седой бородкой старичка:
– Кого хоронют?
– Видать, человека, – отчужденно и скрипуче отозвался старик.
– И без тебя знаю, что человека.
В этот момент караул с винтовками наперевес, чеканя шаг, прошел перед могилой. Оркестр внезапно смолк, и наступила странная тишина. Толпа все еще не расходилась. Тимофей протиснулся между плотно стоявших людей, крепко зажав сверток: чего доброго, в сутолоке свистнут – останется Аришка без подарка!
Наконец он оказался почти рядом с могилой. Над ней возвышался фанерный обелиск с красной звездочкой наверху. В напряженные глаза Тимофея с дощечки резанули черной тушью выведенные слова:
«Анфиса Григорьевна Дятлова. Отважный сотрудник ВЧК – ГПУ.
Даты рождения и смерти слились в глазах Тимофея в единое неразборчивое целое, растворились в мутной пелене. Было такое состояние, будто он враз ослеп. И радовался, как великому счастью, этой слепоте, как избавлению от страшной беды, такой, от которой нет и не будет спасения.
Тимофей пытался снова прочитать надпись, надеясь, что он ошибся, что все это ему померещилось, как в дурном сне, – и не мог.
– От ран, бают, на тот свет рано ушла. Много разов была ранетая, – раздался поблизости женский голос.
«От моих ран ушла ты, Анфисушка! – содрогнулся Тимофей. – От меня, окаянного, смертушку приняла!»
Он чувствовал, что сейчас заплачет навзрыд, заплачет беспомощно и запоздало, но даже плач был стиснут в его душе стальными тисками, даже губы не разжимались, будто залитые горячим свинцом.
Так и стоял он окаменело у могилы, почерневший и страшный в своей неприкаянноети, словно решил остаться здесь навсегда. Люди уже расходились, а он все стоял и стоял, глядя не на груды душистой сирени, что сплоить укрыли могилу, а на дощечку с неправдоподобно ужасной надписью:
«Анфиса Григорьевна Дятлова».
«И фамилию твою не сменила», – подумал Тимофей, и от сознания этого ему стало еще горше.
И тут Тимофей заметил, как на площадь на крупной, размашистой рыси подкатила пролетка. Извозчик туго натянул вожжи, разгоряченные, серые в яблоках кони нехотя остановились, нервно забили копытами о землю. Из пролетки легко соскочил худой, высокий и бледный человек в военной гимнастерке и букетом цветов в руке.
– Погодь, ты куда? – накинулся на него извозчик. – Гони деньгу!
– Так я сейчас и обратно на вокзал, – сказал военный.
– Нет, милый, ты допрежь за один конец деньгу плати. Знаем мы вас! Нырнешь в подворотню – ищи-свищи!
– У тебя же в пролетке мой чемодан.
– А что в том чемодане? Ты давай наличными. Кони овес хрумтят. Они на одном сене тебе не повезут, не поскачут. А овес ноне – сходи на базар – обомрешь.
Но приезжий уже не слушал его. Он снял фуражку, медленно обошел могилу вокруг, вчитался в надпись на обелиске и бережно опустил к его подножию цветы.
– Был у меня уже один такой шустряк, – призывая к себе в единомышленники Тимофея, продолжал гнусаво бормотать извозчик, разглаживая куцую, жидкую бороденку. – Довез его честь по чести, а он – прыг с пролетки, шнырь через двор – и ходу. Знаем мы вас, ушастых!
Тимофея раздражал его скрипучий, неприятный голос.
– Ты, батя, закрой поддувало, – незлобно, но внушительно одернул его Тимофей. – Не видишь, человека схоронили.
– Ну и чего как схоронили? – петушился извозчик. – Эка невидаль! Придет час – и нас с тобой зароют, только не на площади. От нее, треклятой, не убегишь!
– Заткнись! – приказал ему Тимофей. – Еще слово – и я из тебя...
Извозчик дернул за вожжи и отъехал подальше.
Военный между тем подошел к Тимофею.
– Вот, опоздал, – печально развел он руками. – Как уж спешил, а все равно не успел.
Тимофей молчал, уставившись в землю.
– А вы не из родственников? – поинтересовался военный.
Тимофей хотел было ответить, что нет, но у военного был такой открытый, чистый взгляд и такая тихая печаль отсвечивала на его лице, что он не выдержал:
– Жена она мне была...
– Жена? – изумленно переспросил военный. – Так вы – Тимофей Дятлов?
– Он самый.
– А я – Шорников. Василий Макарович.
Тимофею ничего не говорила эта фамилия, и он все так же равнодушно смотрел на незнакомца.
– А в тыл к белякам я ее засылал, – неожиданно сказал Шорников, глядя куда-то мимо Тимофея. – И скажу тебе напрямик, теперь уже можно, громадную пользу она нам принесла. Бесценная она женщина.
Он помолчал и вдруг заторопился.
– А ты держись, Тимофей Дятлов, – негромко сказал он. – Теперь ее не вернешь. А здесь, – Шорников приложил ладонь к груди, – она у нас всегда будет.
Ему очень хотелось сказать вместо «у нас» – «у меня», но он сдержал себя.
– Было бы время, рассказал бы тебе о ней, – сказал Шорников, взглянув на часы. – А если короче – гордиться надо такой женой! Дня не проходило, чтоб о тебе не вспоминала. Все «Тимоша» да «Тимоша» у нее на языке. Вот так-то. А мне пора, уже на поезд опаздываю. Будешь в Армавире – заходи, горотдел ГПУ, спросишь Шорникова. Есть о чем тебе рассказать.
Шорников вспрыгнул в пролетку, махнул Тимофею рукой. Кони с места рванули вскачь, пролетка гулко покатилась по булыжнику.
Тимофей очнулся от горьких дум и с удивлением обнаружил в руке сверток, повязанный алой ленточкой.
«А ей платье так и не успел купить», – горько подумал он.
Тимофей низко поклонился могиле, взял с нее комок свежей, не успевшей подсохнуть на легком ветерке земли, вынул из кармана чистый носовой платок, бережно положил в него и медленно, через силу, то и дело оглядываясь назад, поплелся домой.
По дороге он завернул в Кривой переулок. В калитке его встретила Степанида, дородная, статная, кровь c молоком. Тимофей спросил о Крушинском.
– Где же ему быть? – недовольно ответила Степанида. – Малюет день и ночь. А ты чего такой, как в воду опущенный? – поинтересовалась она. – Иль беда какая?
– Позови мужа-то, – не отвечая на вопрос, попросил Тимофей. – Нужен он мне.
– Так я счас. Получай свово дружка.
Крушинский вышел, жмуря уставшие глаза от яркого солнца.
– Тимофей! – обрадованно воскликнул он, крепко пожимая его вялую руку. – Как прекрасно, что ты пришел! А меня тут совсем мысли одолели. Заходи, хочется душу излить. Степанида не в счет, ей бы только развлекаться. Нет, дорогой мой, что ни говори, только родство душ приносит счастье.
– Да я на минуту, – не двигаясь с места, сказал Тимофей. – Просьба у меня. Нарисуй мне портрет.
– Какой портрет?
– С Анфисы моей.
– Так я давно уж написал. По памяти. Степанида все порывалась его на толкучку снести, да я не дал. А она сама не своя – ревнует.
– Вот и отдай его мне. И тебе спокойнее будет.
– Конечно, отдам. А как к этому отнесется Ариша? Не получится так, что я буду служить вам против своей воли яблоком раздора?
– Это мои дела, – угрюмо сказал Тимофей.
Крушинский понимающе кивнул, скрылся в доме, долго там пропадал и наконец вышел, держа в руке небольшой портрет. Тимофей посмотрел на холст и обомлел: на него смотрела живая Анфиса!
– Дарю от чистого сердца, – искренне сказал Крушинский. – Повесь ее так, чтобы на нее свет падал. А я буду приходить к тебе, чтобы полюбоваться. Кстати, ничего о ней не слыхать?
– Померла она, – выдавил из себя Тимофей.
Глаза Крушинского широко раскрылись, в них плеснуло детской синевой неба, которую внезапно закрыли тучи.
– Неправда! – будто этим криком он мог спасти Анфису и возродить ее из мертвых, замахал руками Крушинский. – Ты врешь, Тимофей!
– Кабы неправда. А то правда...
– Смерч... – прошептал Крушинский. – И ее настиг смерч! А я все живу и малюю бездарные коврики! Признаюсь тебе: она была моим кумиром. – Он заговорил горячечно, как в бреду. – Человечество любит создавать кумиров. Чтобы было кому поклоняться. Кому верить. Кому плакаться на свою судьбу. И каждый создает своего бога, даже лик у каждого свой! И у нее – свой!
Он остановился, стараясь отдышаться, и продолжал еще стремительнее и сбивчивее, вытирая ладонью крупные капли пота со лба:
– Кумиры бывают истинные. А бывают и ложные. Проходит время, и вдруг с разочарованием узнаешь, что твой кумир – пустышка, ноль. А ты, веря в него, сжег частицу своей жизни! Анфиса не из таких! Она истинная, настоящая, святая... – Он задохнулся, дико озираясь по сторонам. – И теперь я обязан, – уже тихо и смиренно заговорил он, – запечатлеть ее. И всю эту страшную войну... И ее героев... И мучеников... На свалку эти проклятые коврики! Я еще поднимусь... Поднимусь...
Тимофей, не попрощавшись, повернулся и пошел прочь. Никакие слова, даже идущие от сердца, сейчас не согревали его.
Так он и появился на пороге своего дома перед встревоженной Аришей, держа в одной руке сверток с платьем, а в другой – портрет.
– Где ж ты пропадал! – радостно вскрикнула Ариша. – Заждалась я тебя.
Он протянул ей сверток.
– Это тебе.
– Мне? – удивилась Ариша. – А что?
– Разверни, увидишь.
Ариша сноровисто развязала узелок ленточки, развернула бумагу и, увидев платье, ослепившее ее всеми цветами радуги, зарделась от счастья.
– Ой, Тимоша! – захлопала она в ладоши, – Ой, спасибочки тебе! Я такого никогда не носила.
– Ну так носи.
Ариша стрелой метнулась к зеркалу примерять платье, а Тимофей бережно, будто в руках было что-то стеклянное, повесил на гвоздик портрет Анфисы.
Сияющая Ариша появилась на пороге, и вдруг улыбка схлынула с ее лица.
– Тетя Анфиса? – медленно, почти по слогам, проговорила она.
Тимофей, не отвечая, нахохлившись, как подбитый коршун, сидел на табуретке, и Арише почудилось, что перед ней старик.
– Выходит, мне платье, а сердце – ей. – В том, что сказала Ариша, не было и тени упрека, и Тимофею показалось, что она говорит сама с собой.
– Дуреха ты, – беззлобно проговорил он.
– Нет, не дуреха, – все так же мягко и покаянно сказала Ариша. Она медленно сняла через голову платье, осторожно положила его на кушетку перед Тимофеем, надела свою старенькую, много раз штопанную юбку, потом такую же, в латках, блузку и тихо, почти неслышно, вышла из комнаты.
И Тимофей вдруг осознал, что теперь и она, как когда-то Анфиса, уйдет, и уйдет навсегда, оставив его одного доживать эту постылую, ставшую ему совсем ненужной жизнь.
Он вскочил на ноги и бросился догонять ее. Распахнул калитку и, задыхаясь от страха, выбежал на улицу. Суматошно, незряче огляделся вокруг. Ариши нигде не было.
– Ариша!!! – вырвалось из его души.
Никто не отозвался. Тимофей снова крикнул, еще и еще. Он уже и сам не понимал, какое имя кричал, как в страшном бреду, – Ариша или Анфиса. Все смешалось, и все было тщетно.
И вместо ответа откуда-то с небес, со стороны гор, что недвижно и властно возвышались над Майкопом, донесся сильный и грозный гул. Тимофей в страхе попятился. Ему почудилось, что горы падают на него, еще мгновение – и они рухнут на землю всей своей тысячелетней тяжестью и он навсегда исчезнет под ними. Что-то крича, нелепо размахивая руками, он побежал по улице, надеясь спастись.
Но горы и не собирались падать. Они все так же торжественно и величественно возвышались над городом, над людьми, надо всем миром. А тот гул, который ударил в уши Тимофею, был не более чем предвестием зарождавшейся в теснинах гор яростной грозы. Она была еще далеко, но уже предвещала людям и новые страдания, и новое счастье...