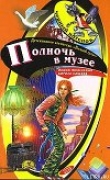Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
– Какого еще богатства?
– Какого, какого... Наизусть не учишь...
– А, Левинсон, – усмехнулся Тим Тимыч. – Понятно.
– А вот мне не понятно, – все больше распалялась мать. – Ты что думаешь, в армии литература не нужна?
– Не в этом дело. Воюют, мам, не книжками, На войне – танки, самолеты, артиллерия.
– Выходит, сам Ворошилов книг не читает? – вдруг ошарашила Тим Тимыча мать. – И Буденный?
Этот вопрос застал Тим Тимыча врасплох, и он не нашел на него немедленного ответа. Но надо было отвечать, и он не очень уверенно проговорил:
– Как это не читают? Читают. Только военные книги, а не про какую-то там Ларину Татьяну. Не в этом дело...
– Башковитый ты больно, – не нашла больше аргументов мать. – Только двойку по литературе исправь. Или я тебя самого начну исправлять, хоть ты и вымахал чуть ли не до потолка.
Теперь, когда Тим Тимыч заболел, мать жалела, что угрожала ему за двойку, боялась, что он сляжет надолго и, избави бог, не сможет встать на ноги, когда из военкомата придет повестка, которую Тим Тимыч ждал с нетерпением.
Первым, кто пришел его навестить, как это ни казалось удивительным, был Кешка Колотилов. Он возник на пороге веселый, сияющий и возбужденный, с огромным букетом роз. Вельветовая куртка цвета какао с молоком была распахнута, складка на спортивных брюках отутюжена до совершенства, а наивно-смелые глаза взирали на Анну Филипповну с благоговейностью. Вежливо поздоровавшись, Кешка, не ожидая приглашения, переступил порог, и комната наполнилась смесью запахов роз и одеколона «Жасмин».
– Где скрывается этот рыцарь печального образа? – загремел Кешка. – Где этот Илья Муромец, сиднем сидящий тридцать лет и три года? Не те ныне пошли богатыри, Анна Филипповна! Вникните сами: на три минуты обмакнулся в Урвань – и, пожалуйста, постельный режим...
– У Тимы высокая температура, – жалобно вставила мать свою короткую фразу в поток слов Кешки.
– А вот мы его и вылечим! – бодро заявил Кешка. – Он у нас быстро встанет на ноги!
И, величественным жестом распахнув дверь в комнату, где лежал Тимка, шагнул туда с такой уверенностью, будто и в самом деле нес с собой исцеление.
– Кончай сачковать, мистер Тимченко! – восторженно изрек Кешка, усаживаясь на табуретку, и с мушкетерским изяществом протянул Тим Тимычу букет роз.
Тим Тимыч с трудом открыл воспаленные глаза, невидяще посмотрел на Кешку, пытался отвернуться к стене, но не смог.
– Смотри, будущий Кутузов, какие розы! Из моего личного палисадника.
Тим Тимыч неприязненно взглянул на Кешку и, слабо взмахнув выпростанной из-под одеяла рукой, отстранил цветы.
– Ну зачем же ты так? – оторопело проговорил Кешка. – Я к тебе всей душой, я всегда был противником кровной мести... Неужто ты не в восторге от этих роз?
– Не в этом дело, – мрачно отрезал Тим Тимыч. – Я не девчонка, чтоб цветочки нюхать.
– И все же я не верю, что ты лишен чувства прекрасного, – задумчиво сказал Кешка. – В армии без этого не проживешь. Ты видел парад на Красной площади? А я, маэстро, видел. В тридцать девятом. Ну, доложу я тебе, зрелище! А духовой оркестр! Под такой марш – да в атаку! Представляешь: знамя полыхает на ветру, музыка хватает тебя за душу, а ты с винтовкой наперевес – врукопашную! И смерть не страшна!
Тим Тимыч лежал, отрешенно прикрыв глаза, и, казалось, не слушал Кешку. На самом же деле он не пропускал ни единого слова, и чем мелодичнее и восторженнее лилась Кешкина речь, тем с большей неприязнью воспринимал эту речь Тим Тимыч.
– Не в этом дело, – вдруг почти безразлично произнес он. – Ты «Севастопольские рассказы» читал?
– Левушки Толстого? – развязно подхватил Кешка.
Тим Тимыч не удосужил его ответом.
– А сам-то ты читал? – вскинулась на Тим Тимыча вездесущая мать. – У него же, Кеша, двойка по литературе. Он же книг в руки не берет...
– А за меня всю литературу Колотилов прочитает, – с напускной беззаботностью произнес Тим Тимыч. – Особенно про Ромео и Джульетту. Или про виндзорских проказниц.
– Вы попали в самую точку, сэр. В городской библиотеке уже нет книги, которую я бы не прочитал.
– А розы давай сюда, я их в вазу поставлю. – Мать взяла букет из рук Кешки, но обратилась к Тим Тимычу: – Человек ему от всей души, можно сказать, от всего чистого сердца, а он нос воротит. Разумный какой!
– Не в этом дело, – махнул рукой Тим Тимыч, будто отгонял от себя назойливую муху.
– Я ведь не ради благодарности, Анна Филипповна, – приторно произнес Кешка. – Я пришел, чтобы отвлечь будущего великого полководца от тяжких мыслей. А еще – чтобы сообщить исключительно важные для этого неулыбчивого сеньора новости.
– Какие еще новости? – как бы без всякого интереса тут же спросил Тим Тимыч.
– Терпение, мой друг, терпение... – Кешка нарочно сделал длинную паузу, показавшуюся Тим Тимычу нестерпимо долгой. – Новость номер один: всех парней нашего класса зачисляют в команду сто девяносто шесть.
– Сто девяносто шесть? – подскочил на диване Тим Тимыч. – Танковые войска?
– Блажен, кто верует, – почти пропел Кешка. – Хоть тресни, не догадаешься!
– А ты не играй на нервах! – вскипел Тим Тимыч, грозно уставившись на Кешку.
– Открою тебе великую военную и почти государственную тайну, Котовский нашего времени, – театрально строя гримасы, тянул Кешка. – И только потому, что ничего на свете не ценю выше дружбы. Не в пример некоторым штатским, – подчеркнул он выразительной интонацией. – Но, учти, все, что я тебе сообщу, – не для печати!
– Кого ты предупреждаешь? – обиделся Тим Тимыч.
– Так вот, уважаемый хронический двоечник по лучшему из предметов, который ведет сама классная руководительница Антонина свет Васильевна. Слушай меня внимательно. Если ты думаешь, что, попав в команду номер сто девяносто шесть, ты станешь танкистом, или летчиком, или, на худой конец, артиллеристом, то ты глубоко и безнадежно заблуждаешься. Даже если ты предположишь, что попадешь в пехоту – царицу полей, то и в этом случае ты уподобишься слепцу.
– Значит, морфлот? – с еще не исчезнувшей надеждой спросил Тим Тимыч, приподнимаясь на локтях.
– О гениальный провидец! – во весь рот разулыбился Кешка, со смаком предвкушая реакцию Тим Тимыча. – Ты когда-нибудь в своей еще не столь продолжительной, но бурной жизни слышал о такой профессии – писарь?
– Писарь? – осторожно переспросил Тим Тимыч.
– Совершенно точно: писарь, – с подчеркнутой наивностью подтвердил Кешка.
– Ну и что? – Тим Тимыч ощутимо почувствовал, как его начинает знобить.
– А то, – невозмутимо продолжал Кешка, – что и я, и ты, и Вадька, и даже Мишка Синичкин – все мы загудим в роту писарей. Военных писарей, – уточнил Кешка.
– Видел трепачей, но таких, как ты... – набычился Тим Тимыч.
– Хочешь – верь, хочешь – как хочешь, – беззаботно и ничуть не воспринимая слова Тим Тимыча как обиду, отозвался Кешка.
– Откуда ты эту чушь выкопал? – тоном прокурора спросил Тим Тимыч. – Какая сорока тебе на хвосте принесла?
– Это не сорока. Это майн фатер по большому секрету мне шепнул. Чтобы я никому ни гугу. А я, видишь, ради тебя...
– Не в этом дело, – еще сильнее помрачнел Тим Тимыч. – Не могли твоему отцу такие сведения дать.
– А ты забыл, кто есть мой фатер? И кем ему доводится наш горвоенком?
От этих слов Тим Тимыча прошибло потом. Крупные капли его заструились по лбу, и так как лоб был нахмурен и морщины собрались в гармошку, то капли стекали по ним к глазам. Только сейчас до Тим Тимыча дошло, что Кешка не треплется. Ведь его отец, профессор, состоит в каком-то родстве, хоть и дальнем, с городским военкомом, и, конечно же, тот мог заранее сказать ему, в какой род войск загудят призывники школы номер три.
– Ничего у них не выйдет, – упрямо сказал Тим Тимыч, придавая своему голосу особую твердость. – Я своего добьюсь.
– Умерь свой необузданный пыл тореадора, – захохотал Кешка. – Как прикажет военкомат, так и будет. И ничегошеньки тут не попишешь – у них разнарядка. И – баста! И – концы в воду!
– Да такой и специальности военной нет – писарь, – пытался опровергнуть Кешку Тим Тимыч.
– Есть, любезнейший! – почти с восторгом воскликнул Кешка. – Я все уже вынюхал. Пока ты с лейкоцитами борешься, я всю информацию добыл. С превеликим трудом. Действуя где подкупом, где лестью, а где нахальством. Уподоблялся и Макиавелли, и Жозефу Фуше, и Чарли Чаплину, и еще бог знает кому!
Чувствуя, что Кешку опять заносит и что он уйдет от главного вопроса, Тим Тимыч властным жестом велел ему умолкнуть.
– Рад, что попал в писаря, да? Обалдел от счастья? Ну и радуйся! Меня в писаря никто не загонит! Я Наркому обороны напишу!
– Пиши хоть самому господу богу, – примирительно сказал Кешка. – А только готовься в писаря. Ты читал «Поручика Киже» Юрия Тынянова? Уверен, что не читал. Так именно на страницах этого произведения рассказывается, как благодаря писарю, который вместо «поручики же» начертал «поручик Киже», появился этот мифический герой. Сам император проявлял о нем трогательную заботу. Так что профессия очень даже романтическая. От писаря, к примеру, иногда зависит, представить тебя к ордену или повелеть тащить на эшафот.
– Так у меня почерк ни к черту. Я его даже сам не разбираю, – ухватился за последнюю соломинку Тим Тимыч. – И по русскому, что ни диктант, то трояк. Никто меня в писаря не возьмет.
– Как миленький почерком овладеешь! – пообещал Кешка. – Причем не абы каким, а каллиграфическим. Знаешь, как военком товарищ Миронов говорит? В армии закон: не можешь – научим, не хочешь – заставим. А товарищ Миронов у нас в гостях частенько бывает.
Доводы Кешки были настолько внушительны, что Тим Тимыч потерял всякую надежду их опровергнуть, а потому бессильно откинулся на сбитую в комок подушку и умолк.
– Да дьявол забери эту команду сто девяносто шесть! – беспечно воскликнул Кешка. – До октября еще далеко, могут новую разнарядку прислать. И окажешься ты, Тим Тимыч, точнее, Тимофей Тимченко, в грозном танке. «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны!» – пропел Кешка. – Давай сменим пластинку. Выслушай главную новость. И я уверен, вся твоя болезнь испарится.
Тим Тимыч молчал, уставившись в одну точку на дощатом потолке. Кажется, это был сучок в сосновой доске, который представлялся ему то мордой лающей собаки, то лицом злорадно хихикающего клоуна.
– Сегодня, Тимоша, у тебя день приемов, – между тем значительно и веско продолжал Кешка, избавив свою речь от иронии и шутовства. – Сегодня во второй половине дня тебя посетит одна принцесса.
– Какая еще принцесса? – испугался Тим Тимыч.
– Не волнуйся, не заморская. Но – красивая, хоть вешайся! Ресницами ветер разгоняет. А как зовут – пошевели мозгами. Может, и догадаешься.
– Не нужно мне никаких девчонок, – зло, почти с ненавистью, заявил Тим Тимыч и отвернулся к стене, как бы давая понять, что разговор окончен.
Рота писарей
Нежданно-негаданно Вадька Ратников попал в артиллерию. Правда, не сразу. В Приволжске, куда прибыл их эшелон, Вадьку и трех его друзей определили в роту, о существовании которой Вадька прежде не мог и подозревать, хотя о ней еще в эшелоне ему все уши прожужжал Кешка. Она именовалась, мягко говоря, очень прозаично, уже в самом своем названии заключая нечто вроде насмешки: рота писарей. Вадьку и особенно Тим Тимыча зачисление в писаря сразило наповал. Они испытывали муки совести, стыда и собственной ущербности. Вадька ни в письмах Асе, ни в письмах маме даже не упомянул о роте, намекая, что все, что связано с его военной службой, – великая тайна. Тим Тимыч ходил мрачный и молчаливый, казалось, даже под страхом пытки из него невозможно было выдавить ни одного лишнего слова.
Мишка Синичкин старался ободрить его, подчеркивая, что военный писарь очень близок к интендантам, но это не производило на Тим Тимыча сколько-нибудь заметного впечатления.
Кешка же, напротив, оставался все таким же веселым, шустрым и остроумным, каким был до призыва, и его вроде бы совершенно не волновало, летчиком ли взмывать в небеса, кавалеристом ли стелиться в галопе или же корпеть над бумагами.
Рота писарей поначалу, когда она была всего лишь обозначением воинской специальности, представлялась Вадьке некой чиновничьей канцелярией, где на множестве массивных двухтумбовых столов высокомерно и чинно, сознавая свою абсолютную власть над человеком, громоздились мощные папки с неисчислимым количеством бумаг: заявлений, докладных, анкет, прошений, реестров, отчетов, справок... Во всевозможных бланках было множество граф, зиявших белоснежной пустотой до той самой секунды, пока бланк не оказывался в цепких руках ротного писаря. Чудилось, что, попадая писарю, он, этот бланк, вдруг оживал, обретал свое лицо и издавал свой, только ему присущий, вопрошающий голос. И этим Вадьке предстояло заниматься в то самое время, когда его одноклассники на бреющем полете будут утюжить разметавшегося в панике противника или с командирского мостика линкора подавать зычные команды, блистая якорями на фуражке! Он же, Вадька, будет корпеть в ротной канцелярии над очередной бумагой, заботясь лишь о том, чтобы как можно виртуознее, грамотнее и без единой помарочки вывести очередную фамилию для представления к награде, а возможно, и для препровождения на гарнизонную гауптвахту.
Однако на первых порах все подобные предположения оказались опрокинутыми. Будущих писарей разместили в просторной казарме, где в один длинный ряд выстроились койки с соломенными матрацами. Напротив, через широкий проход, обитали бойцы второго года службы. Это было отчетливо видно, когда гремела команда «Подъем!». Новички вскакивали суматошно, ошалело путались в непривычном обмундировании и, подгоняемые безжалостным ефрейтором, выметались из теплой казармы на леденящий мороз. А старослужащие выполняли команду неторопливо, ревниво оберегая свой престиж.
Будущие писаря, вместо того чтобы вооружиться бумагой, чернилами и перьями, получили винтовки, противогазы и подсумки. Уже в первые дни службы Вадька уяснил, что такое ползти по-пластунски, бегать кросс в противогазах, а также заправлять соломенный матрац так, что даже наметанный глаз старшины не мог заметить на натянутом одеяле ни единой морщинки.
Но все-таки сознание своей неполноценности от пребывания в писарской роте держалось в Вадькиной голове очень стойко, и потому его исхудавшее от непривычных перегрузок лицо чаще всего было хмурым и жалким.
Кешка Колотилов старался изо всех сил, чтобы его подбодрить и воодушевить.
– Кто такой ротный писарь? – витийствовал Кешка, неумело наматывая обмотки на свои тощие, прямые, как жердь, лодыжки. – Ротный писарь – это в своем деле Наполеон! Кто пишет в бою реляцию о награждении человека, совершившего подвиг? Писарь! В его руках – судьбы людей! Он может или вознести, или ниспровергнуть. Ошибись он всего лишь на одну букву в фамилии – и все! Не видать тебе ордена! Он же составляет и список убитых. И шлет похоронки. И учтет, сколько ты, Вадим Анатольевич Ратников, съел за месяц сухарей и концентрата «Суп-пюре гороховый». Кстати, изобретателя этого восхитительного продукта питания я бы представил, как минимум, к Нобелевской премии. А еще, Вадик, именно я, писарь, могу сделать так, чтобы ты на века был занесен на скрижали истории. И кто ты есть, когда родился, крестился, женился, жил ли за границей и имеешь ли родственников, махнувших за рубеж вместе с бароном Врангелем.
Вадька воспринял все эти восторги Кешки без всякого энтузиазма. Впрочем, и сам Кешка был крайне непоследователен в своих суждениях. Когда ротный, выстроив роту после окончания курса молодого бойца, долго доказывал им преимущества специальности военного писаря, Кешка шепнул Вадьке на ухо:
– Слыхал? Пропел гимн ротным писаришкам. А сам? Уверен, считает нас тыловыми крысами с носами, вымазанными фиолетовыми чернилами. Заметил, любимое его слово – «хиляки»? Назло накачаю мышцы. А вообще, у этого ротного интеллект амебы.
– Зачем ты так зло? – удивился Вадька. – Ты же его совсем не знаешь.
– Осточертела мне эта рота, – кисло сказал Кешка. – И чего это папахен старался?
– Что? – не понял Вадька. – Какой папахен?
– Да мой, чей же еще, – невозмутимо пояснил Кешка. – Мой любимый папахен. Упросил военкома, чтобы подобрал мне специальность, наиболее полно отвечающую моему интеллекту. Я согласился лишь при одном условии: если в ту же команду зачислят всех четверых.
Вадька обалдело посмотрел на Кешку, все еще не понимая, шутит ли он или говорит всерьез.
– Кто тебя просил?! – возмутился Вадька.
– Не трепыхайся, Вадик, – ласково пропел Кешка. – Это судьба. Я предчувствую, что всю жизнь наши дороги будут пересекаться. И это прекрасно, ибо я твой верный друг. Честное слово! И смогу простить тебе любую обиду. Вот только одного тебе не смогу простить.
– Чего?
– Если ты влюбишься в мою Анюту и она мне изменит.
– Ерунду мелешь... – отвернулся Вадька.
– Я знаю, к тебе девки льнут, – не принимая неприязни Вадьки, сказал Кешка. – А лучше девок на свете ничего нет. Не зря же их придумала природа. Это только Тим Тимыч как был, так и останется евнухом. Где-то он сейчас, бедолага?
Вадька с острым чувством неприкаянности вспомнил о Тим Тимыче, который пробыл с ними вместе чуть больше недели и сразу же был отправлен, как было объявлено, «к новому месту службы». К какому именно – никто не знал, хотя предположений на этот счет было предостаточно. Боец их отделения татарин Мухарамов, большой любитель халвы, тайком бегавший в командирскую столовую за бубликами и целыми связками прятавший их от зорких глаз старшины за огромными полами шинели, авторитетно заявлял, что Тим Тимыча отправили за рубеж, в Германию, откуда он будет посылать в Москву самые секретные сведения о намерениях Гитлера.
После ужина, перед вечерней проверкой, Вадька любил «окопаться» в ленинской комнате, полистать подшивки газет. Даже из одних заголовков было ясно, что Европа уже задыхается в дыму пожарищ, что кровавое чудище фашизма ползет по трупам людей. Еще до того, как Вадька надел красноармейскую форму, гитлеровская Германия оккупировала Польшу, затем вторглась в Норвегию. Вскоре пришел черед Голландии: немцы высадили в Роттердаме воздушный десант. Гитлеровский зверь хищными прыжками набрасывался на суверенные государства.
К тому времени как Вадька попал в роту писарей, Муссолини уже терзал Грецию. Об этом писали газеты, и естественно, Вадька был в курсе событий. Но, конечно же, он не мог и предполагать, что 18 декабря 1940 года, в тот самый день, когда его, Кешку и еще пятнадцать человек из роты писарей, имевших среднее образование, отбирали для зачисления в полковую артиллерийскую школу, Гитлер утвердит план «Барбаросса», или директиву № 21 о развертывании военных действий против СССР. По плану «Барбаросса» гитлеровские силы вторжения состояли из трех групп армий. Северная группа, которую возглавлял Лееб, должна была вторгнуться в СССР из Восточной Пруссии, через Прибалтику и наступать на Ленинград. Центральной группе войск под командованием Бока предписывалось нанести удар в направлении Минска и Смоленска и затем овладеть Москвой. Южная группа войск под началом Рунштедта должна была форсировать Днепр и захватить Киев. Основные силы сосредоточивались в центральной группе армий.
Разумеется, ничего этого Вадька не знал. Не знал он и того, что ему самому уже уготовано судьбой попасть именно на тот участок фронта, который противостоял группе армий «Центр», а точнее, в ту точку этого фронта, которая находилась в деревушке неподалеку от Вязьмы.
Сообщения газет день ото дня были все тревожнее, но ни Вадька, ни его сверстники не воспринимали эти сообщения как предвестие войны. Все еще не верилось, что Гитлер осмелится порвать пакт о ненападении и ринуться на Советский Союз. В ноябре Вадька прочитал в газете совместное коммюнике о переговорах Молотова в Берлине и красным карандашом подчеркнул слова: «Обмен мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Германию». А через два дня, 12 декабря (чего уже ни Вадька, ни кто-либо другой не могли прочитать), Гитлер издал военную директиву № 18, в которой черным по белому стояло: «Начались политические переговоры с целью выяснить, какую позицию займет Россия в ближайшем будущем. Независимо от исхода этих переговоров все приготовления для кампании на Востоке, проводимые в соответствии с устными указаниями, должны продолжаться».
Так они параллельно и готовились: Гитлер – к нападению на Советский Союз и Вадька – к защите Советского Союза. Зачисление в полковую артиллерийскую школу Вадька воспринял с восторгом. Правда, он не был силен в математике, а в полковой школе чуть не с первых занятий надо было осваивать теорию стрельбы, баллистику и другие премудрости. Это заметно снижало настроение Вадьки. Зато Кешка чувствовал себя как птица в небесах: математик он был первоклассный.
Вадька и Кешка попали служить в городок на правом берегу Волги, и в роте писарей остался лишь Мишка Синичкин. Изо всех сил он старался показать, что рад за своих друзей и не страдает оттого, что остается один, но Вадьке было очень тяжело смотреть на его слинявшее, ставшее жалким и беспомощным, доброе, в ярких веснушках, лицо.
В полковой школе порядки были строже, чем в роте писарей. Чуть не каждый день лыжные кроссы, которых Вадька и Кешка особенно боялись, так как в Нальчике в глаза не видели лыж. Нарком обороны маршал Тимошенко издавал приказы – один суровее другого. Перво-наперво он отменил статью Устава внутренней службы, которая определяла, что при температуре ниже минус пятнадцати градусов все занятия должны проводиться только в казарме, и таким образом выкурил бойцов из теплых гнезд на мороз. Говорили, что это решение диктовалось опытом финской кампании, где было немало обмороженных. На первом месте по количеству часов оказалась тактика, причем все занятия, какой бы ни была погода, проводились только в поле. Как всегда в таких случаях, пустились в крайности. Даже матчасть артиллерии изучали не в специально оборудованном классе, а прямо в артпарке, у «живой» гаубицы, вопреки завыванию метели и ядреному морозу, эдак градусов под двадцать пять – тридцать. В шинелишках, подбитых ветром, в кирзовых сапогах и легоньких буденовках, будущие артиллерийские зубры выплясывали нечто похожее на танец папуасов, пропуская мимо ушей рассказ взводного о том, как устроен поршневой затвор, противооткатный механизм или дульный тормоз орудия. Взводный, объясняя, тоже приплясывал, что вряд ли помогало ему согреться или же завоевать у подчиненных авторитет.
Еще один строгий приказ – это приказ об отдании чести. Завидев командира, боец обязан был незамедлительно перейти с обычного шага на строевой и отдать честь. Кешка, одним из первых умудрившийся заполучить увольнительную в город, с упоением рассказывал, как, отдавая честь лейтенанту, появившемуся на противоположной стороне улицы, он поскользнулся, рухнул в снег, а поднявшись, повторил все сначала с такой изящной удалью, что местные красавицы пришли в восхищение.
Нарком утвердил также новый Дисциплинарный уста, в котором предусматривалось содержание на гауптвахте – обычной и строгого режима. Самым грозным начальником для бойцов стал ефрейтор, которого опасались больше, чем командира взвода. Дисциплина и порядок в армии крепли день ото дня. «Старички», привыкшие к вольготной жизни, ворчали, пытаясь усомниться в необходимости столь суровых порядков, а неосведомленные новобранцы считали, что так было всегда.
Зима, которой суждено было стать перевалом между сороковым предвоенным и сорок первым военным годом, казалось, длилась целую вечность. Вадька даже успел получить взыскание за то, что на тактических учениях обморозил щеку. После отбоя он усердно мыл полы в казарме и ломиком скалывал лед на каменном крыльце. Обида на взыскание быстро улетучилась, а пятно на щеке осталось надолго, и Вадька радовался тому, что здесь его не видит Ася.
В мае артполк выехал в летние лагеря, и Вадька очутился в царстве берез и ландышей, любоваться которыми было попросту некогда: строевая подготовка, огневая подготовка, матчасть артиллерии, стрельба прямой наводкой, политподготовка, комсомольские собрания, красноармейские собрания, лекции, политинформации, беседы агитаторов, просмотр кинофильма, строевой смотр, смотр оружия, тактическая подготовка то днем, то ночью, форсирование водной преграды, утренняя гимнастика, утренний осмотр, вечерняя проверка, спортивная подготовка, конная подготовка, подъем, отбой, тревога... Все это вращалось с бешеной скоростью, стремительнее, чем планета Земля. Вадька засыпал над только что начатыми письмами.
Ася молчала. Хорошо хоть приходили письма от мамы. Она сообщала о том, что выслала посылку с салом и гусиным жиром – от обморожений, или о том, что видела Асю: «Она как ветер в красной косынке», – мама очень любила неожиданные сравнения. А то вдруг написала, что решила приехать на несколько дней проведать сыночка, и, возможно, приедет не одна, а вместе с Асей, чем немало встревожила Вадьку. Он редко заглядывал в зеркало, но всякий раз с неприязнью на свое, ставшее чужим, лицо. Заострившийся нос, впалые щеки, длиннющая, как у гуся, шея, на которой болтался воротник гимнастерки с неумело подшитым белым подворотничком. Выгоревшая на солнце, стриженая, похожая на шляпку подсолнуха голова, оттопыренные уши, и над всем этим великолепием – стираная-перестираная хлопчатобумажная пилотка. Физиономия явно не для киносъемок и не для всеобщего обозрения. Видимо, по этой причине Вадька обожал строй – там он мог легко затеряться и сразу же превратиться из отдельного индивида в частицу воинского коллектива. Особенно покойно ему было за широкой, мощной спиной впереди идущего богатыря Мухарамова.
Что касается Кешки, то внешне он мало чем отличался от Вадьки, хотя ему удавалось обособиться от того, что выпадало на плечи остальных. Взводный – молодой лейтенант, недавний выпускник училища, с орлиным носом и свирепой фамилией Громовержцев – сразу же узрел в Иннокентии Колотилове талант математика и приблизил его к себе настолько ощутимо, что тот мог позволить себе едва ли не каждую неделю отправляться в городской отпуск, прибыть в столовую вне строя или же увильнуть от кросса под видом подготовки к очередному занятию по теории стрельбы. Вадька завидовал Кешке, но каждый раз смирял свою зависть и покорялся судьбе.
В воскресенье утром 22 июня Вадьку вызвал дежурный по полку. Неподалеку от штаба, в беседке у трех старых берез, стояла мама. Вадька сразу узнал ее – в летней широкополой панаме, в белой кофточке английского покроя и в слегка расклешенной коричневой юбке. Если бы не панама, можно было бы подумать, что только что прозвенел звонок на перемену и она вышла из класса, направляясь в учительскую. Вадька заметил маму еще издалека, а она, близоруко щурясь и пытаясь ладонью уберечь глаза от солнца, смотрела куда-то поверх сына, словно он должен был появиться у черты горизонта или же сойти с небес. И только когда Вадька подошел к беседке почти вплотную, она увидела его и метнулась ему навстречу. Вадька весь напружинился и смутился лишь от одной мысли: к нему, взрослому, восемнадцатилетнему парню, уже почти сержанту, приехала мать, будто он ребенок из детского сада. Мать обнимала его, целовала в полыхавшие жгучим огнем щеки, а он, стыдясь своих чувств, чуть отстранял ее от себя, повторяя одни и те же слова:
– Мама... Ну что ты, мама...
Потом они долго сидели в беселке, и мама почти все время говорила об Асе – и какая она стала красивая (еще красивее, чем была!), и что в красной косыночке она точь-в-точь цыганочка. Ася мечтала приехать, но ее не отпустили родители. Мать ругала себя за то, что в спешке забыла захватить письмо, которое Ася написала ему. Это письмо так и осталось лежать на столе в учительской. Как всегда, мама строила самые невероятные предположения насчет забытого письма: его могут вскрыть из любопытства или выбросить в мусорную корзину. Но если этого не произойдет, то она в первый же день после возвращения домой вышлет письмо Вадику. Оставалось непонятным, почему Ася не послала письмо по почте. Все было бы намного проще и надежней.
Вслед за этими оправданиями мама забросала Вадьку вопросами: как ему служится, хорошо ли кормят, не устает ли он, не холодно ли спать в палатке, хороший ли у него командир, есть ли друзья, не обижают ли его... Вадька пытался отвечать, но мама уже перескакивала на следующий вопрос, словно боялась, что не успеет обо всем расспросить. На все вопросы Вадька отвечал преимущественно одним словом: «нормально», но, так как в той интонации, с которой он произносил это «нормально», не было страстной убежденности, мама то и дело недоверчиво и беспокойно вглядывалась в него и безмолвно покачивала головой.
Вадька терпеливо ждал, когда мама умолкнет, намереваясь расспросить ее подробнее о том, как она живет, здоров ли отчим, в какой институт поступила Ася, что нового в Нальчике, спрашивала ли о нем Антонина Васильевна. Но мама все говорила и говорила, пока ее не прервал внезапно появившийся возле них дежурный по полку:
– Простите, товарищ Ратникова, но вашему сыну нужно срочно прибыть в расположение своего дивизиона...
– Что-нибудь случилось? – встрепенулась мама.
– Не волнуйтесь, он скоро вернется, – успокоил ее дежурный, но голос его был напряженным.
– Я побегу, – нахлобучив пилотку, выскочил из беседки Вадька.
– Вадик, а сумка? – крикнула она вдогонку. – Я привезла колбасу, яблоки, печенье...
– Потом! – отмахнулся Вадька, исчезая за палатками.
Если бы он знал, что будет значить это беспечное «потом», которое так уже никогда и не сбудется!
Вадька бежал к расположению своего взвода, а над лагерем уже взвился сигнал горниста. Горнист трубил общий сбор. Полк был построен по тревоге. Только что по радио выступал Молотов. Гитлер напал на Советский Союз. Война!
После митинга Вадька отпросился у взводного к матери попрощаться. Уже издали он увидел ее, и острая жалость охватила все его существо. Мама стояла неподвижно, будто окаменев. Вадька приблизился к ней почти вплотную, а она не могла найти в себе силы, чтобы сдвинуться с места. Панама валялась на траве, ветер разметал пряди волос. Вадька приник к ее груди, а она стояла все такая же окаменевшая, будто неживая.
– Ты не волнуйся за меня, мама, мы им покажем, этим гадам... – негромко произнес Вадька, словно был повинен в том, что началась война. – Не надо было тебе приезжать, мама...
Она молчала, и Вадька лишь ощущал, как ее дрожащие пальцы прикасались к его голове. Мама будто ослепла и онемела, и Вадька в испуге отпрянул от нее. Она незряче смотрела куда-то поверх его головы, как бы силясь увидеть там что-то спасительное.