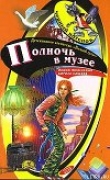Текст книги "Дальняя гроза"
Автор книги: Анатолий Марченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Квартира, которую полковник Волобуев столь возвышенно и торжественно возвел в ранг мастерской, вызывала у Крушинского явное неприятие. Ему нужен был простор для глаз и для мысли, а в комнатах, как бы наперекор этому желанию и для того, чтобы непрестанно отвлекать его от мольберта и вызывать неутихающее раздражение, сгрудилась старинная, с вычурной резьбой и инкрустацией, мебель: столы, шкафы, комоды, трельяжи, этажерки, кресла, торшеры. Одна стена в гостиной была увешана картинами, исполненными в дурном, слащавом вкусе, но зато обрамленными тяжелыми, с позолотой, рамами. Другая была сплошь занята многочисленными фотографиями, на которых запечатлелась, видимо, вся династия хозяев дома – от младенческого возраста до глубокой старости. На третьей висели музыкальные инструменты – гитара, мандолина, скрипка и две балалайки. Занимая едва ли не треть гостиной, громоздился рояль. Огромное венецианское окно было задернуто тюлевыми, потемневшими от пыли гардинами и шторами из малинового бархата, а потому почти не пропускало света. Создавалось впечатление, что хозяин дома – то ли сбежавший подальше от фронта купец, то ли какое-то значительное лицо или же местная знаменитость, попавшая в немилость к властям, – незримо обитает в доме и не дает Крушинскому отбросить навязчивую мысль о том, что за ним неотступно и пристально следят.
И потому в первые дни своего пребывания в этом доме он испытывал явную неприязнь к Анфисе Дятловой, зная, что она приставлена к нему Волобуевым. Подозрение Крушинского усиливалось еще и тем, что Анфиса появлялась всегда неожиданно, в разное время, почти неслышно ступала по половицам, будто подкрадываясь к нему, чтобы узнать, что он делает. Двери она открывала плавно, бережно придерживая их, чтобы они не хлопали и не скрипели.
«Что-то не похожа она на казачку, – размышлял Крушинский. – Те как шальные – скорые, дерзкие, а эта тихая, скромная, молчаливая...»
Анфиса, придя в дом, ни секунды не оставалась без дела, хлопотала по хозяйству: готовила еду, прибирала в комнатах, стирала белье, делая все это без лишней суеты, степенно и размеренно, своими действиями как бы придавая особую значимость работе. При этом она вела себя так, словно находилась в доме одна. Лишь изредка украдкой она бросала в сторону художника строгий мимолетный взгляд, и если ему удавалось перехватить его, то тут же стремительно отводила глаза.
Крушинский работал медленно, особенно после того, как увидел Врангеля вблизи и говорил с ним. Срок, который ему определил Волобуев для написания портрета, уже истекал, а художник все никак не мог настроиться на работу. Эскизы и наброски выходили из-под его кисти совсем не такими, какими их ожидал Волобуев. И не только потому, что душе Крушинского были милее пейзажи, но главным образом по той причине, что всякий раз, пытаясь выразить в эскизе самые характерные черты Врангеля, он с чувством смятения и страха убеждался в том, что на холсте возникает не живое лицо, а нечто мертвое, напоминающее человеческий череп с его пустыми, бездонными глазницами и безжизненным оскалом лошадиных зубов. И потому выражение лица Врангеля выходило не таким, каким от него ожидали – исполненным величия и торжественности; на холсте Крушинского он был похож на пигмея, старающегося выпятить свою мнимую значительность и скрыть адское тщеславие и звериную жестокость. Сколько бы Крушинский ни напрягал свою волю, он не мог пересилить себя, потому что перед его глазами все время возникал не тот Врангель, которого ему столь усердно и ликующе рисовал Волобуев, а тот, который с леденящей надменностью, величием и пугающей мрачностью сидел в ложе театра, а затем в ресторане гостиницы «Палас» и, наконец, в салон-вагоне.
Беседа с Врангелем привела художника к мысли о том, что на стороне этого барона – такое же средоточие зла и несправедливости, которое заключено в нем самом, и потому чувство неприязни к нему и Волобуеву захлестывало его.
Оставшись один, Крушинский имел возможность размышлять. Он пытался понять, может ли Врангель и те силы, которые за ним стоят, победить в этой яростной и непримиримой схватке. И не находил точного ответа, считая, что добро и зло всегда воюют между собой и победа остается то за злом, то за добром.
Крушинский был противником любой войны, что же касается войны гражданской, в которой целая нация разделилась на два непримиримых лагеря, в которой сын идет против отца, отец против сына, брат против брата, сестра доносит на сестру, а мать проклинает сына, – такая война казалась ему явлением, противоречащим разуму, добру и справедливости. Его сознание никак не могло постигнуть классового характера войны, а идея о том, что война может быть справедливой и несправедливой, не воспринималась им, ибо он предавал анафеме все войны, любое убийство человека человеком. И если бы его спросили, в каком стане – красных или белых – он намерен определить свое место, то он был бы совершенно искренне удивлен уже самой постановкой вопроса. Сама революция отпечаталась в его сознании, как подобие смерча, и, зная по собственному опыту, что укрыться от смерча невозможно, он испытывал ко всему происходящему трепетное, переходящее в чувство тревоги волнение.
И все же художник понимал, что за Врангелем, Деникиным, Колчаком и иже с ними – то жестокое, несущее оковы рабства прошлое, которое они пытались отстоять и сохранить, и что красные, напротив, пытались похоронить это прошлое и на его обломках построить нечто совершенно новое, пока непонятное ему. Крушинский не мог примириться лишь с самим методом осуществления этих социальных задач – насилием. Он был убежден, что все новые социальные изменения можно утвердить с помощью добра, убеждения и воспитания людей, их нравственным самоусовершенствованием.
Для Крушинского Анфиса скоро стала вроде тени, от которой невозможно избавиться и к которой столь же легко привыкнуть, как человек привыкает к самому себе. Занятый своими делами, Крушинский старался не смотреть на нее. Для него она долгое время просто не существовала. И вдруг все изменилось. Как-то Анфиса пришла раньше обычного, негромко поздоровалась и, подойдя к окну, отдернула штору. Минуту она стояла, не двигаясь, и смотрела на улицу. Солнечный луч, свежий, еще ранний, несмелый, падал на ее лицо, и Крушинский, взглянув на девушку, вдруг обомлел: перед ним возникло видение, в котором воплощалось чудо русской женской красоты – той, что заставляет учащенно биться сердце и забыть обо всем, что существует на свете – солнце, лесе, степи, луне, людях, – обо всем, кроме одной-единственной...
В первое мгновение он не поверил своему чувству. Но все пристальнее вглядываясь в какие-то новые, не замеченные им прежде черты Анфисы – легкую улыбку, светившуюся в жгучих глазах, полуоткрытые яркие губы, таящий в себе загадочную недосказанность взгляд, – во всем этом он открыл для себя новый мир – мир совершенства, гармонии и обаяния.
«Вот с кого надо писать портрет», – окрыленно подумал он, и его передернуло от того, чей портрет он пишет сейчас. И тут же пришла мысль о том, что Врангель, чей облик он обязан запечатлеть на холсте, – то зло, которое несовместимо с красотой и несет ей верную гибель. И он ощутил в себе уже не поддающуюся былым колебаниям решимость исполнить то, что уже исподволь зрело в его душе, но не могло осуществиться, потому что не способно было преодолеть мучительные сомнения и колебания. То ему казалось, что его замысел слишком наивен и, будучи исполнен в натуре, может вызвать у окружающих лишь чувство недоумения и иронии по поводу странной наивности художника. То он утверждался в выводе, что тот портрет, который он задумал, будет страшнее пули и виселицы, мучительнее пыток и казни. И у людей откроются глаза на злодеяния Врангеля и его свиты.
Как на чаше весов колеблются предметы с равным весом, так и в душе Крушинского нескончаемо колебалось решение, и он никак не мог сделать окончательный выбор. Но в то памятное утро, когда Крушинский увидел Анфису в каком-то новом свете, он отсек для себя все колебания раз и навсегда.
Прошло еще несколько дней, и Крушинский понял, что не может не заговорить с Анфисой, и то будет не просто ничего не значащий, будничный разговор, а его исповедь перед ней. Он обязан выразить свое отношение к ней, пусть она знает все и не остается в неведении. Решившись на это, Крушинский с жаром принялся за работу. И сам удивился тому, что портрет, тот самый, который он задумал, пошел! Дело сдвинулось с мертвой точки, и понадобилось всего три дня, чтобы его завершить. Вглядевшись в изображение Врангеля, Крушинский испытал истинное удовлетворение и заранее представил себе, как этот портрет воспримут Волобуев и все окружающие его господа, а главное, как разъярится сам Врангель! Вот это будет фейерверк! «В нем ты сгоришь и сам», – скорбно и как-то отрешенно подумал Крушинский, с разных сторон подходя к портрету и внимательно рассматривая его.
Наконец он снял его с мольберта и, оглядываясь вокруг, будто желая убедиться, не следят ли за ним, засунул его за широкую спинку громоздкого дивана. Тут же натянув на подрамник чистый холст, он закрепил его на мольберте и принялся за новый портрет Врангеля, теперь уже обычный. Нанося кистью мазки на холст, он то и дело ловил себя на том, что не может сдержать смеха, душившего его. «Вот уж я вас повеселю! – со злорадством думал он. – Я вам представлю нового монарха!»
Крушинский и сам поражался тому, что прийти к окончательному решению он смог не в результате абстрактных умозаключений, а лишь тогда, когда его озарила неповторимая красота Анфисы. Он пытался найти ощутимую связь между этим озарением и решимостью изобразить Врангеля таким, каким он его увидел в натуре, и никак не мог уцепиться за эту незримую, но столь прочную нить. Видимо, просто понял: эта красота, как и красота всей земли, и добро, которое она призвана нести людям, вопиют о том, чтобы их защищали, берегли, лелеяли и не отдавали на растерзание тем, кто несет с собой гибель.
Готов был уже и второй вариант портрета, когда Крушинский решился заговорить с Анфисой. Он долго смотрел на нее, сидящую в кухне на табуретке, так долго, что она почувствовала его пристальный взгляд и обернулась.
– Боже мой! – с дрожью в голосе сказал Крушинский. – Боже мой!
– Чего это ты? – испугалась Анфиса.
– Смотрю и не верю. Не могу поверить.
– Да об чем ты?
– Не верю, что природа способна сотворить такое.
Анфиса изумленно смотрела на него, все еще не понимая истинный смысл того, что он говорит.
– Такое чудо, как вы... – едва слышно прошептал Крушинский. Впервые в жизни он осмелился сказать женщине такие слова.
Смуглые щеки Анфисы вспыхнули, будто по ним полыхнул отсвет молнии.
– Тю на тебя! – смущенно отмахнулась она. – Баба и баба. А знаешь, какой у меня норов? Любому мужику рога обломаю. Окромя моего Тимоши, никто такого притеснения не выдюжит.
– Вы замужем? – едва не простонал Крушинский.
– А то как же? Пять годков уже.
– И вы любите мужа? – вырвалось у Крушинского.
– Кабы не любила, разве жила?
– Куда же вы так торопились?
– Как это куда? На кудыкину гору! Нешто в девках сидеть? У девки доля ясная и понятная – не зевай а то проворонишь.
– Неужели вы на все это так просто смотрите, все будто так и надо?
– Чудак человек, на земле живем, не на небе! А земля грешная, не зря бог окромя рая ад при себе держит. А раз земля грешная, – значит, и мы не без греха. Ты вот на меня уставился, а, чай, знаешь, что это грех, потому как я – мужняя жена. Ты в зеркало на себя глянь – на лице-то все написано, все задумки твои видать.
– Нет, нет, что вы... Вы заблуждаетесь. И зачем же так... обнаженно... Я красотой любуюсь. Красота – это высшее из чудес на земле.
– Да уж чудо! – фыркнула Анфиса и стала поспешно накрывать на стол. – Тебе обедать пора. А то на голодный желудок – и такие думки. Ешь, поправляйся. Вон какой худющий! А я пойду, мне пора.
– Останьтесь, прошу вас! – Просьба была им высказана столь трогательно и беспомощно, что Анфиса рассмеялась:
– Ну и чудной! То зверем смотрел, то не отпущаещь.
Крушинский терялся в догадках, что с ним произошло. Поначалу при встречах с Анфисой ему даже хотелось обидеть ее, оскорбить, прогнать с глаз долой. Уже то, что ее прислал Волобуев, вызывало в нем судорожное чувство гнева. А сейчас он не мог и представить, что она уйдет.
Он попытался неловко обнять Анфису, но она с женским проворством оттолкнула его, и он, пошатнувшись, задел плечом мольберт. Портрет зашатался и остался висеть перекошенным.
– Рисуешь? – усмехаясь, спросила Анфиса. – Вот и рисуй себе, а рукам волю не давай.
И она ушла, все так же независимо и гордо держа голову на высокой, как у лебедушки, шее.
На другой день она подошла почти вплотную к мольберту, присмотрелась к портрету.
– Никак, ты другой портрет рисуешь?
Крушинский вздрогнул: недоставало еще, чтобы она догадалась о его замысле.
– Нет, нет, это тот самый, – поспешил он заверить ее, думая о том, где бы понадежнее запрятать тот, дерзкий.
– Да ладно уж, я в твоих делах вовсе не разбираюсь, – с равнодушием, в котором Крушинский уловил оттенок притворства, сказала Анфиса. И вдруг решилась: – А ты бы сделал для меня, что мне нужно, если я тебя попрошу?
– Ну конечно! С превеликой радостью! – оживился Крушинский.
– А ты не торопись, сердешный, не дюже шибко стребай, а то споткнешься, – охладила его пыл Анфиса, – И не послухал еще, чего я просить буду, а уже поскакал.
– Но я же ради вас...
– Да хоть ради кого! Я еще хворостину не выломала, а ты радуешься. Такие быстро тянут, да мелко пашут.
– Напрасно вы сомневаетесь во мне. Приказывайте, а я вам докажу. Клянусь вам...
– Ну зачем сдались твои клятвы? Не люблю я таких слов. Кто легко словами кидается, тот в делах не горазд. Ну, да бог с тобой, будем считать, что мы с тобой ни об чем серьезном не гутарили.
– Но, Анфиса, честное слово, вы меня заинтриговали. Теперь мне покоя не будет. Раз уж начали – договаривайте до конца. В противном случае я в предположениях, как в тумане, заплутаюсь. Я и сам дела жажду, настоящего дела.
– Какого еще дела? – насторожилась Анфиса. – Вон оно, твое дело, – кивнула она на мольберт и с улыбкой, в которой было трудно уловить насмешку, добавила: – Дюже хорошо ты малюешь. Аж завидки берут!
И она неторопливо проплыла к двери, прикрыв ее за собой, как всегда, бесшумно.
«Сколько в ней противоречий, сколько контрастов! – изумленно подумал Крушинский. – И не так уж проста, как ты считал раньше. Может быть и строптивой, и дерзкой, а ходит, как пава, как бестелесное существо, точно призрак. Не женщина, а сплошная загадка!»
Он долго бродил из комнаты в комнату, натыкаясь на стулья, не зная, куда себя деть. Скорее бы прислал за ним Волобуев! Но он, как об этом ему сообщила Анфиса, уехал на передовую и, по всему видать, забыл о художнике.
Крушинский подошел к мольберту, схватил ненавистный портрет и швырнул его на пол.
«А все же я буду писать Анфису! – решил он. – И тогда – прощай пейзажи! И неужели будет забыт Левитан? Не знаю. Знаю одно: сколько ни создам картин, главной из них будет портрет Анфисы...»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Врангеля неожиданно вызвал к себе в ставку Деникин, и Ксения загрустила, ощутив неуемную потребность излить свою душу Анфисе. Отужинав, она зазвала ее к себе и уговорила остаться ночевать в светелке.
– Боюсь я одна, Анфиса, – обнимая подругу за плечи, растроганно сказала Ксения. – Ночами не сплю. Кошмары снятся. То в пропасть лечу, то гонятся за мной красные. Крикнуть хочу, на помощь позвать, а голоса нет. Ложись со мной.
Анфису внутренне передернуло. Уж очень ей не хотелось ложиться в ту самую постель, в которой проводил ночи вместе с Ксенией Врангель. Но Ксения не отстала, пока не добилась своего.
«Ладно уж, – подумала Анфиса, – будет подходящий случай поговорить с ней». А говорить было о чем. Не далее как вчера связной от Ильи Шафрана передал ей задание: во что бы то ни стало задержать бронепоезд хотя бы на два часа, чтобы он не смог оказать огневой поддержки казачьим частям, засевшим в станице. И совет, как лучше это сделать.
Постель, на которой возлежала Ксения, была роскошной. Пышно взбитая перина, шелковые пододеяльники, огромные, отборного лебяжьего пуха подушки, белоснежные, накрахмаленные до холодного хруста простыни – все располагало к неге, вызывало чувство блаженства.
Анфиса быстро разделась, пригасила ночник и, как в пропасть, упала на пуховую подушку. Ксения тотчас, как это делают маленькие дети, боязливо прижалась к ней, и Анфиса ощутила на своей щеке ее горячее, возбужденное дыхание.
– Спасибо тебе, Анфисушка, – замурлыкала Ксения, – теперь мне вовсе не страшно. Хоть одну ночку посплю спокойно.
– Да чего ты пужаешься? – удивилась Анфиса. – У дверей часовой стоит.
– А все равно страшно, – жалобно пролепетала Ксения. – А вот с тобой – ничуточки. В тебе есть что-то такое, что располагает. Ты такая сильная, надежная...
– Боягузка я, – возразила Анфиса, с неприязнью чувствуя на своих плечах холодные нервные пальцы Ксении. – Дюже боюсь. Почище тебя.
– Нет, нет! – запротестовала Ксения. – А какие у тебя, милочка, прелестные формы, какая ты вся упругая, тебя даже не ущипнешь. По сравнению с тобой я просто малявка. И что во мне привлекательного нашел Петр Николаевич, ума не приложу!
– Не бреши, Ксюша, – горячо возразила Анфиса, – не гневи бога. Красивая ты, аж глазам больно. И фигурка точеная, мужики в этом деле толк знают. Куда мне, простой бабе, до тебя!
– Скушно мне стало жить, Анфисушка. Петр Николаевич часто в отъезде...
На высокие окна купеческого дома, в котором жила Ксения, тяжелым плотным пологом навалилась черная ночь. Где-то за печкой без умолку трещал сверчок. Во дворе лениво побрехивала собака. На окраине города, как удары пастушьего кнута, сухо щелкали выстрелы. Женщины боязливо прислушивались.
– А хочешь, Ксюша, развеем мы твою скуку? – загадочно, стараясь разжечь у Ксении любопытство, спросила Анфиса, воспользовавшись тем, что Ксения на время приумолкла.
– Нет, это невозможно, – разочарованно отозвалась Ксения.
– А вот и возможно, – уверенно возразила Анфиса. – Что мы с тобой видим в жизни хорошего? Кругом смерть, кругом кровушка льется. Сгинем мы с тобой в одночасье. Пропадет ни за понюх табаку наша цветущая молодость, и не помянет никто. Да еще у тебя хоть Петр Николаевич есть, а я одна как перст. Если бы не ты – давно бы на тот свет унеслась. Пора уж нам повеселиться; что у нас, на это правов нет, не заслужили?
– А как? – изнывая от нетерпения, поторопила ее Ксения.
– А вот послухай, – уже твердо, как о чем-то, не подлежащем сомнению, сказала Анфиса. – Погодка нынче дюже справная, на фронте вроде бы поутихло. Твоего милого нет. Вот и давай сами похозяйнуем. Однова на свете живем! Потешим себя вволюшку.
– Да не томи, раскрывай свои карты.
– Погоди трошки, не погоняй. Дай слово, что будешь согласная.
– Ну, разумеется, не откажусь, впрочем, если ты предложишь что-то укладывающееся в рамки возможного и благоразумного.
– Укладается, дюже укладается. Послухай меня. Ты же знаешь, я тутошняя. Мне Кубань – матерь родная. Я здесь каждый кустик знаю, каждый камушек под моей ногой хрустел. Такое есть местечко – голова кругом пойдет!
– Природа меня мало волнует, – зевнула Ксения.
– А ежели на той природе, которая тебя не волнует, – скатерка, а на ней вина крымские да закуска кубанская? А вокруг той скатерки – офицерики молоденькие? Да музыка играет, солнышко светит, а потом и месяц ясный взойдет, тогда как?
– О, это уже представляет интерес, – оживилась Ксения. – Но как же всему этому дать практический ход?
– А дюже просто, – уверенно сказала Анфиса. – Ты знаешь капитана Никандрова?
– Этого несносного усача-таракана?
– Зато какой сильный мужик! И дюже охоч до баб.
– Нет, Анфиса, даже и говорить на эту тему не хочу.
– Ну, тогда... Не знаю, кого тебе и предложить. Может, поручика Иванникова?
– Размазня и недотепа.
– Вот беда с тобой! Погоди, погоди, а ежели полковника Чаликова?
– Командира бронепоезда?
– Ну да. Ты его знаешь?
– Еще бы не знать. Только он не в моем вкусе. Кривоногий, лысый, да еще и прихрамывает. Пытался объясняться в любви, но, узнав о моих отношениях с Петром Николаевичем, счел благоразумным ретироваться.
– Да бог с ним, с Чаликовым! – не сдавалась Анфиса. – Эка беда, что он кривоногий! Он же кавалерист, а у них ноги завсегда такие. Я как на него гляну – меня аж в дрожь кидает. Всем мужчинам мужчина! У него не кровь – кипяток!
– Да, действительно, когда он на меня смотрит – глаза горят.
– Вот видишь! А какие у него офицерики! Один другого красивше, как на подбор. И ежели ты Чаликова хоть одним только пальчиком к себе поманишь, он и сам как собачонка прибегит, и щенят своих приведет. Выбирай, кого твоя душенька захочет.
– Но как же все это поумнее сделать? Чтоб до Петра Николаевича, избави господь, не дошло?
– Так если ты согласная, я тебе подсоблю.
Ксения, предчувствуя нечто необычное, приподнялась на кровати, воскликнула:
– Анфисушка, ты чудо! Дай я тебя расцелую! Ведь мы с тобой совсем закисли. У Петра Николаевича все дела и дела, я его очень хорошо понимаю, сочувствую, он же полководец, но ведь я тоже человек. Не хотела я тебе признаваться, да уж откроюсь: не одна я у него, Анфисушка, мне верные люди поведали. Так отчего я должна влачить участь рабыни? Но только все надо сделать, чтоб комар носу не подточил. Иначе он меня как собачонку вышвырнет.
– Так неужто мы, бабы, мужика не обхитрим? Еще как обхитрим! И сделаем мы вот так, – переходя на шепот, сказала Анфиса. – Ты напишешь Чаликову записку: так, мол, и так, желаю с вами провести денек на берегу Кубани. А удастся, так и вечерок наш будет. А чтоб злые языки не болтали, прихватите с собой своих офицеров.
– Это прекрасно! – захлопала в ладоши Ксения. – Пикник, именно пикник! Чаликов согласится, я уверена. А там хоть трава не расти!
И женщины, найдя общий язык, договорились, не теряя времени, действовать. Анфиса взялась утром сходить на железнодорожную станцию и вручить Чаликову записку от Ксении. Та же брала на себя заботу об устройстве пикника с помощью знакомого офицера-интенданта.
В ответ на откровения Ксении Анфиса рассказала ей о своем разговоре с Крушинским.
– Зачем ты так с ним? – упрекнула ее Ксения. – Грубо, бесцеремонно. Ты же совсем не такая. Ты нежная, добрая, чуткая,
– Так он прицепится как репей, – засмеялась Анфиса. – Хоть таким манером трошки отпугну. Нехай соображает, какой зверь в моем обличье сидит.
– Ох, Анфиса, этим мужчину, если он влюблен, не отпугнешь.
– И то верно гутаришь. Разве ж кобеля палкой отгонишь? Что я тебе, Ксюша, скажу... Нравится он мне. Дюже нравится. А только мужу своему законному не могу изменить.
– Глупые условности! – фыркнула Ксения. – Ты думаешь, что твой муж – святой? Безгрешных мужчин на свете не бывает.
– Да знаю я, – потупилась Анфиса. – Им лишь бы юбка, поманит – побегит, как скаженный. Только мой не из таких. У нас с ним любовь.
– Не верю я ни в какую любовь! – резко оборвала ее Ксения. – Есть только отношения. Все остальное придумали поэты.
Анфиса не стала с ней спорить и лишь согласно кивала, хотя всем своим существом восстала против цинизма Ксении.
– Я тебе, Ксюша, так завидую! Ты у нас как у бога за пазухой. Полковнички вокруг тебя вьются.
– Да, Анфиса, мне на судьбу роптать грех. Петр Николаевич влюблен в меня, на руках готов носить. Смотри, какие серьги он мне подарил – с бриллиантами.
Анфиса взяла серьги в ладонь бережно, боязливо, будто опасалась раздавить их своими сильными пальцами. Даже в полутьме (она прибавила в лампе фитиль) они сверкнули, как крошечные молнии.
– Красотища какая! – ахнула Анфиса. – Счастливая ты! Мне таких сроду не видать.
– Сама виновата, что свое счастье упускаешь. Гордыню не хочешь смирить. Не бойся, не убудет. Мы же на войне. Нас же могут убить, Анфиса!
– Да когда же эта война треклятая кончится? – жалобно проговорила Анфиса.
– А по мне – хоть все время война! – задорно откликнулась Ксения. – Я люблю жизнь бурную, взрывчатую, яркую, как фейерверк! Во мне цыганский дух, Анфиса! Кочевать люблю, гнезда уютные ненавижу, там дремота, спячка, болото!
«В окопы бы тебя, под пули, да вшей кормить, была б ты не такая справная да гладкая. И гутарила бы по-другому», – зло подумала Анфиса, а вслух сказала восторженно:
– И то! А я так и вовсе: без войны – кто? Корову доить да мужнины портянки стирать. Борщ варить да детишек рожать. Муторная жизня. А еще мне война потому люба, Ксюша, что она меня с тобой свела.
– Без войны – трясина, Анфиса! А сейчас – ветер, выстрелы, страсти, свобода духа и тела. Помнишь, как мы Петра Николаевича спасли? Сердце поет, как вспомню!
Они долго еще не могли заснуть, обсуждая, как умнее тайно провести предстоящий пикник. Ксения преисполнилась решимости осуществить этот замысел как можно скорее. Дело было за Чаликовым.
Рано утром Анфиса с запиской Ксении отправилась на станцию и быстро нашла бронепоезд, мрачно застывший между двумя составами теплушек. Казалось, эта тяжелая и грозная громада, отливающая холодной пугающей сталью, мирно и устало дремлет на рельсах и ровным счетом никому не угрожает. Капли росы на темной броне, сверкавшие на утреннем, еще нежарком солнце, усиливали это мирное впечатление от грозной машины. И только стволы пушек, хотя и зачехленные, настороженно и хищно выставленные из броневых башен, напоминали о том, что бронепоезд вот-вот загрохочет по рельсам, начнет изрыгать огонь и смертельные снаряды, косить наступающие цепи красных из захлебывающихся яростью пулеметов.
Часовой, вразвалку ходивший вдоль состава, остановил Анфису. Солдат был высок, шинель сидела на нем кургузо, доставая лишь до колен, и оттого он казался совсем нестрашным. Анфиса приветливо заулыбалась ему, словно встретила хорошо знакомого ей человека.
– Куда путь держишь, сестрица? – Сияющее лицо Анфисы настроило часового на мирный лад. – Здесь посторонним не велено.
– Та разве ж я посторонняя? – задорно вскинула голову Анфиса. – Сам видишь – сестра милосердия. Как раны вашему брату перевязывать, так не посторонняя. А если хочешь знать, так я к самому полковнику Чаликову.
– А нашим братом, значит, брезговаешь? – не без ехидства спросил часовой, пронзительно нацелившись на Анфису въедливыми, колючими глазками.
– И чего мелешь? – резко оборвала она его. – Не ровен час, поранят тебя, так не пужайся, перевяжу.
– Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему.
– Ну, чего забухтел? – миролюбиво остановила его Анфиса. – Недосуг мне. Я к полковнику Чаликову по важному делу посланная. И ты лучше скажи, где мне его поскорей найти.
– Их высокоблагородие находятся сей минут на станции, – важно ответил часовой. – Должно, в самый раз какаву принимают.
– Вот и спасибочки. Побегу, а то мне влетит.
– Так опосля, как управишься, ко мне заверни. Сменюсь я, погутарим. – Часовой хитро подмигнул Анфисе.
Анфиса бегом устремилась к станции.
С полковником Чаликовым Анфиса едва не столкнулась, когда он стремительно, хотя и прихрамывая, выходил из кабинета начальника станции. Полковник был вертляв, нескладен, но голову держал по-орлиному гордо. На сестру милосердия, шедшую ему навстречу, он, занятый собой и своими мыслями, не обратил никакого внимания.
– Аркадий Аристархович! – громко окликнула его Анфиса, будто уже давно знала полковника и удивлена была тем, что тот проходит мимо нее, не замечая. Она понимала, что чем смелее будет действовать, тем успешнее пойдет ее разговор с Чаликовым. – Здравствуйте! Меня понудило к вам обратиться крайне важное и неотложное дело.
Анфиса с трудом отгоняла от себя казачьи словечки, так и липнувшие к языку, и стремилась изо всех сил копировать изысканные фразы Ксении.
– Ко мне? У вас? – холодно и надменно окинул ее взглядом с головы до ног Чаликов, сделав ударение на словах «у вас». – Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Однако я слушаю вас.
– Простите, – замялась Анфиса, пытаясь кокетничать, зная, что это получается у нее совсем не так, как у Ксении. – Простите, но дело это такое щепетильное, что я не могу вот так, на ходу...
Чаликов между тем успел хорошенько рассмотреть Анфису и помягчел.
– Готов выслушать вас, мадемуазель, – решив не придавать значения тому, что перед ним обычная сестра милосердия, со всей вежливой предупредительностью произнес Чаликов, покорно склонив голову. – Прошу вас в кабинет.
Распахнув тяжелую дверь, Чаликов галантно пропустил Анфису. За громадным столом восседал массивный человек в форме железнодорожника. Увидев Чаликова, он вскочил с кресла, потеряв всю свою начальственную величавость.
– Но я хотела бы... – замялась Анфиса, загадочно глядя на полковника. – Мне велено говорить с вами только с глазу на глаз.
– О, разумеется! – Полковник постарался придать своему баритону мелодичное бархатное звучание.
– Разрешите... С вашего позволения... – суетливо, скороговоркой выпалил начальник станции, стремительно, насколько позволяла громоздкая, тяжеловесная фигура, исчезая ва дверью.
Чаликов изящным жестом указал Анфисе на стул и, подождав, пока она сядет, расположился напротив.
– Я весь внимание, мадемуазель, – со значением произнес Чаликов, напряженно всматриваясь в лицо Анфисы и часто моргая прищуренным глазом, в то время как другой глаз спокойно, почти недвижно, выжидательно уставился на нее. Анфиса нарочито помедлила, испытывая терпение Чаликова, а затем негромко, как бы с трудом подбирая слова, сказала:
– Я к вам с поручением от Ксении Николаевны Варенцовой-Гнедич.
Чаликов от неожиданности привстал на стуле, снова сел, но по холеным рукам его, которые неспокойно ерзали по столу, Анфиса поняла, что это известие его изрядно взволновало.
– От Ксении Николаевны? – переспросил Чаликов. В голосе его послышалась радость, которую он старался приглушить, но не сумел. – Надеюсь, она в добром здравии?
– Более того, она прекрасно выглядит! – в тон ему ответила Анфиса. – Так ходуном и ходит. Да она сама вам написала, велела передать вам как можно шибче.
– Шибче? – оторопев, переспросил Чаликов.
– Простите, быстрее, – смущенно поправилась Анфиса, мысленно казня себя за то, что никак не может обойтись без привычных словечек.
Анфиса, как нечто драгоценное и хрупкое, протянула Чаликову конверт, от которого повеяло запахом ландышей, и просияла солнечной улыбкой, как бы и сама предвкушая ту приятность, которую ощутит полковник, едва начнет читать письмо.
Чаликов торопливо, сгорая от нетерпения, вскрыл конверт и припал глазами к плотному листку бумаги, на котором ровным, почти каллиграфическим почерком было вы ведено: