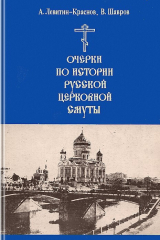
Текст книги "Очерки по истории русской церковной смуты"
Автор книги: Анатолий Краснов-Левитин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 57 страниц)
В связи с этим положение Евдокима сильно пошатнулось: начали-циркулировать слухи об его уходе.
В связи с этими слухами был разослан по епархиям циркуляр, в котором говорилось следующее:
«Председатель Священного Синода митрополит Евдоким остается на своем посту до тех пор, пока его не сменит, с общего согласия, более опытный руководитель церковной жизни. Не верьте никаким измышлениям и злоухищрениям наших противников, верьте только тому, что подтвердит Священный Синод, неослабно стоящий на страже ваших интересов и ведающий все точно и документально.
Положение Священного Синода, бывшее твердым и прежде, ныне стало незыблемым. Никто никогда не раскается, кто пойдет и идет за Священным Синодом, который готов отечески принять всякого, грядущего к нему. Славные исповедники Святой веры Христовой – бодрее и смелее смотрите в будущее.
Подлинный подписал:
Председатель Священного Синода митрополит Евдоким». (Церковная жизнь, 1924, № 2, с. 11.)
Одновременно начали обостряться отношения между митрополитом Евдокимом и А.И.Введенским. Установка митрополита Евдокима на водворение порядка в Церкви, на переговоры с патриархом и на полный отказ от каких-либо реформ, никак не соответствовала линии А.И.Введенского.
Наконец, 1924 год принес еще одно разочарование митрополиту Евдокиму: выяснился полный крах его надежды на соглашение с патриархом. Все это, вместе взятое, определило уход митрополита от активной деятельности.
Уйдя на покой, владыка поселился в Хосте: там он служил в небольшой церкви без диакона и даже без псаломщика; обходясь без старосты, он сам иной раз продавал свечи.
Еще худшие времена наступили для владыки в 30-е годы: небольшой храм, в котором он служил, был закрыт. Владыка вынужден был заняться подпольной юридической практикой – писанием исковых заявлений. Когда и эта возможность заработка отпала – местные судебные органы энергично запротестовали – митрополиту было предложено снять с себя сан, на что он, разумеется, не мог согласиться. Не пошел он также на примирение с Синодом.
В последние годы его жизни жители Хосты видели почтенного старца, который, сидя в городском сквере, торговал конфетами и пряниками. Это был митрополит Евдоким, когда-то известный в Русской Церкви своими барскими замашками.
Митрополит Евдоким умер в марте 1936 года. По странной случайности почти одновременно с ним умерли (на одной неделе) три его знаменитых современника: митрополит Арсений Стадницкий, епископ Андрей Ухтомский и бывший архиепископ Владимир Путята.
Митрополита Евдокима сменил на посту Председателя Синода митрополит Ленинградский Вениамин Муратовский – дряхлый, добродушный и почти впавший в детство старец. Вся власть отныне безраздельно сосредоточивалась в руках А.И.Введенского. Только один раз, летом 1925 года, имела место попытка убрать нового обновленческого диктатора. Нельзя сказать, чтобы Александр Иванович злоупотреблял властью, он даже не давал ее чувствовать: человек мягкий и слабохарактерный, А.И.Введенский охотно предоставлял распоряжаться другим, а сам «парил в эмпиреях», занимаясь высокими теориями.
Правда, в веселую минуту он иногда говорил, что «любит, чтобы ему льстили». Однако и к тем, кто ему не льстил, он никогда никаких мер не принимал и никогда не сводил ни с кем личных счетов. Он не принадлежал к мстительным и злопамятным людям, и даже когда отзывался о ком-нибудь дурно, тотчас прибавлял: «Впрочем, я это говорю в состоянии раздражения и, конечно, вероятно, по обыкновению, я не прав».
В конце января 1925 года в Москве был созван расширенный Пленум Синода, который должен был подготовить почву для предстоящего в октябре Поместного Собора. После слабого и бледного отчетного доклада прот. Красотина начались интересные выступления с мест. Во всех этих выступлениях звучит ужас перед «тихоновщиной». В то же время ораторы, явно инспирированные Синодом, отвергают всякую мысль о переговорах с патриархом.
«Никаких. соглашений с тихоновщиной быть не может, – говорит архиепископ Воронежский Петр Сергеев. – К сожалению, на местах еще и теперь слышатся голоса – когда же мир? Ответ заключается в докладе прот. Красотина. Самая мысль о примирении должна быть изгнана, и это положение является теперь одной из главных основ Святейшего Синода, поэтому, я полагаю, что мы должны одобрить курс, которым держится Священный Синод, и самим неуклонно следовать за ним».
«На чем закончил архиепископ Петр, с того я начну и подчеркну: необходимо одобрить деяния Священного Синода и держаться его, – вторил архиепископ Смоленский Алексий (Дьяконов). – Примиренчество – пораженчество: свет не может быть закрыт мраком. Соглашение – ложная позиция. Говорят, что нам нужно объединение около одного центра и патриарх будто бы представляет церковное единство. Святейший будто бы все устроит. В чем секрет? Потеря церковного центра? А этот центр – будто бы Тихон? Но ведь он подвергает критике самое общение с Востоком. Разговоры о соглашении исходят из намерения возвысить и возвеличить фигуру Тихона. Но это лишь попытка воскресить мертвеца. Я дерзаю поставить точку над «и», именно: нужно обновленцам идти в народ и всех объединить под единым обновленческим флагом и, таким образом, из положения статического стать в положение динамическое».
«Докладчик говорил о равнодушии провинции, не помогающей Священному Синоду своими средствами, но это сделать было невозможно, потому что даже заговорить о средствах в иных епархиях было невозможно. В заключение я не могу не сказать и докладчику, и Священному Синоду русское спасибо!» (Церковное обновление, 1925, № 5–6–7, с. 35)
В резком противоречии с этим тоном инспирированных ораторов звучали речи захудалых епископов типа епископа Валентина, изображенного Вс. Ивановым.
«Тихоновцы не стесняются, – жалобно причитал архиепископ Иоанн Череповецкий, – у нас они всех уверили, что крещенская вода у обновленцев прогнила, тогда как у них – чистая. Народ был возмущен, но на проверку оказывается, что все их наговоры оказываются ложными. Приемы их были еще грубее. Тихоновцы прибегали к помощи кулаков и расправлялись с обновленцами, грозили тем же и мне…» (Там же.)
«Церковь теперь в параличе, – пессимистично замечал архиепископ Красноярский Георгий, – но кто пробуждает и как? – Митрополит Александр. Да, это будильник наш. Но кто еще есть? Есть ли кому сменить его? Москва? Но здесь говорят о событиях с насмешками: долго ли вы продержитесь? Эти разговоры парализуют многих. Митрополит Александр, во всеоружии своего таланта, будит во всех нас сознание ответственности, поощряет работников и деятелей на ниве Христовой. А если бы в разных местах, под руководством его, были бы другие будильники, то работа пошла бы повсеместно. В Красноярске от митрополита Александра получили вызов на диспут. Явилось до 15 тысяч верующих и неверующих слушателей. Успех оказался огромным.
Многих удивило, что обновленцы защищают Бога. В Синоде есть миссионерский отдел, но он молчит. Работа ведется одним лицом. Я прошу обратить внимание на город Москву. Если красноречивое слово везде убеждает людей, то этот пример найдет себе подражателей». (Там же.)
30 января 1925 года состоялся доклад А.И.Введенского «Апологетическое обоснование обновленчества». Доклад знаменитого апологета также вызвал ряд откликов.
«Мы стонем от тихоновщины, – восклицал снова Алексий Дьяконов. – В одном из уездов моей епархии на благочинническом собрании Осуждался план, как ныне работать? Священники, все до одного, записались в миссионеры, изыскивая духовно-материальные средства для созидания обновленческого дела. Они вынесли решение собираться чаще. Каж-Дый из них обязался составить доклад на одну какую-нибудь тему: о лице Иисуса Христа, есть ли Бог, как бороться с сектантами… У них происходят собрания, где обсуждения идут, указываются дефекты. Всем этим намечаются точки, где нужно пробудить церковную жизнь. Присматривающиеся к их делу начинают говорить, что священники – работают, и судят о своих пастырях уже в новой плоскости. Значит, где есть работа, там есть и продуктивность.
Перед нами доклад апологета-благовестника. Задача, изложенная в докладе, должна быть возложена на каждого религиозного деятеля, побудить людей идти вперед и работать. Планомерная катехизация и приходов, и масс, начинающаяся с ячеек, несомненно, даст плоды».
«Даже теперь, когда умолкла речь великого Златоуста нашего, – восклицал Николай Федотов, – когда сердце, объятое восторгом перед мастером слова, перестало дрожать, трудно оспаривать существенную пользу доклада». (Там же, с. 39.)
Мы не знаем, знали ли процитированные нами выше ораторы о любви Александра Ивановича к лести (один из пишущих эти строки слышал от него об этом почти через 20 лет – в 1943 году). Вероятно, догадывались – такие вещи чуют интуитивно. Однако, если даже отбросить все преувеличения, содержавшиеся в выступлениях обновленческих ораторов, доклад А.И.Введенского представляет собой – безусловно – событие в развитии русской богословской мысли.
Так как этот доклад, затерянный среди пожелтевших листов старого журнала, недоступен большинству читателей, мы приведем из него пространные выдержки.
«Апологетическое обоснование обновленчества. (Доклад на Пленуме Священного Синода 27 января 1925 года)
… Обычно в обновленческом движении прощупывают только его верхние слои. Прежде всего обывателю бросается в глаза его внешняя окраска, его политическая ориентация. В массы пролилась кличка «Красная Церковь». Этому наименованию контрреволюционные круги придают одиозный, сугубо одиозный характер. Конечно, одиозность вообще вещь не особенно доброкачественная. Одиозная интерпретация клички «Красная Церковь» – есть вещь не желательная и, по существу, неверная. Вот почему мы энергично протестуем, когда нас нарочно, одиозно, именуют красными. Но в то же самое время мы не боимся слова. И самое слово «красный» нам, у которых политическое сердце вовсе не струит белую кровь, не представляется страшным. Как выразился однажды митрополит Серафим Руженцов, «красный цвет – пасхальный цвет». Словом, «красный цвет» – в этом нет ничего страшного. Конечно, если в этом хотят видеть наше пресмыкательство перед властью, о… тогда мы протестуем. То правда, что еще Достоевский метко сказал: «русский человек ищет, у кого бы сапоги почистить». Но мы не принадлежим к породе чистильщиков хотя бы красных сапог. Лакействующая психология тихоновщины объек-тируется ими в душу обновленчества с совершенно напрасной затратой энергии. Если тихоновцы нас называют красными (в одиозном смысле этого слова), то надо полагать, что сами тихоновцы красны в квадрате или в кубе. Когда Тихон осенью 1923 года на стенах своей кельи вывешивал: «Контрреволюционерам вход воспрещается!» – это квадрат церковной красноты. Когда Иларион на стенах церквей в Москве же вывешивал: «Активным контрреволюционерам вход воспрещается» – это куб церковной красноты»[64]64
Надпись на дверях патриарха гласила: «Лиц, обращающихся к Святейшему Патриарху с различными контрреволюционными предложениями, просят не входить». Надпись, необходимая, чтобы обезопасить патриарха от провокаций, а политиков, обращающихся к патриарху с различными предложениями (таких в Москве была уйма), от опасности, так как каждое слово патриарха подслушивалось, и все лица, бывавшие у патриарха, немедленно попадали и под особый надзор. Что же касается надписи в храмах, то это, видимо, плод воображения А.И.Введенского: ни одного человека, который видел такую надпись, мы не нашли.
[Закрыть].
Так что и для тихоновщины оказался прав бессмертный Достоевский. Мы признаем правоту революции. За это – злопыхательство.
Мы признаем правоту революции. Но правы ли мы? Еще раз надо осознать мотивы, по которым обновленчество сделало в области политической то, что сделало.
В истории церковь, в подавляющем большинстве, была не только в союзе, но и преступной связи с государством.
Так в нехристианских религиях, так и в христианстве. Законы Ману установили в Индии существование каст, ряд христианских писателей за границей и у нас обосновали монархизм. Боссюэ называл королей «богами». Ришелье требовал держать народ в невежестве, дабы не трогались устои монархизма.
Проф. Киреев в «Общих основах социологии» совершенно справедливо пишет:
«Обожествление политической власти, в форме ли возведения генеалогии царей к богам или прямого обоготворения царей или учения о божественном происхождении власти, о наделении ею царей свыше – обычное явление в истории догматизации абсолютизма как политической формы. В этом проявлялось отрицательное влияние религии на политику, которое наблюдается и тогда, когда и другие стороны социального и политического быта санкционировались богословскою догматикой, как это было по отношению к рабству и к крепостному праву. Был ли царь и главою религии, или между алтарем и троном существовал только союз, духовенство играло роль реакционной силы, к ущербу не только государства, в котором освящался деспотизм, но и к невыгоде для самой религии, которая из интимного дела индивидуальной души делалась, главным образом, орудием властвования по «Божьей милости» и по своему произволу».
У блаженного Августина мы находим любопытную мотивировку необходимости союза Церкви с государством. Вот отрывок из послания бл. Августина к Викентию: «Те, которые не хотят видеть законов против нечестия, говорят, что апостолы не просили помощи у земных царей. Кто так говорит, тот забывает, что тогда было иное время, а что все должно делаться в свое время. Ибо какой император тогда уверовал в Христа и хотел служить Ему изданием законов в пользу благочестия против нечисти? Тогда исполнялось еще пророческое изречение: «Векую шаташася, язы́цы, и людие научившася тщетным». Предсташа цари земстии и князи собрашася всуе на Господа и на Христа Его» (Пс. 2,1–2). Тогда еще не проводилось в действие то, о чем говорится в том же псалме ниже: «И ныне, царие, разумейте, накажитеся вси, судящие земли. Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом». Каким же образом, если не воскрешая и не наказывая с благовестивой строгостью то, что проверено, а противное сему воспрещая с приличной строгостью «Так Господу служил Иезекия (4 Царств. 18,4), который разрушал и дубравы, и капища языческие»… Аналогичные мысли бл. Августин приводит в послании к Бонифацию!
Отсюда «гармоническое соединение, симфония» царской и духовной власти, как поэтически писал в XII столетии император Иоанн Комнин папе Григорию, отсюда – неразрывность союза Креста и нагайки царского стражника – вот проклятый символ взаимоотношений Церкви и государства во дни и годы дореволюционного кошмара в русской действительности. Передо мной анонимная брошюра 1906 года: «Власть самодержавная по учению Слова Божия и православной Русской церкви». Цитируя блаженного Августина, по которому царь «второй по Боге и высший над всеми и меньший единого истинного Бога», брошюра говорит: «Наш царь избран на служение Самим Богом…» Это не слово оголтелого монархиста. Это общее учение дореволюционной церкви. Недаром же такой ученый и тонкий богослов, как Флоренский, требовал на страницах светской печати объявления самодержавия догматом православной веры. И когда на Соборе 1917–18 гг. священник Востоков говорил, что лишь в добром, мудром русском царе – спасение всего, он повторял то же учение всей русской дореволюционной церкви.
И.С.Аксаков писал в свое время: «Наша церковь, со стороны своего управления, представляется чем-то вроде бюро или какой-то колоссальной канцелярии, прилагающей – с неизбежною канцелярской официальной ложью – порядки немецкого канцеляризма к несению стада Христова с организацией церковного управления по образу и подобию департамента светского правительства, с причислением служителей церкви к сонму слуг государственных, сама Церковь вскоре превращается в одно из отправлений государственной власти, или, говоря проще, она сама поступает на службу к правительству…»
Царизм опирался на всю русскую иерархию. Приравняв епископат к генералитету, царизм действовал через безличный и безвольный Синод. Но идут годы, и в дни церковных революционных потрясений рождается мысль о патриаршестве. Что такое патриарх? Высказывались различные мотивы этого, но, как часто бывает, умалчивался единственный истинный повод всех этих «либеральных» требований. В брошюре москвича Е.С. «О патриаршестве и дворянском представительстве. Мысли русского человека» (1915, с. 6–7) читаем: «Итак, утверждение веры, народности, государственности – вот три задачи, решение которых всегда заботит патриарха… Все это ясно само по себе и не требует никаких подтверждений: в государственные времена патриарх – верный спутник благоверного государя, в безгосударственные – сберегает народ в его народном духе и исторических особенностях».
Тихон, его избрание на Соборе и вся тихоновщина есть осуществление этого литературного требования, этой политической задачи. Неразрывность связи государства и Церкви обусловило массовый отход от Церкви интеллигенции и трудящихся масс. Погодин еще в 70-х годах прошлого столетия предупреждал, что, как только в России будет объявлена свобода религиозных убеждений, половина крестьян отойдет в раскол, а половина «высшего света» (в особенности, по словам Погодина, женщины) перейдут в католичество. До революции Мережковский засвидетельствовал какую-то мистическую, органическую ненависть нашей интеллигенции к православному христианству. Гнушались заходить в чайные «Союза русского народа», гнушались заходить и в храмы, где, наряду с чудотворными Ликами Христа и Пречистой, на голубых шелковых стягах знамени «Союза русского народа» были запечатлены эмблемы алкогольно-прусац-кого самодержавнического держимордстроя.
Мне говорил покойный наш великий египтолог, проф. Борис Ал. Тураев, что ему стыдно ходить в храм, хотя он верующий, ибо его засмеют коллеги, как если бы он в самом деле пошел в чайную «Союза русского народа».
Народ, пусть в диких, кошмарных, с точки зрения подлинной религиозности, формах так называемого нашего раскола, отходил от церкви именно за ее связь с царем, которого в лице Петра Первого определенно именуют Антихристом. Правда, это не был политический бунт, политически себя держал он более или менее лояльно, – это был религиозный протест, но отсюда его значимость, с точки зрения церковной, делается еще больше.
Отлив народа в раскол, в сектантство, следовательно, вызывался той же основной причиной, что и отход от Церкви интеллигенции – тем, что Церковь потеряла свой собственный, подлинный лик.
Обновленческое движение, разорвав раз и навсегда союз с государством, совершило колоссальный апологетический подвиг. Церкви порабощенной, Церкви, скованной золотыми кандалами самодержавных тюремщиков, обновленчество противопоставляет Церковь – свободную от единения с черной сотней, Церковь – подлинно Христову.
В этом такое колоссальное значение обновленчества, что, не будь всего прочего, одно это дало бы ему право быть вписанным золотыми буквами на страницах священной церковной истории. Эта же заслуга нимало не уменьшается тем соображением, что, так сказать, сама жизнь разорвала связь любодейной церкви и самодержавия. Да, это правда, беспощадный революционный огонь распилил церковные кандалы. Рука, обагренная кровью насильников восставшего народа, вырвала Галилейскую Девушку – Церковь из сластолюбивых объятий монархического Рамоли
Но… не осталось ли у этой, продавшей свою верность Христу, официальной церковности жажды новых поцелуев с тем же господином? Я разумею то казенное православие, православие Собора 1917–18 гг., православие тихоновшины считает – поскольку оно находит в себе смысл говорить то, что думает, – современный революционный разрыв между церковью и государством явлением ненормальным, вредным, временным.
Любопытны те прения, которые развернулись на Соборе 1917–18 гг. по поводу этого разрыва, отделения Церкви от государства. Приведу здесь выдержки из заседания Собора от 31 января 1918 года…
«Революция спасительным своим вихрем разметала и эти профессорские и политические бредни, сбросив их в пропасть небытия. Но «бессмысленные мечтания» остались, осталась тоска по союзу с государством… Поэтому, если революция расплавила металлические цепи, державшие Церковь в плену у государства, то остались еще следы от тех вековых цепей на Теле Церкви, в самой ее душе. И обновленчество, которое делает внутренний принципиальный разрыв между церковью и государством, совершает колоссальное апостольское дело. Вырвать Церковь из рук жадных, земных, слишком человеческих, вспоминая изречение Ницше, – это еще для многих Церквей вопрос завтрашнего дня. Для обновленчества – это вопрос вчерашнего дня – и какое это благословленное, священное вчера!
Итак, Церковь, заслугой обновленчества, сделалась внеполитичной, или, точнее, надполитичной… Церковь не солидаризуется ни с одной политической партией, Церковь не превращает себя ни в какую партию. Или, если уж угодно говорить о «партийности» Церкви, то «Церковь» – партия Христа. Все государственное – временное и относительное. Церковь же носительница вечного и безусловного. Все текуче и изменчиво в государстве. Все неизменно, во внутреннем значении этого слова, в Церкви. Вечное – временное. Абсолютное – относительное. Безусловное – условное. Таковы антитезы Церкви и государства. Так ясно поэтому – почему не может быть Церкви в политике, почему Церковь и государство лежат, так сказать, в разных плоскостях, разноплоскостны.
Но это не значит, что Церковь тем самым делается силой индифферентной в смысле том же, политическом. Поскольку под политикой мы разумеем строительство реальной человеческой жизни, постольку Церковь не может быть индифферентной силой. Ибо – она есть дрожжи, согласно Евангелию, которые должны выквасить все тесто жизни. Поскольку Церковь не может солидаризироваться, слить себя с определенной, той или иной политической группировкой, она вне политики. Так что вернее говорить, Церковь вне политической партийности. Но Церковь обязательно принимает участие в реальной жизни. Иначе она теряет свое собственное лицо. Участие Церкви в жизни, конечно, должно осуществляться совершенно своеобразными, церковными методами. Церковь ни в коем случае не есть механическая, внешне организующая сила. Поэтому и церковное переустроение жизни ни в коем случае не должно носить внешнего характера.
Церковь не может быть внешней силой. Христос и этому учил многократно и достаточно ясно. Поэтому мы отказываемся от всякой попытки внешне, церковно-государственно, разрешать проблемы жизни. Но это ни в коем случае не есть отказ от попытки воздействовать на жизнь. Мы должны лишь действовать нашим церковным методом, а этот метод есть путь религиозно-моральной оценки, религиозно-морального указания. Это Церковь может и должна сделать. С высоты надмирного евангельского идеала, имея, так сказать, абсолютно правильные перспективы, Церковь властна и должна указать путь жизни, одно – благословить, другое – отстранить. Если не так, то Церковь превращается в какую-то область мистического квиетизма, фатализма, прострации, если угодно, дурмана. Но Церковь, как я буду указывать еще дальше, есть движущая, влекущая за собой религиозно-моральная сила. Обновленчество, памятуя сей религиозно-моральный, указующий характер Церкви – на Соборе 1923 года провело религиозное принятие правды социальной революции. В этом моменте видят наиболее слабое место наше. А между тем, наоборот, здесь как раз наибольшая мощь, наивысший пафос, наибольшая историко-церковная заслуга обновленчества.
Существует страшный конфликт между религиозным и революционным сознанием. Фридрих Энгельс заявляет: «Первое слово религии есть ложь». А отец коммунизма Маркс категорически утверждает: «Понятие Бога необходимо должно быть искоренено, ибо оно есть основной камень извращенной цивилизации». Любопытны также следующие строки из труда Баха «Религия и социализм»: «Было бы бесполезно отрицать факт, что в настоящее время высшее нравственное чувство оскорбляется христианским учением более, чем в свое время совесть первых христиан оскорблялась сатурналиями в культе Прозерпины».
Ницше в «Антихристе» пишет: «Новый Завет есть самая грязная книга, надо надевать перчатки, читая его, чтобы не запачкаться». Почему? – в недоумении спрашивает себя верующий. И ответ Э.Вандервельда: «Потому – что Церковь заключила союз с золотом». А В.Либкнехт добавил: «Христианство есть религия частной собственности и знатных людей. Христианская Церковь оправдала все то, что Христос запретил». Это слова не только политических деятелей. Это, между прочим, объективное заключение ряда выдающихся исследователей христианской истории.
Естественно, что у тех, кто борется с социальным злом, создается глубоко отрицательное отношение и сказывается даже в суждениях о первичном христианстве, учение которого, например, Энгельс объявляет самым «обыкновенным вздором». А Бебель в «Христианстве и социализме» называет христианство «религией ненависти, преследования и угнетения, стоившей миру больше крови и слез, чем какая-либо иная». И вот Аксельрод в «Философских очерках» требует замены христианства «здоровым и светлым языческим духом наслаждений, исчерпываемых земным бытием». Создается новый идеал на место христианского идеала. О нем Дицген говорит: «Наш идеал не бедность, не воздержание, а богатство, богатство неизмеримое, неслыханное богатство – это реально осязательное благо всего человечества, его святыня, его святая святых. На овладении им, – добавляет он, – построены все наши выводы».
Возможно было бы привести еще множество подобных иллюстраций, но остановлюсь на сказанном… Основной лейтмотив всех отрицателей христианства с точки зрения практического предопределения социального зла может быть сформулирован опять-таки словами Энгельса, по которому религия является «величайшей консервативной силой».
Человечество выдвигает вместо этой консервативной силы новое понимание жизни, разорвавшей с гнетом старопреступных заветов. Ряд мыслителей зажигают яркие огни. Ренувье бросает лозунг свободы: «социальный прогресс должен измеряться только количеством индивидуальной свободы, представляемой в данном обществе». Прудон, в противовес христианству, утверждает принцип рациональности, справедливости, на основе которой и должна быть реорганизована жизнь. Проповедует имморализм Ницше, выставляющий человека как «чудовище и сверхживотное». С разных сторон несется энергичный протест против христианства, этой религии соглашательства с несвободой, неравенством, несправедливостью, обыденщиной, серостью повседневно безрадостного бытия… Наконец, в наши дни победоносный коммунизм реально рвет с христианством, с какой бы то ни было формой религии.
Попытка Хеглунда примирить коммунизм и религию, если религиозники революционно настроены, как известно, встретила энергичный протест РКП. Об этом Е.Ярославский пишет: «Под статьей Хеглунда обеими руками подписались бы не только глава древнеапостольской церкви, протоиерей Введенский, но и вся древнеапостольская, обновленческая, живоцерковная братия». А нас, как известно, в РКП не примут как религиозников – компартия отвергает всех церковников как таковых…
Бунтующая, рвущаяся мысль неверия отметает христианство как соглашение со всем тем, что Христос на самом деле запретил. Вот почему обновленчество, напомнившее миру, что на самом деле Христос уже давно запретил то, против чего идет современная воля, сделало колоссальное апологетическое завоевание. Знаменитая формула Собора 1923 года: «Капитализм есть смертный грех» – положила массовый и коллективный, благодатный предел всем фальсификациям Христовой истины. Нет, не Бог установил разделение людей на богатых и бедных, как кощунственно осмеливается богохульствовать папа Лев XIII в знаменитой своей майской энциклике 1891 г.: «Rerum novurum». Нет, социализм и коммунизм, зовущий к преодолению этого неравенства, не есть «самая ужасная тирания», как обозвал коммунизм Мартенсон. Нет, к нравственной правде социальной жизни взметнула и свои красные знамена русская революция. И благодатью движимое обновленчество, устами боговдохновенного Собора, благословило этот порыв. Это сделано не из мимикрических соображений. Это мы сделали не для них, не нуждающихся и не верящих в наше благословение. Это мы сделали для Церкви, которая лжевождями была брошена в тьму приспособленчества и к мировому злу всечеловеческой неправды. Церковь – русская Святая Церковь – неповинна в оправдании страшнейшего зла современности. В этом – центральнейшая заслуга обновленчества. В сущности, мы еще мало осознали этот кульминационный момент обновленческого подвига. Русская Церковь это сотворила. В этом ее призвание. Русская Церковь нашла свое лицо. Оно не в том, чтобы поддерживать пьяно-глупую морду Романовых, не в том, чтобы сокрушать во имя религиозных моментов германский империализм, как это вещал в годы войны Сергей Дурылин (символическая фамилия!) и прочие остроумцы, не в чем-то земном, человеческом, относительном. Ее обязанность, Богом возложенная, в годы всеобщего христианского распада, вызванного забвением историческими церквами подлинного Лика и Духа и Заветов Христа, снова, как бы во второй раз, явить миру Христа.
Не Христа Германского, Русского или другого националистического Сверхгероя, но Христа – Вселенского, уничтожающего, сжигающего в огне любви все национальные перегородки. Поэтому и христианство, по своему существу, враждебно национализму, патриотизму государственному и патриотизму классовому.
А между тем отдельные религиозные организации хотят во что бы то ни стало видеть Христа именно католического, капиталистического и т. д. Ос-вобождение Христа от национальных объятий, от конфессиональных алтарей и от капиталистических и золотых цепей – вот величайший дар любви, который обновленчество положило к подножью Вселенского Престола Вседержителя. Христос – Освободитель реальный, революционный, свободный от этого зла.
Христос – Осудитель всего мирового современного зла», (с. 18–21.)
Обновленчество есть православие. Это – простая, короткая, но – увы! – не для всех ясная формула. А между тем другой и нет, и быть не может. И мы должны со всей решительностью этой формулы держаться, нимало не боясь упреков с той или другой стороны – со стороны левых, со стороны правых. Я сейчас разъясню, в чем дело. Но прежде всего я хочу объяснить философские методы, по которым оправдывается наша философия суровости и беспощадности в деле отстаивания нашего принципа религиозного миропонимания, на основе которого мы цепко держимся этой формулы: обновленчество есть православие.
Ригоризм в области формулы есть само собой вытекающее следствие обладания истиной. Истина всегда точна. Истина – там, где точность доведена до степени абсолютности. Мир неорганической жизни характеризуется цифрами – там владычествует математика. Математические формулы паутиной неразрываемой охватывают все материальное бытие, в математических формулах осуществляется нигде не нарушаемая «закономерная беспрерывность вселенной», по выражению проф. В.Феггера. Отыскивание этих формул, точных до абсолютности, является и задачей всей науки, как это справедливо указывал в свое время еще Огюст Конт. Борьба за формулу есть борьба за практическое преодоление противоборствующих средостений: покорение стихий и т. д. Инженер должен найти совершенно точные формулы, прежде чем построить мост. Расчет чертежей должен быть с математической законченностью сделан, иначе, по неточным чертежам построенный, мост рухнет, и страшная катастрофа может увенчать ошибочность формулы. Здесь – борьба за догмат, формула математики есть формула математической истины. Здесь математическая ересь может повлечь за собой совершенно реалистическую катастрофу. Шпенглер прямо говорит: «Современная механика есть точь-в-точь сколок с христианских догматов». Конечно, здесь замечательный парадоксалист наших дней устанавливает, может быть, связь вещей не вполне точно, но, во всяком случае, догматический характер современных математических истин не подлежит сомнению.







