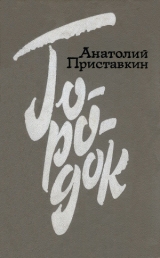
Текст книги "Городок"
Автор книги: Анатолий Приставкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Часть шестая
В то время как Тамара Ивановна с утра, надев халатик и повязав свои золотые волосы лентой, осматривала хозяйство, степенно, без суеты, расспрашивая мужа, Вовка успел обежать весь дом и теперь крутился у них под ногами и не давал толком поговорить.
– Папка,– спрашивал он.– А почему у тебя полы не крашены? А где туалет? А почему у тебя два крыльца?
Тут и Тамара Ивановна спросила: зачем в доме два крыльца? Или он предусматривает запасной выход?
– Здесь Петруха должен был жить,– отвечал Шохов, хмурясь. – Не захотел.
– Но почему?
Шохов пожал плечами, глядя в сторону.
– Я же писал, что он того... малый с загибом.
– Ты писал, что он «чокнутый»,– явно с осуждением произнесла Тамара Ивановна.
– А он и есть чокнутый! – недобро подтвердил Шохов.– Строились вместе, а потом вдруг взял да отказался. Вот и суди, какой он?
– Где он живет?
– В избушке.
– Ну да. Вон там.
– Я бы хотела с ним познакомиться,– неожиданно решила Тамара Ивановна.
– Зачем?
– Ну... Интересно посмотреть на него. Вы же прежде дружили?
Так как Шохов молчал, она добавила:
– Но я вообще со всеми хотела познакомиться, о ком ты писал. Может, стоит пригласить их к нам?
Шохов снова спросил:
– Зачем?
– Странный ты! Но ведь это наши соседи? Нам ведь с ними жить?
– Нам с тобой жить, – сказал Шохов и осторожно обнял жену. Он отвык от ее гладких красивых рук, от ее золотого взгляда и постоянно смущался, когда она смотрела.
Впрочем, крутившийся поблизости Вовка тут же стал их разнимать, втиснувшись между ними.
– Отойди от мамы,– сказал он отцу.– Чего ты к ней пристаешь?
Они рассмеялись, а Тамара Ивановна произнесла мягко, укорила:
– Дурачок ты у меня... Это же мой муж! Пойди-ка посмотри, где Валерий. Ему, наверное, скучно здесь?
Тут, как бы между делом, они поговорили о Валерии, которого надо было устраивать учеником.
– Он ПТУ окончил? – спросил Шохов озабоченно.
– Да. И неплохо. Вообще-то он собирается дальше учиться.
– А как с армией?
– У него год отсрочки. Он хочет поработать, а заодно будет готовиться в институт. Как он тебе?
– Ничего,– сказал Шохов.
– Он парень с характером,– произнесла Тамара Ивановна.– Я уже это поняла. Но ведь без отца воспитывался, мужик в доме... Все сам да сам.
– Это не плохо. А где он будет жить?
– Ты как думаешь? Где?
Шохов промолчал, она опять спросила, заглядывая ему в глаза:
– Ты не хочешь, чтобы он с нами жил?
– Да мне все равно. Но, может, спросить его? У нас хорошие общежития, между прочим. Я могу и на своей койке поселить.
– Ладно. Спросим,– решила Тамара Ивановна, подумав.– Не сейчас. Потом. Я хочу, чтобы он пока чувствовал себя как дома.
Тут прибежал Вовка и сказал, что Мурашка (он так и звал его по фамилии, уж очень она была прилипчатая) сидит во дворе.
– Что, просто сидит?
– Ага.– Вовка поправился: – Нет, сначала он поколол дрова. Потом сел отдыхать.
– Ну, позови его сюда. Или нет, не надо. Мы сейчас придем сами.– Тамара Ивановна многозначительно посмотрела мужу в глаза. Мол, видишь, он каков: уже поколол дрова. Что ни говори, а парень старательный.
Шохов же, закончив пояснения по дому, вывел жену во двор. Показал, где будет сарай, а где баня и гараж, если думать о перспективе. Где можно разбить садик, а где огород. Увидев сидевшего в одиночестве Мурашку, окликнул:
– Валерий, как тебе мое хозяйство?
Юноша поднялся. Очень независимо, не спеша подошел.
– Нравится? Нет? – опять спросил Шохов едва ль не заискивающе. Уж больно суровый вид был у парня.
– Да ничего,– сказал он, дернув плечами.– А чего же вы уборную под окнами поставили?
Шохов посмотрел на уборную, на Мурашку и натянуто засмеялся:
– А ведь верно, приметил... Это временно. Уборная в доме будет. Только не сразу.
– Тем более,– сказал Валера.– И крыша...
– Что крыша?
Валера задумчиво посмотрел вверх и произнес:
– У нас дома лучше! У нас черепица...
– Ну, – протянул Шохов.– У тебя отец был строитель номер один во всем Советском Союзе! – Он заметил, что Тамара Ивановна делает ему глазами какие-то знаки, с ходу поправился: – Но ты меня уговорил: мы сложим печь во дворе и сами смастерим черепицу.
И, будто в отместку за столь придирчивое отношение к его выстраданному дому, Шохов спросил быстро:
– А скажи-ка, дружок, у вас учили в ПТУ грунты?
– Классификацию? – уточнил Валерий.
– Ну да!
Тот подумал, посмотрел Шохову в лицо. Кажется, он сообразил, почему вдруг устроили ему испытание.
– Пожалуйста. Первая категория – это песок, супесок, растительный грунт, торф...
– Объемный вес песка?
– Тысяча пятьсот килограмм на кубический метр... Вторая категория это...
Шохов перебил Мурашку:
– Глина – какая категория?
– Смотря какая глина? – отвечал резонно мальчик.
Тамара Ивановна следила за странным поединком, чтобы при случае вмешаться. Но, кажется, Мурашка не собирался отступать.
– Жирная глина – третья категория, тяжелая – четвертая.
– Ничего, – кивнул Шохов примирительно.– Все верно. Так вот здесь, кругом, и под домом, тоже глина. Жирная глина, годная для черепицы. Можешь представить, как мне досталось основание копать.
Но эти последние слова он уже относил скорей своей жене, чем Валерию. Оставив ребят, они пошли по двору, и Шохов продолжал пояснять, в каком порядке и что он возводил. Не было его рассказам конца.
Когда же он закончил, возбужденный, усталый, Тамара Ивановна в порыве благодарности обняла мужа и, поцеловав его крепко, произнесла:
– Шохов мой! Я тебя люблю! Ты совершил чудо. Спасибо тебе за наш дом.
«За наш дом» – вот что было главным в ее фразе.
После обеда, как ни отговаривал Шохов, она решила познакомиться с Петрухой. Со всеми остальными, в том числе и Галиной Андреевной, она собиралась встречаться тоже, ко с Петрухой в первую очередь.
Она объяснила почему. Он здесь был первым, и вообще он заинтересовал ее с тех пор, как о нем, еще осенью, написал в письме муж.
Отпустив Вовку с Валерой купаться на речку, о которой с приезда только и было разговору, сама, как была, в домашнем легком платье-халатике, в босоножках, отправилась по тропинке к видневшейся неподалеку избушке. Она представляла по письмам эту избушку, но все-таки не такой маленькой.
Дверь, как и предсказывал Шохов, оказалась открытой. Внутренность же сумрачной, прохладной и довольно неухоженной, о чем тоже предупредил Шохов. Но для Тамары Ивановны вовсе не порядок в избушке был важен. Ей хотелось взглянуть на дом, где ее муж в содружестве со странным хозяином провел свою трудную одинокую зиму.
Она увидела печку, не очень-то складную, и стол, заваленный радиоаппаратурой, и лавка справа, где спал Шохов, и самого хозяина, большеголового и глазастого. Вот только уродливым или некрасивым его никак нельзя было назвать.
Петруха ей понравился сразу: большие глаза, умные и выразительные, странный, но очень чуткий рот, чистое смышленое лицо с детской смущенной улыбкой.
Таковым оно стало, когда Тамара Ивановна представилась женой Шохова и добавила, что много хорошего слышала о Петре Петровиче и хотела бы с ним поближе познакомиться. Тем более, что жить им в добром соседстве придется долго.
Петруха пригласил ее присесть, извинившись за некоторый беспорядок в доме. В нем нет женщины.
– Да, я это поняла,– сказала Тамара Ивановна с мягкой улыбкой и вдруг предложила: – Хотите, я приберу? Я это быстро сделаю.
– Нет, нет, – почему-то испугался он. Добавил: – У вас и там хватает сейчас дел.
– Да! – воскликнула она непроизвольно.– Я пришла в ужас, когда увидела его белье! Он же все стирал в холодной воде. Надо перестирывать, мыть, скрести... А где ваша семья, Петр Петрович? Или вы всегда один?
Тамара Ивановна спросила так просто и естественно, что Петруха нисколько не усомнился в ее искренности, как и в ее сочувствии.
Вообще оказалось неожиданным, что они, доселе не встречавшиеся и даже будто разъединенные разными сложностями в отношениях Петрухи и Шохова, с первых же слов, с улыбки, с момента, когда они увиделись, почувствовали друг к другу необыкновенное доверие.
– Вам, наверное, уже сообщили, что меня тут зовут чокнутым? – спросил с улыбкой Петруха. И по легкому смущению собеседницы, ее протестующему жесту понял, что так оно и есть.– Ничего,– сказал он добродушно.– Меня это никак не волнует. Да и вы-то при чем, что вам это сказали. А знаете, меня так и раньше звали. Я вообще среди детей рос, как выражаются нынче, нестандартным ребенком, очень неуравновешенным, со всяческими там психическими отклонениями. А все из-за своего ненормального воображения. Однажды, лет так семи, еще до школы, я прочел книжку (ее названия я не знаю до сих пор), как влюбляются двое, а потом девушка топится в реке, а сошедшему с ума юноше кажется, что с неба падают мешки с трупами. Меня так поразила эта картина, что я перестал спать по ночам и стал заговариваться, и меня направили на лечение. Было и другое, разное. И пошло, и прилипло ко мне прозвище чокнутый.– Он задумался.– И знаете, что интересно. Я часто переезжал с родителями (они у меня кадровые военные), и на новом месте это прозвище – кто бы, кажется, мог знать! – опять ко мне прилипало. Это поражало больше всего. Ну, откуда, откуда? Потом лишь понял, все проще: они по моему поведению, по мне угадывали меня. Все мое за мной тащилось, как некий хвост. А потом привык, ведь знаете: если человека назвать сто раз свиньей, то на сто первый он сам захрюкает... Я отчаивался, плакал. А потом привык. А как стал старше, вдруг понял, что все, в общем-то, правильно. Они вокруг меня хоть другие, но те же, и я все тот же, куда же нам уйти друг от друга... И еще я понял, уже без раздражения, что мне придется до самой старости носить это клеймо.– Он помолчал, поглядывая в окно.– Вот был со мной случай, послушайте, может, вы лучше поймете меня. Я с детства пристрастен к технике. Дома все мастерил сам. Однажды заболел автомобилем и собрал его вручную. Не только собрал – добился, чтобы его оформили в ГАИ, и долго на нем ездил, пока не купил настоящий «Москвич». И вот когда стало можно (хоть это всегда было можно) и все бросились копить на «Жигули», правдами и неправдами стараясь достать, добиться, выцарапать машину, я свою продал. Я договорился в одном хозяйстве, что мне поменяют на свинью, на списанного жеребенка. Жеребенка, которого держал в бывшем гараже за городом и каждый день ездил к нему, чтобы чистить, кормить и гулять. Вы думаете, кто-нибудь меня понял? Постарался понять? Они вертели пальцем у виска, а за глаза говорили: «Так он же чокнутый! Машину на какого-то жеребенка сменял!» Так вот, откроюсь чистосердечно: мне плевать на них. Раньше-то я переживал, понимая, что я не такой. А какой на самом деле, не знал. Нет, знал: что я хуже. Им удалось мне внушить, что я хуже. Но сейчас я знаю, кто я, что я могу, и знаю цену тому, как ко мне относятся. Впервые, может быть здесь, притом что кличка за мной притащилась (хвост!), я не чувствую собственную неполноценность. То есть это бывает... Но я могу спокойно удалиться. Как сделал в истории с вашим мужем.
Только это Петруха и сказал про отношения с Шоховым. И больше ни единым словечком, но о себе рассказывал еще долго. Тамара Ивановна, привыкшая и умеющая находить с людьми контакт благодаря общительному сострадательному характеру, все же растерялась от такого распахнутого доверия. Она решительно заявила, что все-таки немного приберет в его избушке. И хотя Петруха неловко сопротивлялся, вытеснила легонько его за дверь и почти час мыла, терла влажной тряпкой, выскребая накопившуюся грязь.
Разрумянилась, раскраснелась и, поправляя свои золотые волосы, сказала на прощание, что она просит, чтобы Петруха пришел к ним в гости. Они собираются устроить маленький праздник по поводу воссоединения семьи, как выразился бы Шохов.
– Это завтра,– добавила Тамара Ивановна.
Петруха молчал. После всего происшедшего он не мог отказаться, но и не очень-то желал идти.
– Не знаю,– честно признался он.
– Ну, пожалуйста,– попросила она, глядя ему прямо в глаза.– Ради меня. Ладно?
Петруха неуверенно кивнул. Метнулся куда-то в глубь избушки по влажному полу, едва не поскользнувшись, и принес несколько сложенных листочков.
– Вы спрашивали о семье,– произнес он, смущаясь.– Вот. Тут я записал, как у нас было.
И попросил, виновато:
– Вы только не показывайте... Никому.
– Ну конечно, – с готовностью и очень мягко пообещала Тамара Ивановна.– Я вам отдам завтра, когда вы придете. Спасибо вам.
– Это вам спасибо! – воскликнул Петруха.
С крылечка он долго смотрел Тамаре Ивановне вслед и о чем-то грустно думал.
Дома, как только осталась одна, Тамара Ивановна открыла записи: несколько довольно разрозненных страничек, даже не пронумерованных. Видно, что писали отрывочно, в минуты сильного волнения, не для чужого глаза, а чтобы выговориться, снять внутреннее напряжение. Возможно, что-то и потеряно.
Как могла, Тамара Ивановна попыталась разложить листочки по порядку и стала читать.
«Разговор произошел в начале октября.
– Уезжай! Уезжай! – кричала жена в истерике.– Ты же говорил, что уедешь! Говорил же, так уезжай.
– Хорошо, но я не снял еще комнату.
– Когда ты ее снимешь?
– Скоро. Я перееду после дня рождения дочки. Как справим ей четыре года, так и уеду.
Мой отсчет шел как у космонавта: от максимума к нулю. И каждый вечер я думал: еще день. А дочка играла. Сегодня ноль. А она: «Пап, посмотри, какое я метро выстроила. Красиво?» Потом она поиграла моими волосами и легла спать. Уже засыпая, попросила: «А ты мои волосики потрогай, тебе нравится?» А времени – ноль. После дня рождения я лишних два дня прожил.
– Ну, ты скоро? – спросила вновь жена.
А сердце разболелось так сильно, что ночью просыпаюсь от боли. Я вдруг подумал, что буду трудно умирать.
В день, когда должен был уехать, вдруг случилась командировка. В первую ночь в гостинице приснилось мне, что бреду один в неизвестность и так рыдаю, почти кричу, что самому стало страшно. Проснулся, но без слез. Так и не понял, отчего плакал. Но проснулся облегченный, что-то во мне освободилось. Утро было ветреное, легкое.
Дочка:
– Пап, когда я сплю, ты на меня смотришь. Утром, когда ты спишь, я на тебя смотрю, когда собираюсь в детский сад...
Я понял, что можно жить. Но боялся, что нельзя жить. А наверное можно.
Я еще не выехал из своей квартиры, комнаты, но похож на какого-то эмигранта, который взял билет, но что-то хочет понять и ворошит пустые бумаги, и ждет, и плачет...
Дети ни о чем не догадываются, играют, я на них смотрю... Бедные они, бедный я... Все бедные... Как бы одно их слово могло все переменить сейчас! Но они его скажут после, когда оно ничего решить не сможет.
Я ссылался в промедлении развода на детей, но были еще какие-то ниточки, которые связывали с женой. Это ощущалось временами, как во время моей болезни. Было сочувствие, но достаточно ли его? Поразило же меня, как напоследок, не дрогнувшими руками, она сама, сама рвала эти ниточки, остаток, без колебания, одну за одной.
ИЗ ПИСЬМА БУНИНА:
«Человек рождается один, страдает один, умирает один... Значит, и жить он должен один».
И, все-таки цепляясь за последнее, сегодня утром спросил опять:
– Я хотел бы выяснить... Как мне уезжать?
– Ну мы же договорились, – ответила четко жена.– Чем скорей, тем лучше.
В этот день с утра собирался, суетливо совал какое-то белье. Было решено, что я все оставлю. Вещи, квартиру, книги. Проезжая тетка из Иркутска, ничего не понимая, лезла со своими вопросами насчет посылки: «Как вы думаете, сосиски с фруктами можно вместе класть?»
Наконец уложил сумку, отвез вещи и вернулся. Вот и все. А дальше только проститься. Вместе поужинали с семьей и теткой.
Жена сказала:
– Не забудь оставить ключи.
Вышел к лифту, жена вдруг заплакала. Я обнял ее и почему-то сказал: «Ну что ты... Я же буду приходить». Как будто это имело какое-то значение.
Лег спать в грязной неуютной комнате, которую я снял. Дворницкая. Зато близко к моему дому. Бывшему моему дому. Смотрел на белевшее в темноте окно и думал. Недоумение – вот что я испытывал: как я сюда попал?
А утром увидел эту грязную комнату, шкаф с оторванной дверцей и лампочку пыльную, без абажура. Как я здесь? Как это все случилось? Сел около неразобранных вещей и разрыдался.
Распался дом, и вдруг оказалось, что без него ничего нет. Ни мира, ни людей, ни меня самого.
Дочка:
– Пап, а зачем ты каждый вечер уходишь? Мне тебя жалко! Давай завтра я проснусь, а ты уже пришел, ладно?
Я как большой маятник между домом и недомом (оба чужие), но еще движение идет во мне вверх и вниз. То я возношусь духом – и тогда верю, что все кончится хорошо, то падаю, как в пропасть, и все во мне замирает от страха. Когда это кончится? Чем?
Жизнь не вечна, говорят. А смерть – вечна. Тем-то она и страшна, что она вечна. Но ведь вечная жизнь тоже могла быть страшна? Я делаю вид, что мне еще как-то живется. Я научился в одиночку есть. Оказывается, это не так-то просто. Стола нет, поставил сковородку на подоконник и ковыряю вилкой (одну – купил!). За окном идет лифтерша, которая много лет меня знает. Проходя, уставилась на меня, как на чудо. Смотрит, а у меня кусок застрял в горле. Еще бы, жил в трехкомнатной квартире – и вдруг сидит у дворника и ест из сковородки...
И еще сложность. Каждое яблоко, апельсин или конфета не идут, возникает виноватая мысль: а они как же? Дети? Раньше-то все им отдавалось. А теперь вдруг я сижу и ем... А вдруг у них нет?
А ведь страшно-то умирать в одиночку. Не смерть страшна, а одиночество, смерть в одиночку...
Я вдруг подумал, что в моей одинокости никто и ничем не может мне помочь и я сам, сам, повисший в пустоте, могу лишь решить, что сейчас с собой делать. Жизнь кругом прекрасна, и я это осознаю, и друзья у меня еще есть, и дети. Но я как бы вне этого, и мое состояние характерно тем, что его возможно или невозможно пережить.
Вот я и думаю: возможно все-таки или невозможно?
Это я сам решу. Только я не знаю, не могу знать пока, как я решу. Что-то делаю, общаюсь, с дочкой хожу играть, а некая пружина во мне кружится, подсчитывает: возможно – невозможно. Я будто слежу со стороны, как я решаю.
Нельзя сказать, что я пассивен. Я даже к дочке хожу не ради нее, а и для себя также, чтобы думать, что не один я, не в пустоте, а значит, возможно жить. Но сам-то я знаю, что один кругом, весь – один. Голенький! И вопрос вовсе не решен, вот что ужасно. Но ужасно ли? Для кого? Только для меня одного и ужасно.
Один приятель:
– Все мы творцы собственных несчастий.
– Ну и что же, я это знаю,– сказал я.
– Что же ты ищешь тогда сочувствия? Не ищи. Сам виноват.
Два вопроса меня волнуют прежде всего. Бережение друзей и необходимость страдания, которое ко мне пришло через уход.
У меня сосед по квартире (здесь две комнаты) старичок дворник. Говорят, что он сумасшедший. Вся его странность проявляется в том, что он ничего не говорит. Только звонит по телефону неведомо кому и рассказывает о себе. Как встал, как поел и так далее. Однажды, выходя в коридор, я заметил, что он набирает только пять цифр.
Вот и сегодня он поужинал в одиночку на кухне, помыл посуду и накрыл ее газеткой. Потом набрал чей-то номер (пять цифр) и сказал: «Я пошел спать. Спокойной ночи».
Когда он ушел, я набрал эти же пять цифр, но никто мне не ответил. Добрал еще нуль, вышла справочная вокзалов. Автомат глухо проворчал: «Ждите, вам ответят». Мне ждать было незачем, я положил трубку. Потом полез в саквояж и вынул стеклянный флакончик со снотворным. Рассматривая его, подумал еще, что выпить всю эту кучу сразу, единой горстью, невозможно. Значит, пятьдесят штук по одной.
Последний раз набрал номер дома. Бывшего дома.
– Сынок, как дела?
– Ничего.
– Ты был в школе?
– Да.
– Ну и что?
– Ничего.
– А как ты себя чувствуешь?
– Ничего, папа. Ты не можешь позвонить в другой раз?
«Не могу»,– я не мог сказать.
– Мы смотрим телевизор. Это... Ну, Штирлица. До свидания! – сказал он и положил трубку.
Я пошел в комнату и высыпал таблетки на ладонь. Сколько их тут... Да ладно. Какая разница, одной больше, одной меньше. Я взял одну на язык и проглотил. Они, оказывается, глотались легко. Вторая, третья, четвертая.
«...Мама порой подолгу глядела на нас, занимавшихся за столом, молча, с тяжелой печалью. Не раз повторяла: «Вырастете, и я вас не увижу... Какие-то вы будете!» В другой раз с горькой улыбкой: «И подумаешь, что каждый прохожий сможет вас увидеть, а я не увижу!»
Это Анастасия Цветаева. Пятая, шестая, седьмая... Я потому и вспомнил, что понял, что это все. А дочка однажды сказала, сидя у меня на коленях: «Хорошо, что мама на тебе женилась. Ты – добрый!»
Восьмая... Или седьмая. Какого черта, ведь все равно. Девятая. Десятая.
Однажды дочка сказала: «Пап, а отчего люди умирают?»
– От старости,– ответил я.
– А потом что? – Я не смог ей ответить. Она продолжала: – А я не умру. Потому что я не хочу умирать.
Я тоже не хочу! Одиннадцатая! Двенадцатая! Что же я делаю? Тринад...
О господи, я не увижу никогда свою дочку. Любой прохожий... А я – никогда! А как она без меня будет?
Я швырнул флакон, и он покатился по полу с каким-то странным треском. Какое-то мгновение сидел, пытаясь что-то сообразить. Бросился в коридор, в туалет. Наклонился над унитазом и сунул палец в рот. «О господи! – умолял.– Помоги, о господи!» Но меня стошнило только слюной. Я выпил воды и опять попытался стошнить. Теперь получилось. Я добрался до постели и будто отключился.
Во сне я видел бога, сердитого небольшого старика. Он сидел на чердаке нашего деревянного дома (тот, где я жил в детстве), и я лез к нему по деревянной шаткой лесенке. Я лез и плакал, умоляя меня принять. Но он отталкивал меня ногами и кричал гневно: «Иди! Иди отсюда!»
Проснулся в слезах и распухшей от сна головой. Вышел покачиваясь как пьяный в коридор и увидел моего старичка.
Почему-то испуганно он произнес:
– Ну, слава богу. Уже вторые сутки... У меня чай есть, хотите?
Я попил чай, и мне стало легче...»
Тамара Ивановна в этот день обошла почти весь Вор-городок. Это было вдвойне интересно: хотелось посмотреть, как живут здесь люди, да и познакомиться с теми, кого в письмах называл ее муж.
При близком рассмотрении Вор-городок не производил такого монолитного впечатления, как с Вальчика, в первый день их приезда. Улицы, довольно просторные, вовсе не были так чисты и стройны, потому что каждый строил домик, как ему казалось наиболее удобным. Домики были разные, вовсе крохотули, даже вагончики, и крепкие, из рубленых старых изб, купленных на вывоз с пронумерованными бревнами, но, конечно, их шоховский дом, она отметила сразу и не без гордости, был тут самый видный.
Но люди обживались. На окнах светлели занавесочки, из труб кое-где был виден дымок. А многие приспособили летние таганки прямо во дворе. Тут и варили, и стирали, и даже обедали. Благо июль стоял на редкость сухой и теплый.
Кое-где были наспех вскопаны даже огородики, и что-то зеленело. Тут же возились куры, а в одном месте была привязана коза. Вспомнилось: «Пусти бабу в рай, она и скотину за собой приведет».
На некоторых времянках, не везде, торчали антенны телевизоров. Заборы были разные, крашеные и некрашеные. Но уже кое-кто вывесил снаружи почтовые ящики, дань моде или привычке, а иные нарисовали и название улицы: «Сказочная». То ли поверили, что и вправду такая, то ли вывесили для внутренней устойчивости, потому как с названием – привычнее было жить.
Проходя по Вор-городку, Тамара Ивановна не переставала думать о записках Петрухи.
Дед Макар встретил ее любезно. Хвалился домом, показал печь, которую сложил Григорий Афанасьевич, и телевизор, который собрал Петр Петрович.
Тамару Ивановну заинтересовала машина деда с ее планетами. Она спросила, можно ли, когда она пойдет учительствовать в школе, чтобы Макар Иванович рассказал ученикам о машине: для чего она, какие вопросы помогает решать.
– Это машина счастья, уважаемая Тамара Ивановна,– сказал старик посмеиваясь.– Только об этом вряд ли надо говорить. Люди это считают чудачеством.
– Дети-то более чуткие, чем взрослые!
– Вы правы... Но мы и детишек успеваем так быстро испортить! Они слышат взрослых и повторяют их... Не хотите ли, дорогая, лучше кофе?
И, без какой-либо видимой связи с предыдущим, старик повторил какую-то цитату из Бернарда Шоу, что разумный человек приспосабливается к миру, а вот неразумный – тот пытается приспособить мир под себя. Он – дед Макар, из последних.
На вечер старик обещал прийти.
Галина Андреевна встретила Тамару Ивановну, будто ее ждала. Обо всем успели они поговорить, посплетничать. Но эти сплетни никаким образом не касались Шохова, к последнему Галина Андреевна питала добрые чувства, хотя... он ничего не сделал, чтобы помочь мужу Галины Андреевны.
– А он может? – спросила Тамара Ивановна почти виновато.
– Каждый может,– отвечала Галина Андреевна твердо,– помочь другому человеку в беде.
– Вы думаете, что он...
– Да нет, я так пока не думаю. Но мой долгий опыт (долгий, потому что долгое мое несчастье) подсказывает, что люди чураются чужих несчастий, я же первая с просьбами никогда не лезу. Да, существует, знаете ли, еще инерция, с некоторых времен создающая атмосферу вокруг такого рода помощи...
– Я поговорю с Шоховым,– пообещала Тамара Ивановна.
– Спасибо, – произнесла Галина Андреевна, благодарно глядя на гостью.
Вот и о ней, о трудных ее часах, проведенных без мужа, думала Тамара Ивановна, тоже соизмеряла с Петрухиными записками. Были ли у Галины Андреевны такие мгновения, когда казалось, что жизнь кончена и нет больше сил дальше жить? Наверное, были. Не без этого.
А разве сама Тамара Ивановна не пережила нечто подобное, когда получила одно из шоховских писем. Конечно, не такой уж была она наивной девочкой, чтобы не понимать, что в долгих поездках может завестись у него какая-нибудь зазноба. Но одно дело понимать, а другое – знать. Даже страшно сейчас вспомнить, что она тогда пережила, передумала... Заметалась, отчаиваясь и не зная, как дальше жить. Благо, что рядом был Вовка. Она просидела около его постельки всю ночь, боясь остаться одной. Может, это ее и спасло. В отчаянии и слезах повторяла про себя: «Это меня бог наказал! Сама виновата!»
В чем же Тамара Ивановна считала себя виноватой? А вот в чем. Когда-то, уже после отъезда Григория Афанасьевича случилось, они, три учительницы, пошли в ресторан справить день рождения одной из них. А с собой, для проформы, захватили молодого учителя математики. Этот учитель повстречал в ресторане приятеля, который тут же перебрался за их стол. Он-то и вызвался провожать Тамару Ивановну к дому и даже пытался ее поцеловать. И хоть ничего между ними не было и она, рассердившись, тут же ушла и никогда больше не встречалась с ним, в момент несчастья она себя винила в грехе: что разрешила провожать, что кокетничала, раз он так мог подумать, что ему все разрешено. Любила же она всегда одного Шохова. Вот и поговорка есть: тошно тому, кто любит кого, а тошнее того, кто не любит никого... Она же всегда любила и не почитала свое чувство за тяжесть.
К вечеру стали собираться приглашенные. Пришли все: дядя Федя, который отнекивался поперву, пришел со своим неизменным парнишкой-гармонистом, травмированным при избной помочи в язык, о чем немало потом шутили в Вор-городке. И Коля-Поля явились в куртках студотряда, в джинсах и кедах. Их особенно тепло встретила Тамара Ивановна и долго расспрашивала, где они учились, что сдавали и где устроились работать. Им предстояло открывать новый учебный год вместе, в одной школе.
Пока Шохов водил дядю Федю по двору, объясняя свои хозяйственные дела, Тамара Ивановна с помощью Галины Андреевны приготовила стол. Поперву было решено накрыть на воздухе, но потом решили, что комары да мошка не дадут посидеть спокойно. Лучше уж потерпеть духоту, чем кормить гнуса весь вечер. Да и был, определенно был смысл делать праздник в доме, все-таки справлять что-то вроде новоселья.
Дед Макар явился одновременно с Петрухой. Они чинно уселись на скамеечке у дома и вели свои беседы. Последними пришли Вася Самохин и Нелька. Они поссорились еще по дороге в гости и теперь оба были взъерошенные, дерганые, их трудно было унять. Самохин по старой привычке с ходу пошел задираться к деду Макару, но тот, на этот раз довольно вежливо, но твердо, отфутболил его к бабам, произнеся единственно: «Васенька, голубчик мой, я тебя люблю, ты знаешь, но больше на расстоянии. Тебя, кстати, Тамара Ивановна хотела попросить что-то по хозяйству».
Вася Самохин никуда не ушел. Он стоял и слушал, выискивая возможность все-таки влезть в разговор. Дело могло кончиться элементарной грубостью, но, к счастью, его прервала Галина Андреевна, позвав всех к столу.
На столе кроме вина и водки стояли всяческие разносолы, оставшиеся у запасливой Тамары Ивановны с прошлого года, в том числе соленые грибки.
Вовка тут же всунулся, что он-де тоже собирал грибы около Елабуги за Камой. Но Тамара Ивановна сразу же ему и Валере нашла дело – попросила сходить в магазин в Зяб за хлебом.
Кто-то предложил свой хлеб, но она отмахнулась:
– Пусть сходят. Нечего им среди взрослых болтаться.
– А на мороженое денег дашь? – спросил Вовка.
– Дам. Бегите.
Тут же после первой рюмки разговор переключился на детей. Как они много стали понимать и как трудно с ними ладить. Тамара Ивановна с улыбкой рассказала историю, как, вернувшись однажды из школы, Вовка сердито произнес: «Вот чертова баба! Пристала ко мне!» —«Ты о ком?» – спросила в изумлении мать. «О ком, о ком... О Люське Фроловой. Она у нас руки перед уроками проверяет!»
– Ему сколько? Восемь?
– Больше... Он во второй класс перешел.
– Вот вам и дети...– протянул кто-то задумчиво.
Остальные молчали.
– Я бы таких щенков учил бы по-своему,– зло произнес Вася.
– Ох, Васенька, ты еще роди да воспитай.
– Захочешь тут родить,– огрызнулся он.– Когда такое услышишь.
– Но, может, он прав? – спросил растерянно дед Макар про мальчика.
Но Вася был сегодня особенно не в духе. Он тут же крикнул Макару Ивановичу:
– А что ты, дед, почему не объяснил своей дочери, что тебя доить на старости лет неприлично? А?
– Ты, Вася, сегодня особенно кусаешься! – сказала Галина Андреевна, но, как всегда, вежливо и с улыбкой.
– Не с той ноги встал,– ответила за него Нелька.
– Молчи! – прикрикнул на нее Вася.– Я с той ноги встал бы, если бы ты вела себя как следует.
– Что ты говоришь при людях? – вскипела Нелька.– Как это я себя веду?
– Друзья! Друзья! – попытался остановить скандал Шохов.
Но Вася уже ничего не слышал. Он даже себя не слышал, когда закричал:
– Сама знаешь как! Этот тип прилип, а ты и рада! А мне сегодня стыдно было сюда идти, потому что все пальцем указывают! Вот, глядите, у Самохина рога прорезались! Вот тут!



![Книга [Самая большая подводная лодка в мире] автора Андре-Марсель Адамек](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka-v-mire-196222.jpg)