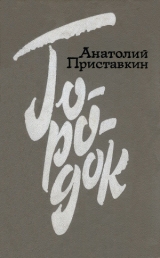
Текст книги "Городок"
Автор книги: Анатолий Приставкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
– А может, идти-то надо от обратного? – вскрикнул Самохин и вдруг засмеялся. Мелковато и глупо, как смеются идиоты. Ему показалось, что он что-то открыл.– Может, потому мы и сидим здесь, в Вор-городке, что не копим? А? Дед!
– Макар Иваныч,– спросила любопытная Нелька.– А что на этот год нам показывают планеты, можно узнать?
Дед недоуменно посмотрел на Нельку, на Шохова и вдруг громко рассмеялся:
– Можно, красавица! Планеты говорят, что вы достроите свой домик и будете готовиться к материнству...
Все засмеялись, а Нелька покраснела.
– Ну вот, тоже. Мы и не собираемся! Мы для себя решили пожить.
– Кстати,– сказала Галина Андреевна.– А ведь у нас и правда у многих домики-то недостроены, а? Вот и у Самохина, и у Коли-Поли...
– У Шохова тоже...
Все замолчали, насколько близколежащей вдруг оказалась мысль, которую недосказала Галина Андреевна.
– Так, может, в следующее воскресенье – Шохову? – неуверенно спросил дед Макар.
– Помочь?
– Ну, конечно. Чего же он в одиночку-то? – настаивал дед Макар.– А потом его вон какие мысли гнетут!
– Ну, такие мысли и не одиноких тоже гнетут,– молвил кто-то. Шохову показалось, что это произнес дядя Федя. Но, может, ему и показалось. За разговором спустились сумерки, а свет зажечь не догадались.
Но Шохов, не колеблясь, отверг предложение о помощи:
– Спасибо. Но я сам.
– Но почему, уважаемый Григорий Афанасьич?
– А правда, почему? – спросил Самохин.
– Да вот, такой у меня глупый принцип. Хочу все сделать сам.
– Чтобы не быть в долгу?
Этот вопрос задала Галина Андреевна. Как будто бы невинно спросила, но Шохов понял, что она хотела сказать.
– Нет.– Он поправился: – То есть и в долгу быть тоже не хочу.
– А как же все мы? – подали голос Поля-Коля.– Мы что же, хуже?
– Но ведь, Григорий Афанасьич, милейший, эта боязнь и приведет вас к одиночеству! Даже несчастью! Поверьте мне,– сказал дед ласково.
Шохов молчал и вдруг как сорвался:
– Ну, а если я себе хочу доказать, что я все могу сделать?!
– Себе-то ладно. Ты мастер. Но только не доказывай остальным, – подал голос дядя Федя.
– Почему?
– Да потому. Другим ты доказывай, когда им будешь делать. Понял?
– А разве я не делаю?
– Тогда чего же ты боишься, что мы тебе поможем? А если нам хочется что-то доказать? – настаивала Галина Андреевна.
Но Шохов, помолчав, снова повторил:
– Не хочу. Мой дом не трогайте.
Кто-то отмахнулся:
– И чего пристали к человеку? Есть и другие...
Тут вдруг все разом заговорили, и оказалось, что можно и нужно продолжить избную помочь, но сейчас, пожалуй, и не решать, а посоветоваться и с остальным народом, который сегодня не пришел.
С тем и стали расходиться. Все желали деду в эту первую новосельскую ночь хорошего сна.
– На новом месте приснись жениху невеста! – сказала болтливая Нелька.
А Самохин Вася все продолжал допытываться у деда, который вышел проводить всех на улицу:
– Дед, ты мне про летающую тарелку еще скажи. Есть она или ее нет?
Нелька тянула мужа за рукав, но он не отступался от деда Макара:
– Ведь правда же, что их видели? Или – врут? а?
По голосу было слышно, что дед усмехнулся, когда ответил:
– Васенька, все мы так устроены, что сперва видим, что есть, а потом стараемся, не поверив себе, думать так, будто мы ничего и не видели из того, что видели... А искажение истины суть форма прикрытия самих себя, то есть то, что мы называем платьем голого короля. Но только долго ли мы проходим под таким платьем? а?
– Долго,– сказал кто-то из темноты.
А Вася опять спросил:
– Но ты, дед, не темни, они есть или нет? Тарелки эти?
Дальше Шохов не слышал разговора, потому что направился быстро к себе, стараясь не разболтать, не растворить в постороннем, чужом нечто новое, что открылось ему в этот день в себе и в других.
Но вот что странно: почему молчал весь вечер Петруха? Правда, он не был спорщиком вообще, но уж очень подозрительно тих, особенно тих был сегодня. А ведь тема спора не могла не затронуть его?
Входя в дом, Шохов сразу понял, что кто-то в нем побывал, потому что была сбита палочка, оставленная у входа для заметы. Шохов поднял ее, нащупал в кармане спички и зажег. При меркнущем слабом пламени разглядел неуютное свое жилье, койку, чуть примятую, записку на одеяле, едва сдвинутую ближе к подушке.
Он зажег керосиновую лампу и при ее свете прочитал запись, сделанную тем же карандашом, только чуть ниже его собственной: «Больной! Вам надо не строить, а лежать. Желаю вам здоровья. Наташа».
Он нисколько не удивился, что Наташа приходила. Как и не огорчился, что не смог с ней сегодня увидеться. Что же, они встретятся завтра. Теперь он точно знал, что так все и будет. А сегодняшний день, как ему и положено, он провел среди помочан, в доме старика Макара Ивановича и нисколько об этом не жалеет. Хотя надо еще разобраться в том разговоре, который нынче произошел. Вот и последние слова старика об истине, не к нему ли, не к Шохову ли, обращал их старик, отвечая на вопрос безалаберного Самохина?
А может, истина в том и заключается, что счастья в чистом виде не существует в природе, как не существует в чистом виде никаких элементов вообще. Может, люди-то созданы страдать и мечтать только о таком счастье. Вот как, перестрадав в одиночестве, мечтает он сам о любви к Наташе?
Вспомнилась часть разговора, происшедшего сегодня, когда дед Макар заговорил о накопительстве.
Кто-то со вздохом произнес:
– Весь мир сошел с ума!
– Да нет же,– вдруг вступилась за «мир» Галина Андреевна.– Люди просто устали ждать счастья. Они испугались, что его не будет. А оно есть, есть.
На основе ли своего горького опыта была выведена эта формула Галиной Андреевной или нет, неважно, раздумывал Шохов. Но ведь это правда, что люди хотят счастья. Все хотят. Разве не так уж непонятно было сказано?
Он перечитал Наташины слова вторично и задул лампу. Накрылся одеялом и стал глядеть в темноту. Так лучше думалось – о Наташе, о том, как она появилась, как ждала, осматриваясь, а потом взяла и ушла. Даже в нескольких словах виден ее характер, что человек она цельный, серьезный, глубокий. Завтра Шохов ее увидит, а потом... Что будет потом, он не знал и не хотел загадывать. Он верил, что потом будет тоже хорошо.
Часть пятая
Именно с таким ощущением и вошел в поликлинику Шохов, что он сегодня, сейчас увидит Наташу.
После длинной очереди, в которой розовощекий старичок, стоявший за ним, долго мучил рассказами о болезнях, приняла врач, та же пожилая женщина в золотых очках, которая неделю назад едва не отправила его в больницу.
Она попросила снять рубашку, выслушала и произнесла в заключение, что он здоров и завтра может выходить на работу.
– Вы работаете на стройке?
– На стройке,– отвечал Шохов, заправляя рубашку в штаны.
– Постарайтесь в первое время не слишком переутомляться. Да и вообще поостерегитесь всяких перегрузок, как и сквозняков.
– А что у меня было? – спросил он, оглядываясь и пытаясь рассмотреть, есть ли кто в соседнем, процедурном кабинете. Но никого не было видно.
– У вас переутомление,– сказала врач и стала что-то записывать.
– Вы думаете, переутомление? – Шохов снова посмотрел в сторону процедурного кабинета.
– А вы думаете что? – спросила врач, никак не отвлекаясь от бумаг.
– Нервы.
Врач кончила писать и отдала ему бюллетень, напомнив, чтобы он в регистратуре не забыл поставить печать.
Заметила, приподнимаясь:
– Все болезни от нервов. Лишь одна от удовольствия. Будьте здоровы. Следующий!
Шохов не посчитал разговор законченным. Ему хотелось кое-что уточнить, как и вообще поговорить поподробнее о своей болезни. Но уже в кабинет как-то слишком радостно влетел розовощекий старичок, и Шохов, последний раз, без надежды, взглянув в сторону соседней комнаты, распрощался и вышел.
Очередь была и в регистратуре. Когда Шохов протягивал в окошко бюллетень, он наклонился так, чтобы его не могли слышать посторонние, и спросил у девушки, в какую смену сегодня дежурит медсестра Наташа.
Регистраторша поставила печать и посмотрела на Шохова более внимательно.
– Наташа? Чистовская?
Шохов неуверенно кивнул.
Чутьем он распознал, что речь идет о его Наташе, хоть фамилию ее он прежде никогда не слышал.
– А зачем она вам?
– У меня к ней дело.
– Дело? – спросила девушка и едва уловимо улыбнулась.– Она будет после обеда.
И при этом снова выразительно посмотрела на Шохова.
Отходя от окошка и складывая вчетверо бюллетень, он невольно усмехнулся: как сфотографировала! А ведь государственную печать ставила, даже не поинтересовалась кому. Все больные у нее на одно лицо.
Времени до обеда было много. Шохов решил сходить на почту, но по пути забежал в общежитие, так, на всякий случай, чтобы убедиться, что койка, его личная койка на месте.
Вчера, когда привезли деду Макару общежитейскую железную кровать, мазанную синим, он, грешным делом, заподозрил, не его ли пустующую койку загнал предприимчивый комендант Агафонов вместе с матрацами. Да нет, не заподозрил, просто шевельнулась змейкой такая глупая мысль, и захотелось проверить.
На почте написал жене письмо. Рассказал о странной болезни, о появлении Сеньки Хлыстова, о постройке дома деду Макару. А вот о своем одиночестве, о страхе, пережитом во время болезни, писать не захотел. Тамара Ивановна небось крутится сейчас среди детишек, у нее хлопот полон рот, и ничего она про мужа, про его неожиданную пустоту не поймет. Так он решил и не стал ничего писать.
Второе письмо он отправил в Красково, матери Тамары Ивановны. С самого начала извинился, что по приезде сюда ничего о себе не сообщал, все времени не было, потому что устраивался с жильем. И теперь еще устраивается. А в конце просил посмотреть в столичных магазинах облицовочную плитку, то есть кафель, по возможности чешский (вспомнилась Инна Петровна!), голубого или кремового цвета. Если такой кафель есть, пусть ему вышлют посылками, деньги он тут же пришлет телеграфом. А количество плитки он уточнит и напишет через несколько дней.
К обеду Шохов уже торчал около поликлиники. Присел в скверике так, чтобы видеть дорожку, и стал ждать.
Одно время ему стало казаться, что на него глазеют из окон поликлиники, и он перебрался на другую скамью, поглубже в зелень.
Шли люди, чаще пожилые или с детишками. Работники медперсонала сразу угадывались среди остальных посетителей. Наташи же видно не было.
Шохов уже стал сомневаться, действительно ли речь шла о его Наташе, и тут она вынырнула из-за угла. В беленькой кофточке, серой юбке. И хоть была темноволоса, но даже издали казалась Шохову ослепительно белой, сверкающей, как жемчужинка.
В ней издалека, на расстоянии, угадывалось то же, что он сразу почувствовал еще в кабинете врача, а потом у себя дома: необычайная сосредоточенность и цельность. Цельность во всем. В облике, в походке, в выражении лица и в строгом взгляде прямо перед собой.
Испугавшись, что она сейчас пройдет и исчезнет, Шохов попытался окликнуть, но и голоса своего не узнал, настолько неестественно прозвучало:
– Наташа...
Все замерло в нем от никогда не испытываемой прежде дурацкой робости. Она почти сразу же (профессиональная реакция?) повернулась к нему и так осталась ждать, не без удивления его рассматривая.
– Я прошу простить, я не смог вас дождаться в тот день...
Она тут же его перебила, пояснив, что она сама виновата, потому что она торопилась, у нее были дела.
– А вы к нам на прием?
Спросила так буднично, что стало очевидно: никакой догадки, никакого предчувствия в отношении Шохова не было у нее.
– Нет,– произнес он, сильно смущаясь.– Я вас...
– Меня?
– Да. Я ждал вас.
– Зачем?
Он смотрел пристально в ее лицо, надеясь хоть в нем увидеть что-то, что могло бы ему помочь в этой встрече. Но Наташа, эта Наташа, без халатика и вне своих сестринских обязанностей, вдруг увиделась ему такой чужой, что стало неприятно, конфузно: и правда, зачем он здесь? Чего он хочет от этой девушки, очень вежливой (тоже небось профессиональное!), строгой и недоступной. Подумалось, что она сейчас произнесет что-то вроде: вы не за ту меня принимаете...
Но произнесла Наташа иное:
– Вы решили меня тут караулить, да? А как вы узнали?
Но все это будто для вежливости.
– Спросил в регистратуре.
– Вот как!
Она посмотрела на свои часики и равнодушно пояснила:
– Опаздываю, простите...
А тут еще мимо прошли люди и поздоровались с Наташей. Она, не глядя, кивнула.
– Понимаю,– отвечал Шохов упавшим голосом.– Это вы меня простите...
Она взглянула на него задумчиво и удивленно, словно сейчас только до нее дошло нечто важное, произошедшее во время их разговора.
– Я освобожусь в восемь. Вы можете сюда подойти?
– Конечно.
– Тогда в восемь.
И она скрылась в дверях.
Долгой показалась Шохову эта вторая половина дня. Какие только занятия он для себя не придумывал! Ходил по улицам, рассматривая дома, по магазинам глазел, на какую-то выставку детского рисунка забрел, потом билет в кино взял, не разузнав даже толком, что за фильм. Но не смог досмотреть и ушел посреди сеанса.
Все, что он думал, было о Наташе. И все, что он видел, тоже было о Наташе. Она засела в нем как гвоздь, мешая на чем-либо сосредоточиться. Она болела в нем, но это была мучительно сладкая боль, и он не старался от нее избавиться. Но как дожить ему было до восьми часов, если время намертво замерло где-то около пяти и перестало двигаться. И солнце, едва склонившись в сторону их Вор-городка, замедлило свой бег, а потом и вовсе остановилось. Горел и таял под ногами асфальт, ярко-зеленая трава, такая бывает лишь в июне, гнулась от зноя, и мелкие листья повяли на посаженных недавно деревьях. А он, как автомат, все ходил и ходил, потому что останавливаться ему самому, когда кругом и так все стояло, было невмочь. Своим движением он как бы подгонял время.
И оно вдруг сдвинулось, покатилось и хоть не сразу, но приблизилось к половине восьмого. Шохов твердо оккупировал привычную скамеечку (сколько раз потом будет он здесь сидеть!), не сводя сторожких, собачьих глаз с дверей поликлиники.
Они не пошли в город, а, шагнув за длинное здание поликлиники, спустились к реке. Тут же на травке присели. Дорогой не произнесли и нескольких слов. Но Шохову и не нужны были слова, наоборот, он сейчас их не хотел, даже побаивался, считая, что со слов-то и начинается недопонимание и размолвка. Между ними была не ниточка, а паутинка, которую легко оборвать одним неосторожным движением. А тем более словом.
Молчание же, как ни странно, объединяло.
Скорей уже по привычке глянул Шохов выше по течению, туда, где вдоль берега торчали сваи и стрелы кранов и где был его водозабор. Наташа, следуя за его взглядом, тоже посмотрела в ту сторону.
– Это ваше? – спросила она, догадавшись.
– Водозабор. Я его строю.
– А зачем вы его тут строите? Вы же испортили весь берег! Ну, посмотрите, чего вы натворили,– сердито произнесла она.
– Берег все равно будет залит водохранилищем,– не очень-то твердо ответил Шохов, испугавшись, что они могут сейчас из-за этого проклятого водозабора рассориться, не успев толком познакомиться друг с другом.
– Как же так? – недоумевала она.– Ваш водозабор зальет водой? А зачем же его тогда строить?
– Он будет со дна подавать в город воду. Людям же нужна вода?
– Ах, вот что...– протянула Наташа и вывела, помолчав: – Тогда он мне нравится. А ведь я здесь часто гуляла и все злилась: разворотили берег, напихали каких-то железок! А вы вон что... Как это выражаются: утоляете жажду.
– Но это правда, не смейтесь,– сказал Шохов.
– Я не смеюсь. Вы на самом деле выросли в моих глазах. Ведь я индустрию не люблю. И книжек про это не люблю. Я люблю природу. А вы, по-моему, враги – ваши плотины и природа. Она беззащитна же против ваших ужасных машин, которые готовы все вокруг разрыть и разворотить! Нет, правда. А потом еще удивляетесь, почему люди стали чаще болеть. Как же им не болеть: вы насилуете природу и лишаете человека того первородного, естественного, что его всегда окружало! А кстати, откуда вы родом, Григорий Афанасьич?
– Я-то... Из Тужинского района. Не слышали?
– Это где?
– Мы вятские... У меня там в деревне мать с отцом, братья. Хотите, я вас туда свожу, а? – вдруг предложил он. Сам удивился своей смелости. – У нас там – природа...
Наташа поняла и улыбнулась. Но так, что впервые он почувствовал, что она вовсе не ребенок, не девушка, а женщина. Возможно, даже опытная женщина, познавшая очень многое. А все это от горькой усмешки, в которой ему почудилось некоторое превосходство над его мужской наивностью.
– Вы меня совсем не знаете, Григорий Афанасьевич,– произнесла она снова будто рассеянно. Поискала рукой камешек по траве, швырнула в круговертящуюся темную воду.– Я же не девочка, за которую вы меня принимаете. У меня сын в этом году в первый класс пойдет.
Шохов сразу не нашелся что ответить. Он и вправду был смущен ее признанием.
Наташа резко повернулась к нему лицом и уже открыто, словно сняв с себя какой-то груз, пристально взглянула на Шохова.
– Я вас огорчила?
– Да нет, я и вправду не думал,– пробормотал он.– Вы же молодая...
– Сколько дадите? – с вызовом, но кокетливо спросила она.
И лишь в глазах, очень серьезных, застыл немой вопрос, мучивший ее. Она пристально вглядывалась в Шохова, питаясь о чем-то догадаться.
– Ладно, не трудитесь,– другим голосом, даже резковато произнесла и легко поднялась с травы.– Мне двадцать шесть, Григорий Афанасьич, и у меня был муж. А если уж точно, то два мужа. Вы остаетесь здесь или идете?
– Но куда же спешить? – спросил Шохов, не зная, как реагировать на эту вспышку, надо ли относить ее за свой счет.– Еще же светло. Посидим немного, а?
– Нет, Григорий Афанасьич, я человек занятой, у меня семья.
Все это было сказано торопливо, не глядя на него. Обратную часть дороги они промолчали. Около дома, двенадцатиэтажной башни, когда Наташа попрощалась, Шохов попытался задержать ее руку:
– Но мы еще встретимся? Завтра?
Она согласилась, но как-то безразлично и устало.
– После смены?
– После смены. До свидания.
И она поспешила уйти.
Теперь каждый вечер, нарушив свой привычный распорядок и забросив дом, Шохов после работы приходил к двухэтажному зданию поликлиники, расположенному на окраине города, и там на одной и той же скамеечке среди зелени, повернувшись лицом к стеклянным дверям, караулил Наташу.
Они гуляли по городу, ходили в кино, раз или два посидели в кафе, иногда забредали в магазины. Но никогда не соглашалась она пойти к нему, в его недостроенный дом. Она не придумывала предлога, она просто говорила: «нет».
– Почему же нет? Тебе неприятно?
– Не знаю,– и словно отводила этот вопрос.
Но однажды созналась:
– Я тебя тогда очень долго ждала. Может, и не целый день, но мне-то показалось, что весь день и даже больше. Я села на твою постель и стала думать. А думала я вот о чем. Как это я сюда забрела, зачем, собственно. Все тут чужое, не мое и почти мне враждебное. Да, да! Я чувствовала, что я чужая в твоем доме и он меня не любит. Тогда я расстроилась и ушла. Я тогда решила, что больше мы не встретимся...
Но и домой к себе, в квартиру на двенадцатом этаже башни, Наташа тоже не торопилась приглашать Григория Афанасьевича. И только однажды... Это произошло почти через месяц после их знакомства, она как бы мимоходом заметила, что скоро у нее день рождения.
– Двадцать шесть?
– Двадцать семь! – с вызовом произнесла она.– Я грешным делом загадала, что мы пойдем в ресторан. Сына я отправила в лагерь и впервые, надо сказать, так свободна. Это мне повезло. Но и тебе, учти. Так вот, моя мама настаивает, чтобы мы непременно справляли рождение дома.
– Ну и правильно! – подхватил Шохов искренне.– Дома, конечно, лучше.
– Я в этом не уверена. Но, как говорится, нам не из чего выбирать. Только запомни, у мамы очень плохой характер. Она гонит от меня всех мужчин. Хочет, как выражаются люди, составить мне богатую партию. А значит, будь настороже.
– Да я не из пугливых,– сказал Шохов, но при этом несколько стушевался. Может, его смутил разговор о богатой партии и вообще о женитьбе?
– В общем, я тебя предупредила.
Но, прощаясь в подъезде (так у них выходило, что встречались у поликлиники, а прощались у дома!), Наташа совсем по-другому и другим тоном произнесла:
– Я не боюсь, что она испортит мне этот день, понимаешь? Я боюсь, что она что-то нарушит между нами. А это очень легко сделать. Мы же такие оба ранимые, да еще совсем не знаем друг друга. Но я, дай срок, когда-нибудь расскажу о себе. Тогда ты все поймешь. До свидания.
В этот день (а была суббота) к Шохову с утра зашел Петруха, чтобы установить счетчик и подтянуть провода для электричества. Вроде бы он заходил и раньше, но застать Григория Афанасьича (он так и продолжал его звать) было невозможно.
Шохов сослался на работу, на конец квартала. Хотя никто не тянул его за язык. Мог бы и промолчать. Петруха на его вранье никак не реагировал. Торопливо прошел в дом и, располагаясь в углу, недоуменно осмотрелся.
– Ты что же, перестал строиться?
– Почему, я строюсь,– отвечал Шохов с вызовом. Он разозлился на себя, что приходится все время врать.
– Что же ты построил?
– Что, что... Дверь вот. Еще материал заготавливал,– пробормотал Шохов и отвернулся. Он не смог смотреть в открытые серые глаза Петрухи.– И потом, я же болел!
Петруха ничего больше не спрашивал, занялся делом. Поставил счетчик, подвел провода и стал молча сматываться. Уже собравшись, предупредил, что ток дадут через пару дней, когда он подключит остальных.
– А деньги? – спросил Шохов.– Я тебе разве ничего не должен?
– Должен. За счетчик. Но если сейчас нет, отдашь потом.
– А за работу?
– За работу я не беру,– отвечал Петруха твердо.
– Подожди, – попросил вдруг Шохов. – Посиди, отдохни. Ведь сегодня суббота?
– Кому суббота, а кому субботник, – с усмешкой произнес Петруха, но помедлил, присел на табурет.
– Расскажи, как живешь?
– Нормально. Я же всегда доволен жизнью, Григорий Афанасьич.
Пропустив на этот раз «Григория Афанасьича» мимо ушей, Шохов спросил, и голос прозвучал виновато:
– Ну, а как семья? Как дети? У тебя же дети?
– Ничего, спасибо, – отвечал Петруха неопределенно.
– А мои вот задерживаются... Устал я ждать...
– К тебе тут Галина Андревна заходила,– будто невпопад произнес Петруха.– Интересовалась, есть ли ответ на письмо.
– Не успел! – воскликнул Шохов, который только сейчас вспомнил об этом письме.– Я же говорю, что у меня квартал кончается!
– Она, кстати, тебя с какой-то молодой женщиной видела в городе. Хотела подойти, но ты даже не поздоровался,– сказал Петруха и, не прощаясь, направился к выходу.
– Не видел, честное слово! – вслед крикнул Шохов.– Но ты подожди, я тебе объясню!
Что он хотел объяснить Петрухе, он и сам не знал, но чувствовал, что так отпустить Петруху невозможно. Останется очевидная ложь, которой не мог не понимать бывший дружок, да и вообще какая-то глупая недосказанность, а Шохову так хотелось, чтобы именно сейчас все стало у них по-прежнему ясным.
Он прошел вслед за Петрухой через весь двор и только у калитки, попридержав за плечо, почти умоляющим голосом попросил:
– Переходи ко мне, а? Переходи! Будем вместе! Как планировали: дом пополам!
Петруха вздохнул и, глядя в землю, покачал головой.
– Ты что же, меня ненавидишь?
– Нет. Но ты мне... Как объяснить? Ну, безразличен, Григорий Афанасьич. Хотя... Ты сейчас будто помягчел. Или мне кажется... Не знаю.
– Не кажется! Не кажется! – Шохов будто ухватился за это слово.
– В тебе появилось... Я пока не понял, что именно. Живое.
Петруха повернулся и пошел, хлопнув калиткой.
– Подожди! – крикнул вслед Шохов.– Я что-то еще хотел спросить!
– Ну что? – недовольно повернулся Петруха, но возвращаться не стал. Шохов сам подошел к нему.
– Объясни, пожалуйста, почему ты молчал, когда мы со стариком заспорили?
– На новоселье, что ли?
– Да.
Петруха насупился, поджимая толстые некрасивые губы. Шохов смотрел на него и вдруг подумал, что, встреть такого где-нибудь на базаре, решишь, что перед тобой лапоть деревенский, а то и сельский дурачок! А ведь далеко не лопух! Знает, что он хочет!
– Видишь ли,– вывел Петруха,– вы спорили не серьезно.
– Почему?
– Я объясню, ты слушай. Вы спорили, чтобы не узнать истину, а чтобы навязать свою истину другому. Поэтому и разошлись при своем.
– Как мы разошлись, положим, ты не знаешь,– сердито бросил Шохов.– Но ты хочешь сказать, что и я, и старик одинаково не правы, да?
– Деда Макара ты не трожь,– попросил Петруха.– Он сам, если не попросят, никому своих убеждений не навязывает. Он, говоря современным языком, голубь, а вот ты, ты – ястреб.
– Это кому же я чего навязываю? – враждебно, зло ощерился Шохов.
– Всем,– сказал Петруха.
– Каким же образом?
– А любым. Своей жизнью, вот этим домом, забором... Даже разговором, который сейчас со мной завел. Никто, ни старик, ни я, не сможет тебя переубедить. Ты другой, понимаешь. Другой!
– Да. Да. Да, – кивал Шохов, выдавливая слова, будто они ему сейчас горло драли, и притушив в глазах коварный огонек.
Петруха напоследок махнул рукой и пошел своей странной прыгающей походкой, с проводами, этаким обручем на плече, и брезентовой сумкой на боку. Странный был у него вид.
Шохов проследил за ним взглядом, пока он не скрылся. Но если бы кто-нибудь видел теперь его глаза, он бы поразился, а может, и совсем по-другому стал бы думать о Григории Афанасьевиче.
В ту же субботу, прежде чем идти в дом Наташи и ее мамы, Григорий Афанасьевич Шохов побрился, надел чистую рубаху, которую сам в холодной воде и постирал, а в попутном магазине купил торт и бутылку коньяка.
Торты в Новом городе делали сплошь заказные, с поздравлениями: с новосельем, с Первомаем (который, кстати, давно прошел) или даже с серебряной свадьбой.
Буквы, выведенные цветным кремом, довольно-таки зримо влияли на цену торта. Из всех поздравлений Шохов выбрал наименее безопасное: «У нас праздник!»
С покупками в руках он впервые поднялся на лифте на двенадцатый этаж и позвонил в квартиру номер девяносто.
Наташа, наверное, ждала, открыла сразу. Была она в непривычном для Шохова бордовом длинном платье, поверх которого повязан фартучек, тоже очень нарядный. Волосы уложены пучком, а лицо, как ему показалось, чуть бледновато. В сумерках небольшого коридорчика она показалась ему необыкновенно прекрасной. Он подал ей коньяк и торт, потом полез в карман и достал коробочку с янтарными бусами. Как-то, еще в первые дни их знакомства, Наташа обмолвилась, что любит янтарь, и он запомнил.
– Поздравляю! – произнес он с чувством.
Она, отложив бутылку и торт на столик, открыла коробочку и счастливо ахнула. Тут же, не отходя, примерила бусы. В порыве нежности чмокнула его в щеку: «Спасибо!» – и убежала.
– Мама,– услышал он ее возбужденный голос,– смотри, какая прелесть! Настоящий янтарь!
Наташа вернулась, шепотом позвала:
– Пойдем. Я тебя с ней познакомлю. Только поправь воротничок.
Именно потому, что она упомянула про воротничок, Шохов понял, как она волнуется за него, а может, и за мать.
– Не бойсь,– подбодрил он ее.– Не съест же.
Но сам, хоть и хотел казаться чуть развязным, излишне напрягаясь, вошел в комнату.
Мама Наташи, Ксения Петровна, оказалась худенькой женщиной с очень смуглым усталым лицом. Она отложила сигарету и протянула Шохову руку. Голос у нее был низкий, немного хрипловатый от курения.
– Здравствуйте,– приветствовала она сидя. – Я давно хотела на вас посмотреть, но моя дочь вас упорно скрывала.
– И неправда,– сказала Наташа.– Просто не было повода.
– Можно и без повода,– отмахнулась мать и взялась за сигарету.– Курите?
– Нет,– ответил Шохов, стоя перед ней, будто школьник на уроке.
– Правильно. Это ужасное занятие. Но я уже не могу бросить. А вот эта пигалица, – она указала на дочь,– вздумала мне подражать.
– Мама, ну зачем это? – произнесла с укором дочь и тут же потащила гостя на кухню.– Пойдем, мне нужна помощь.
Помощи, конечно, никакой не потребовалось. Наташа занялась закуской, а Шохов подошел к окну и увидел, что выходит оно к Вальчику.
– Она приняла тебя хорошо,– вполголоса произнесла Наташа.
– По-моему, да.
– Даже очень хорошо. А могла бы нагрубить. Ты ее не знаешь.
– Она прекрасная женщина,– сказал Шохов.
– Ну об этом я и без тебя догадалась. Ты хочешь взглянуть на свой дом? – спросила Наташа, проследив за его взглядом.
Она провела его в свою маленькую комнату, а оттуда на балкон. Открыла дверь и оставила одного.
Шохов взглянул с высоты двенадцатого этажа в сторону Вальчика и поразился. Перед ним как на ладони распластался Вор-городок, различимый до мельчайших подробностей. Неровной линией вдоль Вальчика и невидимого отсюда ручья протянулась единственная улица, но как она разрослась с тех пор, как Шохов от начала и до конца ее проходил, когда занимался избной помочью.
Солнце склонялось за Вальчик, но, несмотря на позднее время, было еще довольно высоко над горизонтом. Оно красило времянки в золотисто-розовый цвет.
Теперь он обратился к своему дому и будто впервые увидел его. Стоящий как бы сам по себе, окруженный забором, он выглядел еще лучше, чем на самом деле: не было видно, что он без окон и без крыльца. Дом был почти таким, каким представлялся Шохову этой зимой. Сердце екнуло от нахлынувшего чувства к своему жилищу. Шохов впервые понял, что оно существует, несмотря ни на что. Это он, Шохов, все не понимал, что он построен, что есть, есть!
Григорий Афанасьевич даже глаза закрыл, чтобы не показаться самому себе слишком сентиментальным. Так его захватило.
Освобожденно подумалось: «Легко-то как, господи! А я все зажатый хожу, будто у меня кнут за спиной. А он вот какой, оказывается! Чего же я мучаюсь-то, будто виноватый, что его забросил. Я лишь отдохнул от него».
Шохов вспомнил недоумевающий Петрухин взгляд и внутренне усмехнулся. Ну как же! Глядя на дом со стороны, он уже в уме выстроил его интерьер. И поразился, ничего этого не найдя. Вот загадка – мастеровитый Шохов ничего не сделал... Да ведь не только Петруха – они все так считают.
В этот миг неслышно подошла Наташа и обняла его со спины. От неожиданного ее прикосновения ему стало горячо под лопатками. Сердце застучало так громко, что он притаил дыхание. Лишь бы стояла и не уходила, он готов был и вовсе не дышать.
– Милый,– произнесла она шепотом на ухо, будто передавала что-то тайное.– Спасибо тебе, что ты такой. Ты на дом свой засмотрелся, да?
Он кивнул. Голова закружилась от несбыточного желания вот сейчас, здесь еще сильней почувствовать ее. Резко повернувшись, он обнял ее за плечи, почти оторвав от пола. Она даже пискнула от боли, но вовсе не пыталась освободиться от его рук.
Так простояли они довольно долго. Наташа вдруг вспомнила, что у нее мясо в духовке. Оно конечно же сгорит, если его не вытащить. Она ушла. А Шохов снова обратился к своему дому, но это было уже другое обращение и другое видение дома, и все лишь потому, что за этот короткий отрезок времени произошло с ним нечто переменившее его самого, как и его зрение.



![Книга [Самая большая подводная лодка в мире] автора Андре-Марсель Адамек](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka-v-mire-196222.jpg)