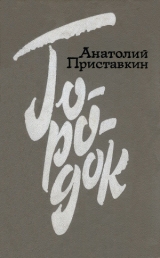
Текст книги "Городок"
Автор книги: Анатолий Приставкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Вдруг зажглись в доме у него окна ярким светом, отражая солнце. Из несуществующей трубы выпорхнул завиток дыма. А у незримого крылечка встала молодая черненькая девушка, похожая лицом на галчонка. С остреньким носом, с большими сосредоточенными глазами. Она смотрела перед собой, откидывая за плечи темные распущенные волосы, а у ее ног играли дети... А где-то в сторонке, замедлив свою работу, светловолосый человек с голубыми глазами, позабыв обо всем, смотрел, не в силах оторваться, на эту женщину...
– Господи, о чем я думаю! – ужаснулся Шохов.– Ко мне семья приезжает. И об этом невозможно помыслить, не только ей сказать.
Вечер у них получился долгим и приятным.
Они пили коньяк, придумывая какие-то забавные тосты и веселя смешливую Ксению Петровну. В хорошем расположении духа она вообще, как понял Шохов, была милейший и компанейский человек. Потом они танцевали под радиолу, и Григорий Афанасьевич поочередно приглашал дам и был, как говорят, в ударе. Перед чаем решили немного прогуляться. А потом, вернувшись, оживленные, ели торт, рассказывали всяческие истории, и когда очнулись, было далеко за полночь.
Решили, что Шохов никуда не пойдет, а будет спать на раскладушке.
Ксения Петровна ушла к себе, перед сном покурив на балконе. Пока Наташа убирала со стола и мыла на кухне посуду, Шохов разделся и лег. Хоть он и ждал, караулил ее приход, но незаметно задремал и проснулся от ее голоса:
– Ты спишь?
– Нет,– сразу ответил он и открыл глаза.
В комнате стоял полумрак, а за окном разливалась молоком белая северная ночь, самая короткая в году.
– Я хочу тебе что-то рассказать,– произнесла Наташа от своей постели.– Но если хочешь спать, то спи. Это все успеется.
– Честное слово, я не сплю, – ответил он громко и повернулся к ней лицом. По ее дыханию он догадался, что и она теперь лежит к нему лицом. Их разделяла комнатная полумгла, в которой, однако, ничего нельзя было детально увидеть.
– Ты заметил портрет юноши здесь, над моей кроватью? – спросила Наташа.
– Да. Очень славное лицо.
– Это Генка. Я его любила.
Так как Шохов молчал, она добавила, что они были ровесниками и познакомились в пионерлагере, под Москвой. Она вообще лет до пятнадцати была довольно-таки сорванцом, даже играла в футбол. Пока ей однажды не сказали: «Дура! Тебе же пятнадцать лет, а ты в воротах стоишь!»
Косы были у нее еще длиннее, чем сейчас. Однажды во время экзаменов, оглянувшись, она увидела, что ее одноклассник держит за кончик ее косу и макает в чернильницу. Она так разозлилась, что треснула его пеналом по голове, и ее выгнали из школы.
В медучилище участвовала в танцевальном коллективе, ее заметили, предложили перейти ученицей в известную московскую хореографическую группу. Руководительница, знаменитая балерина, сказала: «Через годик тебе будет восемнадцать, поедешь на гастроли в Европу». Не пошла, не поехала, а все потому, что ждала ребенка от первого мужа...
– Муж? О нем нечего сказать,– говорила ровно Наташа.– Вот мама моя, она тоже жила без мужа. Он вернулся с фронта и начал ей говорить, будто она без него тут гуляла. Так знаешь, она его щеткой: «Иди! Без тебя до сих пор жили, без тебя и дальше проживем». Такая вот она, когда вспылит. А это довольно часто бывает. Поэтому я и предупредила, что все может быть...
Да, а с Генкой, значит, было так. Это было в пионерлагере. Я бежала и разбила коленку. А он дал платок. А потом, когда я уезжала, дал барбариску. И все. Потом он был в армии, а мне и еще одной девушке писал письма, мы были, так сказать, душеприказчики. Выслушивали его излияния, похождения всякие. Там же, во время службы, сошелся он с одной местной, а она его бросила, сделав аборт. У него до армии была на ноге опухоль, доброкачественная. Ему предложили ее удалить. Сделали операцию, но неудачно, а потом ему пришлось на летних учениях в окопе сидеть, а там грязь и прочее. В общем, она переродилась у него. Когда комиссовался, явился в нашу поликлинику, машет мне издали бумажкой. Я думала, что он мне стихи принес (он писал стихи), а он – направление. А у него уже метастазы в легких.
В общем, вливали в него растворы всякие-разные, а потом выпустили. Его мать ко мне приходит, говорит – он тебя зовет. Пошла я к нему домой да там и осталась... Хотели ему ампутировать ногу, но один хирург, он тоже у меня есть на фотографии, ложки собирает деревянные, сказал, что спасет ногу. Сделал операцию, а потом еще две операции на легких... А я все рядом. Меня однажды спрашивают: «Вы кто будете-то ему?» – «Не знаю»,– говорю. «Ну, тогда заявляйте, что жена».—«Да я и есть жена, только не расписанная...» А знаменитый хирург (Наташа назвала его фамилию) пришел на меня посмотреть: «Покажите мне эту сестру, о которой мне уши прожужжали.– Посмотрел: – Эвон какая тщедушная, но бессменная». Я в это время институт бросила. «Я сильная»,– говорю. «Да, слышал, слышал... Что мужа на руках носите. Медаль бы вам за это. А мне бы побольше таких сестер!» Так и сказал. И правда, было: я Генку мыла в ванной, а потом и говорю: давай, мол, я тебя понесу! И понесла. Принесла, положила, а он расплакался. «Это, говорит, вместо того чтобы я-то тебя носил!» А мне тоже плакать хочется, но я говорю: «А ты отъедай потолще шею, я потом кататься на тебе буду». Несколько раз сбегал он из больницы, мы ходили с ним в кино и гулять. Была весна, почти как сейчас. Мы были счастливы. Однажды прихожу: «Сбежал насовсем,– говорит нянечка.– Вот тапочки оставил».– «Куда?» – «А куда-куда!.. Ты кто ему, жена аль не жена? Значит, другая еще жена есть, если к тебе не прибежал». В общем, мы с ним расписались. Разменялись с моей мамой квартирами, чтобы отдельно жить. А после свадьбы прошло два дня – и снова клиника... Где я только не была! И у одного, и у другого, и у третьего... И разные лекарства дорогие, мы до сих пор за них не расплатились. Только ничего не помогло. Когда он сбежал в очередной раз, уехали мы на Волгу. Спали в стогу сена. В лес ходили. Пили парное молоко. Это было прекрасно. Потом опять клиника, оказалось, что у него метастазы в печень зашли. Я сама их нащупала. Спрашиваю врача: «Мне-то вы можете сказать правду?» А он мне: «Уходите!» – и отворачивается. Так и выписали его окончательно. Как говорят у нас, на руки сдали. Это значит, осталось жить ему месяца два-три всего... Знаешь, что мы тогда сделали? Мы уехали в Крым. Честное слово. Меня все ругали, а я так рассудила: жить ему крохи остались, а он моря никогда не видел. Я тоже не видела. Может, я и увижу без него, но это уже не то. Втроем, он, я и Сергей, мой сынок от первого мужа, уехали в Крым...
Муж? О нем нечего сказать,– говорила ровно Наташа.– Да и жили мы недолго. А тут – Генка. Уехали мы в Евпаторию.
Был сентябрь, удивительная осень. У меня тут висят фотографии: на одной мы с арбузом, а еще перед отъездом он стоит в море, красивый такой, загорелый, а ему, представляете, жить оставалось месяц... Умирал он в той же клинике, где я работала. Мы были вдвоем. Я тебе открою секрет: для того чтобы ему легче хоть чуть-чуть стало, притворилась беременной, потому что он мечтал о ребенке. Сильно мечтал. Говорил, что вот я не буду, а моя кровь в нем останется. Тогда я и притворилась, и здорово, надо сказать, это у меня выходило. Даже почему-то живот появился. На самом же деле он не мог быть отцом. Все эти препараты отражаются... Он-то не знал, а я знала... Умирал, откашливая куски легких, и, кажется, задохнулся... Был, понимаешь, он в сознании, но говорил только эти звуки: «Уа, уа...» Я так и не поняла. Сперва думала, что он последний раз зовет ребенка, которого он ожидал... А может, это он говорил: умираю? Дыхания-то не хватало, и получалось у него: «у» и «а»? И все. А я не смогла там работать. Взяла да уехала... И маму утащила с собой.
Наташа замолчала. Он приподнялся на раскладушке и вдруг услышала умоляющий шепот:
– Нет! Нет! Только не сейчас!
Он даже не успел понять, в чем дело. Она встала и отворила дверь в комнату матери. Услышал, как она сказала:
– Мама, ты спишь? А я никак не усну. Душно что-то. Я оставлю дверь в твою комнату открытой, ладно?
Она снова легла и больше не произнесла ни слова. Он был уверен, что она не спит. И сам тоже не мог заснуть. Так и пролежал молча до самого рассвета, до того мгновения, когда ночная белая мгла за окном растворилась в дневном свете, очень живом, окрашенном первыми холодными лучами солнца.
Шохов поднялся и, потихонечку отворив дверь, вышел на балкон. Он смотрел на Вор-городок, на свой дом. Долго смотрел, о чем-то неопределенно думал. Потом лег, уснул и проспал до самого завтрака.
Григорий Афанасьевич даже внешне сильно изменился и будто бы помолодел. И во всем конечно же была виновата Наташа.
Встречи с ней стали для Шохова необходимостью почти такой же, как прием пищи, как сон, как работа. Да нет, не верно, питаться он мог и кое-как и подолгу не спать, особенно когда загорался какой-нибудь идеей. Встречи с Наташей, желание видеть ее были выше всего остального, потому что без остального, кроме, пожалуй, работы, он мог существовать, а без Наташи уже нет.
Ее появление в жизни Шохова разорвало тот гиблый круг (гиблый – по теперешнему пониманию), в который он сам себя замкнул. Наташа принесла в его мир другие ценности, иной вообще взгляд на все, что казалось ему незыблемым, особо касаемое дома и хозяйства, как и образа жизни. Странный тот порыв к Петрухе не был случаен. И именно чуткий Петруха, настороженно воспринимавший все шоховское, разглядел в характере его нечто новое, живое.
Любовь наполнила душу Григория Афанасьевича, дотоле вовсе пребывающую в спячке. Оглянувшись однажды, он увидел, что мир прекрасен сам по себе, вне шоховских замыслов и планов.
Ну а Наташа? Она будто не замечала всего. Она была в своем неприятии настолько естественна, что и он понял: она человек другого мира, другого измерения, и страстно захотел понять, познать этот ее мир.
Когда Шохов в одну из встреч признался ей, что он до поры, пока не построил свой дом, казался себе как голый на площади, Наташа тут же опровергла его напрочь. Она сказала:
– Ты богатый человек. Ты понимаешь красоту и умеешь ее создавать. Ведь не оставил же ты мечту о Тадж-Махале?
– Ах, Тадж-Махал! Я строю себе засыпуху! – отмахнулся он.
– Дом нужен каждому человеку. Важно, чтобы под его основание (Шохов рассказывал ей примету) вместе с денежкой душу не заложить.
– Но разве дом не есть – счастье?
– Конечно, нет. Счастье – внутреннее состояние. Потому ты был несчастен, что ты заблуждался. Ты принял стеклышко за алмаз.
И он точно помнил, что она прежде всего утвердила сразу, как что-то незыблемое, бесповоротное, что у нее нет ничего другого к нему, к Шохову, лишь бы сделать его счастливым. Если его счастье в доме, пусть он будет. Хотя именно дом и все, что с ним связано, принесло Шохову столько страданий и одиночества... Тогда зачем о нем вести речь? А где его семья? Где друзья? Где родня? Где все то, что питает и возвышает душу и делает нас воистину счастливыми?
Разговор этот происходил у Наташи. Случайно, а может, и не совсем, Ксения Петровна уехала в отпуск в Москву к своей родне, и Наташа предложила Шохову прийти и смыть свою «бездомную грязь», как она называла.
Она сама наполнила ему ванну, а когда он, раздевшись, погрузился впервые с каких-то давних пор в эту пенную благодать, вдруг пришла к нему, вовсе не стесняясь, и так просто, будто всегда это делала, начала оттирать его мочалкой, мылить, всполаскивать, скрести ему голову. И все это почти как с маленьким ребенком.
Смущаясь, снизу вверх, он поглядывал в ее раскрасневшееся лицо и вдруг находил в нем, вместе с обычной строгой сосредоточенностью, нечто материнское, ласковое, и от этого еще более терялся и расстраивался. А когда, всполоснувшись, он выходил из ванны, прикрываясь от ее взгляда собственной спиной, она набросила ему на плечи большое махровое полотенце и ушла кипятить чай.
Вот когда в Шохове что-то надломилось и он, растревоженный своим собственным настроением, заговорил о доме, где он обязательно построит ванну. Хотя не о ванне он думал в тот момент, а о том, сколько же невыявленной нежности в этой маленькой женщине, если она нашла удовольствие и даже радость (он же видел! ощущал!), чтобы так помыть его.
В приступе откровения (никогда он не был настолько открыт и беззащитен и никогда потом не будет!), он с каким-то странным самоистязанием стал рассказывать Наташе про себя, отбирая для рассказа все, что казалось и могло казаться только плохим.
Про семью Мурашки сказал, что после смерти он никак не помогал ей, а помощь такая была нужна. К месту вспомнил и о Кучеренко, которого судили в тот момент, когда Шохов уезжал из Усть-Илима. Мог бы он чем-нибудь помочь или нет, но он ведь и не пытался. Уехал, как отрезал от себя, и до последнего времени не вспоминал. И еще было... С Петрухой, с дедом Макаром. Может, даже с самой Наташей, ей лучше знать, а он уже перестал чувствовать, потому что стал бесчувственным... А подчас – просто жестоким! Да! Да! – так он казнился, обличая себя.
– Я тебя знаю,– говорила ем.у Наташа ласково.– Я тебя не просто знаю, а я тебя чувствую. Ты ожесточился. Но ты хороший. Это тебя жизнь ожесточила. Я бы хотела дать тебе многое, но я знаю, что я мало могу. Это меня мучит.
– Ты меня не знаешь! Совсем не знаешь! – повторял он опять и опять, находя в самоистязании какую-то не испытанную прежде, сладкую муку, он изводил себя собственным откровением, говоря, что он расчетлив, холоден, жаден и по-своему жесток.
– Но если ты сам это понимаешь, ты уже не такой? – говорила она.– Я бы не полюбила, если бы ты был такой. Наоборот. Ты добрый, ты ласковый. Ты – чуткий. В тебе очень много хорошего, и тебя уважают люди. У тебя никого не было, – говорила она, и гладила его волосы, и целовала в мокрый нос.– Но теперь-то у тебя есть я. Если бы ты знал, как я хочу, чтобы ты был счастливым, я готова на все. Даже потерять тебя, лишь бы с кем-то, если это будет лучше меня, тебе было хорошо.
– Мне хорошо с тобой. Лишь с тобой. Я никого больше не хочу.
В этих словах, как и в слезах своих, и в откровениях, Шохов был до конца искренен. Только не рассказывал про свою семью. Однажды скрыв, молчал. Во всем, что он рассказывал, существовал, не мог не существовать какой-то пропуск, как вырванные из книги страницы, ничем не заполненная часть его жизни, которую она не знала, но чутко улавливала. И все-таки она ни разу, ни прямо, ни косвенно, никак вообще не пыталась узнать, выспросить.
Они много ходили пешком. Каждый свободный вечер, особенно же в субботу или воскресенье, Наташа утаскивала, подчас и против его воли, Шохова за город, на реку, в поле, в лес...
Они брали напрокат палатку, кой-какую немудрую посуду, спальники и располагались у реки. Находилась и лодка: рыбаков в Зябе было много.
Поперву Шохову такие выезды никакого удовольствия не доставляли. Он как бы и до этого жил и работал на природе. Но оказывалось, одно дело – суматошиться с утра до вечера возле своего водозабора или своей засыпухи, другое – просидеть возле костра до звезд и вслушиваться в ночные звуки и чаще в самого себя, улавливая в себе созвучие с этой глухой диковатой ночью и шумящей во тьме рекой.
Он просыпался на зорьке, по росной траве шагал к воде, в это время на ощупь теплой, и, ежась под утренним туманом и покашливая (звук его кашля глухо разносило над водой), проверял заброшенные с вечера донки. А потом присаживался где-нибудь повыше, на самом крутояре, и смотрел, как разгорается рассвет, бросая на реку красные полосы, как светлеет лес на другой стороне реки и все кругом оживает: краски и звуки.
Где-то он слышал, что суточный пик холода приходится на то мгновение, когда должен показаться краешек солнца. Он поразился очевидности, чуду такого открытия. Ведь ясно же, что ночь – это непрерывное нарастание холода и оно может прекратиться лишь с первым лучом. Но уж слишком просто, слишком близко лежит, чтобы дойти самому.
В этот миг, когда налитое густым, холодным огнем солнце вылилось из горизонта и сразу все собой заполнило и преобразило, Шохов с облегчением подумал, что все-таки свой пик холода он пережил. Пусть еще знобко и леденит кожу, но самое холодное позади!
Он возвращался в палатку бегом, совершенно озябший и счастливый.
Привстав на колени и сбросив у входа чешские резиновые сапоги, он протиснулся в узкое отверстие палатки, нырнул в спальник к спящей Наташке и вдруг с удивлением подумал, что именно в это мгновение здесь, сейчас, он испытывает блаженное чувство дома, которого не ощущал нигде прежде.
Вот уж чудно ему было. Брезентовая крыша, а пол и вовсе земляной, и ничего больше, кроме кусочка этой материи, которая не только под ураганом, но и под сильным ветром не устоит...
А вот уже блаженное спокойствие разливается по телу и нет постоянной тревоги о завтрашнем дне.
Может, чувство дома и есть внутреннее спокойствие да желание самой близкой в мире женщины, которая спит рядом?
С удивлением рассматривая тепловато-желтое нутро их полотняного домика, он вспомнил, как последний раз увидел с Наташиного балкона свое жилище: это было несколько дней назад.
По привычке вышел посмотреть и испытал неожиданное разочарование: дом, его дом, отливающий на солнце белизной поднятых стен и забора, не вызвал никаких чувств, кроме чувства отчуждения. Испуганно холодея, вдруг осознал он, что не любит своего дома и всего городка. Он пытался, по давнему ощущению, вызвать в себе привычное чувство кровности, причастности этого дома к его жизни и – не смог. Такое открытие поразило его. Он тут же, панически переживая, поделился с Наташей. Она отреагировала спокойно.
– Милый,– сказала она,– ты столько мечтал о своем доме, столько придавал ему значения, что у тебя произошла обратная реакция. Она пройдет.
– Как же я буду строить? Я его не люблю! Не люблю!
– Значит, будешь в недостроенном,– ответила она.– Знаешь, что такое дом? Это – книги и друзья. Ну, может, еще горячий душ в придачу!
– А любовь?
– Любовь,– сказала она сразу и очень серьезно,– это душа дома. Любой дом, даже самый красивый, напиханный барахлом, но без любви, останется просто складом... Я вспомнила стихи, послушай:
Вот опять окно, где опять не спят.
Может, пьют вино, может, так сидят.
Или – просто рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое...
А закончила, глядя черными блестящими глазами куда-то внутрь Шохова, в самую его глубину. Как он любил и стерег этот сосредоточенный, уходящий в него взгляд!
Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнем!
Это написала поэтесса, которая всю жизнь мечтала о своем таком доме.
Сейчас в палатке он вдруг подумал, что его огнем, его окном была Наташа. Дай все, что было с ней и около нее.
Это произошло в начале июля, когда после очередной штурмовщины с полугодичным планом Шохов наконец мог отдохнуть и взял три дня отгула. То же сделала и Наташа. Она сдала у себя в клинике кровь и получила на три дня отпуск.
Они собирались недолго, сунули в саквояж плащ и куртку на случай плохой погоды и на попутке добрались до Новожилова. Если бы они могли тогда знать, как обернется эта поездка!
Начали они с монастыря – еще и потому, что лесопилка была выходная и можно было походить по заваленному двору, никому не мешая и не испытывая неудобства. Они залезали по шатким лесам, сооруженным несколько лет назад для реставрационных работ, которые едва ли велись, на монастырские стены, проникали по узким лазам в темную и прохладную глубь башен, забирались в заскладированные, заваленные досками церкви, завороженно взирая на фрески сквозь солнечную пыль, поднятую голубями, живущими под самым куполом. На темном иконостасе белыми крапинками выделялся птичий помет.
– А мой святой – Николай, – сказала Наташа, дотошно рассматривая лики святых..
Но, оглянувшись и поняв, что Шохов увлекся чем-то и ее не слышит, она приблизилась к святому Николаю и, умоляюще вглядываясь в аскетический кривоскулый лик, вдруг произнесла с отчаянием:
– Господи! Что я делаю? Я изменяю своему Генке? Я грешница, да, да! Но ведь я люблю этого человека! Я люблю! А ведь любовь тоже от бога?! Не виновата я перед Генкой! Не виновата!
И, отпрянув, следила за строгим отрешенным ликом, желая понять, что он мог бы ей ответить.
Покидая монастырь, она подняла камешек, швырнула в колокол, но не попала. От второго или третьего камня колокол низко и долго прогудел в ответ.
– Раньше в Новожилов,– говорила дорогой Наташа,– ссылали революционеров да порядочных людей. Ты когда-нибудь жития святых читал?
– А зачем их читать? – спросил недоумевая Шохов.– Скука смертная...
– Да? А вот Ключевский пишет, между прочим, что в отличие от всяких там летописей, и хроник, и указов, которые отражали общественную жизнь, жития, единственно, пусть и не совсем полноценно, отражали частную жизнь человека... Частную! Вот у нас с тобой, между прочим, частная жизнь.
– А что же тогда – общественная? – спросил насмешливо Шохов.
– Это твой водозабор и моя больница. Но я бы, знаешь, не хотела...– И Наташа строго посмотрела на Шохова, прямо в его глаза и дальше, глубже, будто докапываясь до его самых тайных глубин.– Не хотела бы, чтобы о нас и нашем сейчас кто-то написал. Я тебя люблю, и это только мое. И ничье больше.
– Но и мое?
– Не знаю,– она будто отодвинула его слова.– У меня это само по себе. Я тебя все равно люблю, даже если ты... Но что я говорю,– вдруг оборвала свою мысль.– Я хочу есть! У меня же столько крови выкачали вчера! А машина у них такая, что не видно, сколько они там берут...
Обедали они в деревянном домике, который тут назывался рестораном. А его жалко так и называть, все тут было по-домашнему: чисто и уютно, почти празднично. Ресторан, как заметила Наташа, это золото, блеск, гремящая музыка и цыплята табака под коньяк. А тут все как у доброй тещи: белые скатерки, половички на полу и особенный какой-то свежий избяной дух, смешанный с запахами здоровой русской кухни. Опрятная женщина почти сразу принесла им целую тарелку груздей с колечками лука по кругу, потому что они от жадности заказали целых четыре порции, потом красный наваристый борщ и котлеты с жареной картошкой.
В придачу они взяли пива, вина почему-то не было. Когда они, развеселившись, чокнулись кружками пива, старичок, поглядывавший в их сторону из-за соседнего стола, сказал со вниманием, очень уважительно, Шохову:
– А дочка у вас жизнерадостная!
Наташа всплеснула руками и звонко рассмеялась. Да и Шохов не смог не улыбнуться. Долго еще потом он повторял ей при каждом удобном случае: «дочка». И ей это нравилось.
После обеда Шохов решил навестить знакомого продавца, с которым в недавнее время его так удачно свела судьба. Он тогда смог многое здесь приобрести, а шапку свою, пыжиковую, без особого сожаления подарил старику. Не продал – подарил! И даже немного гордился этим.
Старик оказался на месте. Дай трудно было бы магазинчик в склепе представить без него. Они оба были вечные, древние, как мир.
Он еще с порога цепким взглядом обнаружил Шохова и громко приветствовал его:
– Здравствуй, дорогой! Какими судьбами?
Несколько покупателей с любопытством уставились на вошедшего. Старик же не чувствовал никакой неловкости. Он вышел из-за прилавка и поспешил к гостю навстречу.
– Что теперь ищешь? – спрашивал он, улыбаясь, показывая свои золотые зубы.– Белила нужны? У меня как раз появились цинковые белила!
Шохов, поздоровавшись, отвечал чуть смущенно, что на этот раз ему ничего не нужно. Он заехал просто узнать, жив ли здоров хозяин.
– Здоров! Конечно, здоров! – вскричал старик. Золотые зубы его радостно блестели.– Сейчас все пекутся о своем здоровье, травы пьют, на диете сидят, ёгой-могой себя изводят. А я только живу. Да-да. Но я жизнерадостно живу, и в этом главный успех моего здоровья!
– А говорил – радикулит?
– О! Это разве болезнь? – отмахнулся старик.– Это производственная травма! Я на него жалуюсь, но всерьез, поверь, не принимаю.
Старик многозначительно поглядел на спутницу Шохова и не без пафоса произнес:
– Если вы приехали не по делам, значит, вы приехали в гости? Так надо понимать? Сегодня вы мои гости! И не отказывайтесь, пожалуйста... Вы должны видеть мой дом.
Шохов посмотрел вопросительно на Наташу. Ей понравился старик, как и его восточное красноречие. Но она засомневалась, удобно ли.
– Что значит удобно! – вскричал обиженно старик.– Когда Григорий Афанасьич строил свой дом, он тебя так ждал! Он так и сказал мне: приедет жена – и вы придете ко мне в гости...
– Он... это... обещал? – тихо спросила Наташа, меняясь в лице.
– Обещал! Обещал! – не унимался словоохотливый старик.– Вы посмотрите мой дом – и сразу увидите, что он вовсе не хуже вашего. У меня трое детишек! Старший ушел в армию, а младшенький только вообще начал ходить... Как же вы сможете не увидеть моего сынка? Моей жены? А?
Старик оборвал речь и внимательно посмотрел на Наташу, почувствовав что-то неладное. Переводя свои прекрасные влажноватые глаза с Шохова на Наташу и не понимая, отчего его гости так неожиданно сникли, растерянно спросил:
– Я что-то не то говорю, да?
– Вы все очень хорошо говорите,– произнесла Наташа, благодарно взглянув на старика.
– Ну, простите, простите старого дурака! Болтлив на старости, но кто же мог знать! – в отчаянии возопил он, глядя на явно удрученного Шохова.
Тот ничего не произнес, лишь махнул рукой и пошел к двери.
– Не переживайте, – сказала Наташа, грустно улыбнувшись.– Но вы правда славный человек.
До самого Зяба между ними не было сказано ни одного слова. Лишь когда сошли (попутка их довезла до самого центра города), Наташа, несколько торопливо, достала из сумки куртку Шохова и протянула ему:
– Не провожай. Пожалуйста.
– Но... Может, поговорим? – попросил он.
Они прошли в ближайший скверик и присели на скамейку.
День клонился к закату. Играло радио. С криками носились детишки, ленивые голуби выпархивали из-под самых у них ног.
– Я знаю, я должен был тебе сам сказать,– начал Шохов и замолк.
– Что? Именно?
– У меня жена... Ребенок...
– Где они?
– В Челнах... Там, где я прежде работал.
Наташа не слушала объяснения, она остро вглядывалась в его лицо, в его глаза. Прежде он любил этот сосредоточенный на нем взгляд. Но сейчас будто испугался. Она ведь всегда все в нем понимала!
– Я догадывалась, милый,– произнесла она тихо.– Но ты напрасно мучился. Я ведь на самом деле желаю тебе счастья. Разве ты этого не понял?
– Что же мне делать?
Очень ровно, почти продуманно, она ответила:
– Как что? Срочно писать, принимать семью. Они же ждут?
– Значит, не любишь? – крикнул он.
Голуби вспорхнули с дорожки от его крика.
– Может, и не люблю,– отвечала она спокойно и поднялась. И он поднялся следом. Глядя на него снизу вверх, добавила: – Но вы, мужики, уж точно ничего в нас не понимаете. А я теперь уверена, что твоя жена любит тебя и так же, как я, желает тебе счастья.
– Решила? За меня? – Он стоял бледный, и руки у него тряслись.– Ну и спасибо! А то я бы сам не сумел развязать свои узлы! Но я так и сделаю! Счастливо!
– Прощай,– произнесла она негромко вслед.
Она вернулась на свое место и просидела так до темноты. До голубоватых синих сумерек, по-летнему мягких. Потемнела зелень на кустах. Похолодела трава. И голоса стали отчетливей.
Очнувшись, она услышала, как неестественно громко разговаривают присевшие на ее скамейку молоденькие ребята, бравируя сигаретами и с любопытством поглядывая на нее. Один из них обратился, принимая за ровесницу: «Девушка, а почему вы одна?»
Она поднялась и пошла не спеша к своему дому, глядя сосредоточенно перед собой. Не раздеваясь, она шагнула на балкон, откуда любил смотреть Шохов на свой дом, на свой поселок. Стояла на балконе, вглядываясь в редкие огни за Вальчиком и вцепившись пальцами в холодные прутья перегородки.
Оставшийся свободный день Шохов провел дома.
Утро провалялся в постели, даже не пытаясь загадывать себе дело. Но вставать было надо. В сапогах на босу ногу (кругом щепки, да гвозди, да стекла) вышел во двор, бродил как чужой, не умея ни на чем остановить свой взгляд и не находя себе места. Все кругом было не своим, потому что отвыкло от хозяина, от его рук, от его глаз, от его любви. Забросилось, забылось, покрылось пылью.
И все-таки он сразу увидел (как бы он мог не увидеть!), что тут без него похозяйничали: брали доски, толь, а может, и кое-что другое.
Значит, не все забылось, если он с ходу смог определить прикосновение чужих рук к своим вещам? Не все, не все...
Но докапываться до пропавшего не стал. Не хотелось. Как и соображать, угадывать жулика. Небось соседи, кто же еще сюда придет. Ему сейчас ничего не было жалко, он даже расстроиться толком не смог от своего открытия.
Ладно с балкона двенадцатиэтажной башни, где за спиной любящая женщина, уютная квартира, он испытал краткое отчуждение к своему дому, так там и настрой и самочувствие были другими. Он просто отвык от постоянной усталости и борьбы в одиночку. Взглянув как бы на все свое со стороны, он понял всю тяжесть взваленной на себя ноши и ужаснулся.
Ну, а теперь-то? Он находился в своем доме, среди всего своего, а чувство отчуждения, внутреннего сопротивления ко всему, и даже неприязни, не проходило, а как бы усилилось.
– До чего же я дожил, если я это не люблю,– произнес он смятенно и закрыл глаза, так ему стало нехорошо.– Меня тошнит уже от этих досок, от кирпичей, от этой невозможной свалки. И я себя ненавижу среди них... Да как же тогда я смогу дальше здесь жить? Тем более, что и деваться мне некуда?
В это время стукнула калитка. В щель всунулась кудлатая голова Васи Самохина. Голова улыбалась, делала ужимки.
В другое бы время Шохов пережил такое наваждение, как приход Васи, но сейчас он никого не мог видеть, а Васю тем более. Его хватило лишь отвернуться и сжать зубы: авось Вася сообразит, что не вовремя зашел, и уберется восвояси.
– Доброе утро, Григорий Афанасьич! – крикнул Вася.
Шохов не ответил и не повернулся.
– А я, значит, шел мимо, решил посмотреть, не объявились ли вы? Все говорят, что вы за семейством своим, значит, уехали. Будто взяли отпуск, чтобы своих перевезти.
Шохов присел на чурбачок и задумался.
На Васю молчание хозяина никакого впечатления не произвело. Он был нахальный парень и слышал только сам себя.
– А тут дельце подвернулось,– говорил он, оглядываясь и тоже придвигая себе чурбачок.– Я пару домиков воздвиг, может, видел? Халтурка выгодная, но я договорился так, что я с печками им домики делаю. А ты сам понимаешь: печки я класть не умею. Так вот, Афанасьич, если бы ты мне помог, как говорят, за наличные, а?



![Книга [Самая большая подводная лодка в мире] автора Андре-Марсель Адамек](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka-v-mire-196222.jpg)