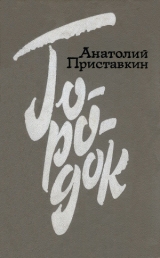
Текст книги "Городок"
Автор книги: Анатолий Приставкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Вот так и произошло: десантники явились к Шохову.
Григорий Афанасьевич обернулся на крик и жестом пригласил заходить к нему во двор. Был он не один, с Петрухой, но обращались к нему, и разговор вел с гостями только он.
Сели кто где мог, курящие закурили, оглядывая незаконченный дом и двор, заваленный строительным материалом.
Для начала знакомства задали несколько вопросов: где что доставал, как дорого обошлось и все в том же духе. Шохов сдержанно, но вежливо ответил, объяснил, ничего не скрыл. Даже про «золотое дно» поведал.
– Так вот, Григорий Афанасьич,– произнес после паузы самый пожилой среди всех, невысокий дядька с выражением не то чтобы нахальным, но задиристым, свои его звали дядя Федя. У него, видать, и характер, несмотря на тщедушность, был драчливый.– Не судите строго, если что-то сделали не так. Мы люди мирные и хотели бы все уладить добром.
Дядя Федя произнес и стал усиленно дымить папиросой, сосредоточенно глядя перед собой.
– А что улаживать-то? – будто не понял, не захотел понять Шохов.– Живите, раз поселились. Я тут, можно сказать, никто.
– Да и мы никто, – хрипловато усмехнулся дядя Федя.– Это село черт в кузове нес, да растрес, так у нас говорят. В общем-то мы все из одной бригады, да и на стройку вместе ехали, так нам с руки и поселиться было вместе...
– Ну и живите, – опять повторил Шохов.– Откуда сами?
– Ярославские,– подал голос кто-то из молодых.
А дядя Федя опять же, язвительно усмехаясь, произнес:
– Ни сбывища, ни скрывища, ни крова, ни пристанища! А вот насчет того, что жить тут, мы не то чтобы спрос объявляем, а как бы хотим с вами наладить связь и недовольство сгладить, значит.
– Почему недовольство? – уже всерьез заинтересовался Шохов и даже привстал.
Был он в робе, усыпанной опилками, верхоночки, брезентовые рукавички для работы, в руках держал, так как предпочитал не набивать мозолей и работать вообще организованно, пусть здесь и не производство. Волосы, светлые, потные, растрепались, но все равно было видно, что он человек хваткий, настырный и, может, даже веселый, уж больно голубые и бойкие были у него сейчас глаза.
– А как же,– резонно качнул головой дядя Федя. – Ясно, что недоволен, раз под боком деревню построили, да еще без разрешения!
– Да я и сам... Без разрешения строюсь-то! – весело воскликнул Шохов без всякой, впрочем, наигранности и посмотрел при этом на Петруху.
– Понятное дело,– сказал дядя Федя.– Но не вы к нам, а мы к вам, как говорят, приладились. Тут никаких сомнениев нет. И потому хотим, чтобы вы нас благословили, да и не сердились тоже. А мы, как положено, прописочку, значит.
Тут дядька кивнул одной из женщин, и она ловко вынула две бутылки водки, сало в тряпочке, яички и что-то еще.
Шохов как взглянул, так и понял: работа это Самохина. Вот же проходимец, накрутил, значит, людей, припугнул, может быть, заставил прийти на поклон. Вроде бы как и воеводе какому. Да ведь они и сами то же бы сделали, но по-человечески, как совесть бы подсказала! Ах, Самохин, сукин ты сын!
Осмотрев подарок, Шохов мельком взглянул на Петруху, как он это все оценивает, хоть знал, как он оценивает, посмотрел на дядьку и на остальных – все ждали его ответа. Он сказал просто, как умел это делать:
– Спасибо.
Потом опять посмотрел на Петруху и добавил:
– Есть предложение: все это добро вы сейчас заберете к себе домой, а я к вам, скажем, с Петром Петровичем приду на новоселье. Как?
Дядя Федя откинул папироску и без выражения произнес:
– Идет.
И тут дал знак женщине, и она все это ловко спрятала в сумку.
На том основной разговор и был закончен. Еще посидели для приличия, погоду обсудили, виды на лето, на урожай. Потом гости встали и попрощались.
Все были довольны, как показалось Шохову. Даже он сам был собой доволен. И только Петруха стоял, как и прежде, на своем месте и о чем-то мучительно думал, гримасничая. Он не умел скрывать своих чувств.
На следующее утро он не пришел, как было договорено, на работу и вечером тоже не пришел. Шохов занимался чердаком да крышей, и помощь Петрухи при этом была ему позарез необходима. Но так уж он был устроен, что не пошел к Петрухе в избушку и не стал ни о чем напоминать. Знал, что никуда не денется, придет да еще прощения попросит.
Он сбил из горбыля потолок, так, чтобы воздушное пространство оказалось не меньше двух сантиметров. Наложив брусочки, все обколотил досками, сделав, таким образом, черный потолок. На это пошла обрезная доска, обзол. Сверху всего он насыпал опилок, действуя опять же изобретенной им лопатой с трехметровой ручкой. Опилок не хватило, он и тут нашелся, на участке Васи Самохина взял с десяток ведер. Вася в убытке не будет, он себе всегда привезет.
Надо отдать ему должное, что опалубочные доски на пол он, как обещал, достал и на тракторе забросил на участок. Теперь из этих досочек, после соответствующей сортировки, лучшая часть была отложена на полы (по счету!), а остальные пошли на рамы.
Пока Петруха хандрил и задерживал крышу, Шохов фуганочном и полуфуганочком поработал над доской-сороковкой, потом распилил ее на бруски, отобрал в каждом брусочке паз для стекла. Он успел еще и стекло на складе выписать. Для дешевизны попросил бой, и хоть сперва сказали нет, но испытанный метод в виде шоколадки девочке-продавщице сработал, и девять метров «боя» удалось купить. Петруха должен быть благодарен: квадратный метр по рублю достался! Купил в магазине и стеклорез. Тут же увидел пилочку-змейку и ее купил для вырезки декоративных узоров по дереву. Дом должен быть красив.
Петруха явился на третий день вечером. Извинился и молча присел на какой-то обрубок, на Шохова он не смотрел. И хотя тот принялся ему объяснять, что они должны сегодня сделать и как дальше пойдет работа, так же безучастно смотрел куда-то в пространство и не двигался.
– Ты чего, заболел, что ли? – полюбопытствовал Шохов. Он чувствовал некоторую вину за свою прошлую грубость, но извиняться не собирался.
– Нет. Я не заболел,– ответил Петруха тихо. Вздохнув, продолжал: – Ты извини, Григорий Афанасьич, я в этот дом не поеду. Ладно?
Петруха будто и не говорил, а спрашивал разрешения у Шохова.
Тот не сразу понял, о чем идет разговор.
– Как не поедешь? Когда не поедешь?
– Никогда,– произнес еще тише Петруха.
До Шохова дошел истинный смысл произнесенного, он все понял и ужаснулся: Петруха отказывался насовсем от дома!
– Ты подожди, подожди,– приструнил он мягонько и терпеливо, зная, что умеет уговаривать, а уж доброго, покладистого Петруху тем более сумеет уговорить.– Ты чего, обиделся, что ли?
– Нет, Григорий Афанасьич, я не обиделся.
Шохов поморщился от непривычного Петрухиного официального обращения.
– Обиделся! Что же, я не понимаю? Ну, прости! Прости! Под руку ведь говорил, ну я и вспылил, с кем не бывает.
– Не обиделся,– повторил Петруха.
– Так что же стряслось-то? – громко воскликнул Шохов.– Дом, что ли, плох? Может, лучше кто сделает?
Петруха помотал головой, все так же не глядя на Шохова.
– Дом, Григорий Афанасьич, хорош. Я такого дома никогда не построю. И никто не построит.
– Так какого рожна! – крикнул Шохов, но сдержался и тише, приструнивая себя, добавил: – Извини, но чего же ты хочешь? Денег? Их же все равно нет!
– Денег я сейчас не прошу,– сказал Петруха.– Будет, отдашь. Я вот подумал, Григорий Афанасьич, что помощи от меня было все равно мало. Да мне и в избушке неплохо. Честное слово. Только не надо на меня сердиться... Я не смогу жить в таком доме.
– В каком таком-то? – удивился Шохов, глядя впрямую на Петруху, искренне желая его понять.– Большом? Теплом? Высоком? Каком?
– Да нет,– морщась, пробормотал Петруха.– Не в этом дело. Я вообще говорю. Не привык я, понимаете. Усадьба, огород, сад, сарай... Вы же все это будете строить, да?
– Если буду, так буду. А может, и не буду.
– Ну вот. Я и понял... Такой огромный забор... Все это не мое. Мне и денег не жалко. Вы уж живите с женой, вам, наверное, тут хорошо будет.
– Подожди,– попросил Шохов, пытаясь заглянуть ему в лицо и чувствуя себя растерянным. У него даже голос изменился.– В заборе, что ли, все дело?
– Во всем. И в заборе тоже.
– Ну давай его сломаем к чертовой матери! – решил тут же Шохов.
– Не надо ломать, Григорий Афанасьич. Вы без него не сможете. Да и не в нем дело.
Шохов вздохнул и присел рядом с Петрухой. Тронул за плечо, что-то хотел сказать, но раздумал. Помолчав, произнес подавленно:
– Бросаешь меня? – И так как Петруха не отвечал, еще сказал: – В самый трудный момент, Петруха, бросаешь. А ведь вместе же мечтали, да? И осталось-то... всего ничего.
Тут Петруха подскочил и беспомощно руками потряс перед лицом Шохова:
– Не могу! Слово, что не могу! Три дня мучился, себя довел не знаю до чего...– И очень жалобно, моляще: – Не могу, Григорий Афанасьич, отпусти ты меня, пожалуйста.
Тут вроде Шохов и опомнился. Усмехнулся странно и махнул рукой.
– Ах, ну что, тебя силой держат? Но ведь от дома же отказываешься! От хорошего дома, в избе хочешь прожить? А ведь приличный дом – это, Петр Петрович (так-то тебе: тоже обращусь официально), для самосохранения, да, да! Ты за личность ратуешь, а какая же личность без стен и крыши, на виду у всех? А? Ты хочешь, чтобы люди к тебе не лезли, когда их не просят, так это только в нормальном дому может быть. И забор никому не помеха, если калитка существует. Забор дает возможность на своей земле постоять. Да нет, я понимаю, насколько она своя, условно, конечно, своя! Но ведь представь себе, как это получается: выйдешь после работы, а тут и грядочки, и деревца, и собачка твоя, и всякая мелкая живность, и даже воробьи... А ты здесь царь, ты король, президент, глава всему! И лишь поэтому ты полноценный человек, да, да! Тебя на работе придавят невзначай, по дороге нахамят, в магазине обругают... А в калиточку вошел, задвижкой лязгнул – и навсегда сам с собой. Никто не оскорбит, не обидит, не накричит и не тронет. Открой грудь, рубашку сними, пусть кожа, пусть легкие отдыхают. И сердечко потише, и нервы поглаже, и вот уже чувствуешь, что ты в человека восстанавливаешься! У нас поговорка была: в лесу человек лесеет, а в людях – людеет. А он и в хозяйстве, в доме, в участке своем людеет... Как же ты можешь после этого от него отказываться-то? Ведь не враг же ты себе?
– Да вы не сердитесь, Григорий Афанасьевич,– повторил Петруха.– Мне избы достаточно для себя, чтобы человеком быть. А в этом дому я могу и потеряться... Правда. Счастье – это умение довольствоваться малым...
– А дед? Дед Макар? – как за соломинку ухватился Шохов за последний, вовсе немалый, как ему казалось, довод.– Он-то ведь ждал избы?
Пожалуй, впервые Петруха посмотрел в лицо Шохову, и взгляд его был чист.
– Да, я знаю. Я его подвел, конечно. Но мы придумаем. А пока мы вместе поживем. Он хороший человек.
– Я так и понял! – ранено вскрикнул Шохов.– Я так и понял, что вы оба против меня будете!
– Да нет, Григорий Афанасьевич, дед Макар к вам зла не имеет. Но мы... мы и правда в чем-то похожи. Даже электронная машинка показала, что у нас в биоритмах духовного совпадения почти сто процентов.
– Машинка? Машинка? – закричал разозлясь Шохов.– А насчет меня что же твоя дурацкая машинка сказала? Ты ведь рассчитал, да?
– Нет,– сказал Петруха виновато.– Я вашего дня рождения не знаю.
– Но все равно...
Он не стал прощаться с Петрухой, а залез на чердак, под самые стропила, и стал стучать топором. Петруха до избы дошел и спать лег, но не спалось ему. Почти до рассвета он слышал этот ровный одинокий стук.
На другой день после ухода Петрухи свалился Шохов. Как подкосило его. Может, он той холодной ночью застудился, ветер был. А может, перетрудился да и перенервничал.
С утра занемог, но пытался себя пересилить и распорядка обычного не стал нарушать. Кой-какие дела по дому сделал и на работу сходил, а вечером строительством занимался. Но без охоты работал, по инерции, а ужинать и вовсе не стал.
Ночью спалось плохо, думалось о смерти. Вдруг захотелось Тамаре Ивановне письмо ласковое написать. О своей любви к ней, что сильно истосковался по ней, по семье, устал жить один. Человек он вроде семейный, а всю жизнь как сам по себе. Забыл уж, как бывает, чтобы дома кто-то суп сварил, майку, носки постирал, да и утешил, когда в расстройстве нервы и все валится из рук.
А ночью приснилась ему Тамара Ивановна, будто она, веселая, танцует современный танец. Он тоже захотел с ней танцевать, но не выходило почему-то, все никак в ритм попасть не мог и немного тушевался. Напрасно он силился подладиться, стал нервничать, нехорошие мысли полезли в голову. Захотелось испортить ей этот не в меру веселый танец. «Ты мое письмо получила?» – спросил он жену с неприязнью. «Получила, но не прочла»,– отвечала Тамара Ивановна, все так же улыбаясь, никак не желая остановиться. «Так прочти! – крикнул он.– Мне же плохо! Мне совсем худо! Или ты ослепла да оглохла от своего дурацкого танца!»
Проснулся он от собственного голоса. Светила луна в проем окна, и было тихо. Так тихо, будто омертвело вокруг. Сердце сжалось у него от страха. Чтобы не слышать этой тишины, он поднялся, нарочито громко шаркая ногами, пошел на улицу и напился из бачка, звякая цепью. Это был тот самый бачок с кружкой на цепи, подобранный на свалке. Попил и сел на приступку, поглядывая через верх забора на темнеющую в лунном неясном свете избушку. Вдруг подумалось, что еще можно пойти сейчас туда, разбудить Петруху и попробовать помириться с ним. Потом развести в печке огонь и посидеть, как зимой сидели, когда было им хорошо. Что же произошло, что разбежались они? Неужели шоховский забор напугал Петруху?
Но Шохов знает, что прав-то он, когда поставил этот забор чертов, заслонившись от чужих глаз и рук. Не пришло время, когда можно всем и все доверить. Это и Петруха понять в силах. Как не пришло время только отдавать, ничего не требуя взамен.
Человек – существо гармоничное, и его идея жизненная тоже должна быть гармоничная и вот какая: ты вкалываешь не за страх, а за совесть, но ты должен иметь свой угол, свое хозяйство, свой другой, внерабочий мир, который бы давал тебе возможность чувствовать себя не роботом, а человеком.
Большего Шохов не хочет. Он не способен воровать, даже урвать по-настоящему, даже схимичить, как тот же Вася Самохин, которого он не осуждает. Пусть живет, если совесть не болит у него. Так чего же тогда Петруха на него взъелся, почему отверг от себя? А ведь отверг, совсем отверг, как границу перед ним поставил. У тебя, мол, свое, а у меня – свое. Но он-то с дедом Макаром, а не один!
Застыл Шохов, и стало познабливать его. А он все сидел, глядел на чернеющую в стороне крышу избушки. Хоть близок локоток, да не укусишь. Пойдет ли он или не пойдет – ничего не изменить между ними. И дело тут не в избушке и не в шоховском заборе, а в чем-то ином, что Шохов до конца не додумал. Но он додумает. Он до всего доходил своим умом и до этого тоже дойдет. А сейчас надо зажаться и самолюбие уязвленное спрятать подальше. Всяко переживали и это пережуем... У него есть дом и Тамара Ивановна с Вовкой. Они-то его всегда понимали. В конце концов, у него есть еще и он сам. Ни разу я не сдрейфил, не отступил от своего шоховского начала. Уезжал – да. Менял места – да. Жил без семьи – да. Многажды, да! да! Да! Но именно потому и делал все и ездил, что себе не хотел, не мог изменить. Как чувствовал опасность, что сомнут, скомкают, сломают, так и уезжал куда-нибудь. А теперь здесь, когда близка цель и уже, кажется, рядом с тем самым, о чем мечталось и грезилось наяву, вдруг пошло снова крушиться, и не кто-нибудь, а Петруха, добрый в сущности человек, вынул первый чурбачок из-под основания его идеи. Вот уж не думал, не гадал. А уехать, как прежде, нельзя, а записать Петруху во враги тоже невозможно. Первый раз беспомощным, бессильным был он перед Петрухой. Одна поддержка – это своя собственная вера в то, что он, а не Петруха в споре прав. Иначе все прахом. Ничего он не сможет сделать. Ни-че-го!
Совсем остыл Шохов на воздухе. Трусцой пробежался до постели (уже не в балагане, а в уголке дома на железной койке, взятой с «золотого дна», спал он), завернулся в одеяло и полушубок. Но продолжало трясти, и ног заледенелых не чувствовал. Все очевидней становилось, что заболевает.
Забылся под утро, когда серый рассвет влился в свободные проемы окон, осветил неустроенную внутренность дома. Только коечка среди досок, стекла, рам и инструмента была здесь чем-то обжитым, но казалась такой одинокой, заброшенной, как и сам Шохов.
Приснился ему короткий сон, что Петруха нанизывает на длинный нож с деревянной ручкой куски хлеба и, подбросив ловко этот нож вверх, так странно зубами его ловит, что хлеб попадает в рот. Испугался Шохов, выхватил у Петрухи нож, понимая, как опасен подобный фокус. Но Петруха беспечно достал другой нож и опять стал его подбрасывать и ловить зубами. Больно от такой картины стало Шохову, страшно стало. Он проснулся и опять почувствовал, что знобит его, голова разламывается от боли в висках, а во рту пересохло. Попытался идти, с трудом сделал несколько шагов, ноги у него дрожали. Он перемог себя, умылся, хотел что-то поесть, всухомятку, но ничего не лезло в горло. По сухой тропе вдоль ручья, а потом по дорожке он забрался на Вальчик и присел на землю. В утреннем ясном свете поднимался перед ним Новый город, как белый мираж в пустыне. Отливал синевой асфальт на улицах, первой и нежной зеленью покрылись кустики вдоль бульваров. Видно было, как шли на работу люди – цветная, пестрая толпа.
Шохов почувствовал, что он отторгнут и от этого живого мира. Заточил себя в недостроенном доме, за высокой стеной, и никому он там не нужен. Умрет, и не вспомнят, найдут через неделю-другую, если кто-нибудь хватится на работе. Странные мысли сегодня лезли в его голову.
Он поднялся, не оглянувшись на свой дом, как это делал прежде, стал медленно спускаться, чувствуя все время эту противную дрожь и слабость в ногах. Через полчаса он сидел в городской поликлинике в кабинете врача, полной и добродушной женщины в золотых очках. Женщина посмотрела язык, пощупала пульс и велела лечь на кушетку. Помяла живот, спросила, каков стул, нет ли рвоты или поноса.
– Я мало ем,– сказал вяло Шохов.
– Мало не мало, но вам требуется покой и нормальное питание,– произнесла доктор и что-то стала записывать. Она писала и одновременно продолжала говорить: – Куриный бульон, ранние овощи. Попросите вашу жену, чтобы она...
– Я один живу,– перебил сразу Шохов.
– Вот как? – ровно произнесла врач.– А кто же за вами ухаживает?
– Никто. Я сам.
– Это не годится,– сказала врач раздумчиво.– Я боюсь, что у вас воспалительный процесс в легких. Могут потребоваться уколы. И вообще... Может, вас направить в больницу?
Шохов испуганно отказался:
– Нет, нет! Я не могу в больницу!
Он только представил, что придется на неделю или две бросить свой дом, хозяйство, материалы, все, что открыто лежит и требует постоянного присмотра, – это было невозможно. Никак невозможно. Могут растащить, украсть что-нибудь. Да и нельзя бросать его дом в таком виде!
– Ладно,– сказала женщина.– Я вам выпишу на пять дней бюллетень, но если станет хуже, вызовите врача. Наташа! – крикнула она в соседний кабинет.– Запищи у больного адрес и телефон.
– У меня нет телефона. И адреса тоже нет.
– Но что-то есть, если вы живете? – с улыбкой спросила врач.
– Дом... Недостроенный...
– Ну, так и запишем, что у вас недостроенный дом,– произнесла, все улыбаясь, врач и кивнула ожидавшей его медсестре.
Худенькая, черненькая, остроносенькая, похожая на галчонка, медсестра Наташа записала в тетрадь местонахождение дома, на всякий случай телефон работы. Потом она выписала рецепты, дала на подпись врачу и объяснила, что и в каком порядке пить.
Он слушал рассеянно и вряд ли что-нибудь запомнил. Но в аптеку зашел и все купил, как положено, хоть вовсе не был уверен, что станет эти лекарства принимать. Шохов не любил лекарства. Потом зашел в общежитие, так попутно. В городском отделении связи взял письмо от Тамары Ивановны. Дорогой его прочел. Жена писала, что у них теплая и хорошая весна. Сын Вовка окончил вполне достойно, с двумя трояками, первый класс и в начале июня едет в пионерлагерь на целых два срока. У Тамары Ивановны должен быть отпуск, который она хотела провести рядом с мужем, чтобы скорей помочь с домом, но так уж вышло, что она тоже поедет в пионерский лагерь по решению роно. Она отказывалась, но ничего не вышло. Больше новостей никаких и не было, кроме одной. Тамаре Ивановне написала жена Мурашки (оказывается, они переписывались, Шохов не знал), что старший сынок Валерий закончил ПТУ и должен быть направлен на любую новостройку страны. Не может ли Шохов взять его к себе? Парень он смирный, послушный и очень старательный, весь в папу. Если Шохов согласен, то Тамара напишет им сама. Она же считает, что сына Мурашки следует принять, он вырос без отца, и у них, у Шоховых, перед семьей бывшего друга, как говорят, моральный долг...
Вот такое было письмо.
Шохов положил его дома под подушку, чтобы не забыть ответить. А что он ответит, он еще не придумал. Но и он понимал, что сына Мурашки нельзя не принять, тем более что об этом просят. Хотя, конечно, забот будет с ним немало. Надо устраивать на работу, в общежитие...
Превозмогая себя, он еще попытался работать. Он схватился делать дверь, хоть она ничего и не значила, пока не были застеклены окна. С трудом натаскал толстого – тридцатка – горбыля, связал раму, соединив в шип, и рядком прибил нестроганые доски. Оргалитом, подобранным на свалке, зашил дверь с двух сторон и стал уже петли лапчатые (так в деревне и звались – лапа!) привинчивать, но почувствовал невероятную слабость и слег. Пролежал до сумерек, уткнувшись лицом в подушку и чувствуя, как липнет к мокрому телу рубашка и как сам он весь наполняется тяжелым жаром изнутри. А ночью стало ему совсем плохо. Он уже и себя не чувствовал, и тела не чувствовал, только все горело, будто уже не внутри горело его, а снаружи, ему показалось даже в бессознательном состоянии, что дом его горит. Но страшно ему не было. И жалко тоже не было. Он стонал, обняв подушку, будто заклинал кого-то, а потом заплакал. «Господи! – просил отчаиваясь он.– Я устал, господи... Я не могу так жить больше. Мне тяжело так жить. Я все время строю. И нет конца. Я умираю, и ничего я не успел сделать... Мне больно, больно, помоги мне!»
Под утро он наконец заснул, и пасмурный рассвет обнаружил его лежащим посреди недостроенного дома, на самой что ни на есть серединочке, завернутым в шубу. Подушка в опилках и женино письмо валялись рядом.
Как он оказался на полу и в шубе, он не смог вспомнить. Но следующий день прошел и еще один, а он лежал, перейдя в постель, ничего ровно не чувствуя – ни жара, ни боли, ни мук. Все отошло, и он, словно отчистившись от скверны, казался себе легким, даже воздушным, но нисколько не больным. Странная прострация овладела им. Полное безразличие к окружающему. Таким его и нашла Галина Андреевна, вернувшаяся из своей поездки к мужу.
За те два или три летних дня, которые Галина Андреевна не была в Вор-городке, улица, на которой она построилась, так называемая Сказочная, еще больше выросла. Появилось несколько времянок и еще больше разных колышков, обозначающих, что место застолбили.
В первый день Галина Андреевна занималась собственным домом и никуда не пошла. Но к вечеру второго дня, возвращаясь с работы, она решила заглянуть к Шохову и занести письмо мужа. Муж просил передать письмо побыстрей.
Галину Андреевну удивило, что никого не было видно во дворе шоховского участка, не было и слышно, уже ставшего привычным, постукиванья топора. Уж все замолкнут к ночи, а у Шохова все как дятел долбит: стук да стук. Неугомонный человек. А тут будто вымерло. Осторожненько, найдя щеколдочку, отворила она калитку и заглянула на просторный двор. Прошла по нему, оглядываясь по сторонам и опасаясь зацепиться чулками за какую-нибудь доску, которых было навалено кругом, стопочками и вразброс. Сунула голову в проем двери с некоторой опаской и тут увидела его. Поразилась, как он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок.
– Григорий Афанасьевич, к вам можно? – спросила она, не решаясь зайти. Так как он не отвечал, Галина Андреевна сделала несколько шагов и опять сказала: – Простите, я без приглашения.
Шохов только глазами в ее сторону повел, но опять ничего не ответил. Тут-то Галина Андреевна и сообразила, что ему плохо. Потрогала лоб, быстро намочила какую-то тряпочку и положила ему на голову. Нашла на стуле лекарства и приказала ему проглотить, он повиновался. Потом полезла в свою сумку, но, как назло, именно сегодня ничего съестного с собой не оказалось. Тогда она сказала, что сейчас придет, и почти бегом бросилась к своему домику. Взяла кусок вареной курицы, подогрела на керосинке чаю и залила его в термос, на хлеб намазала масла и все это положила в сумку.
Шохов есть не стал, но чаю попил и поблагодарил.
– Вам нужна помощь? Может, врача вызвать? – спросила Галина Андреевна, оглядывая его жилище и соображая, как бы найти время, чтобы прийти и немного здесь прибрать.
Он помотал головой.
– Спасибо. Я завтра встану.
– Нет уж, завтра я сама приду,– сказала Галина Андреевна.– А вы полежите. У вас температура.
На следующий день прямо с работы она пришла опять. Достала из сумки термос и налила ему бульона и пирожок достала, совсем свежий пирожок. Спросила, принимал ли он лекарства, хочет ли чего еще, и, когда он ответил, что нет, принялась за уборку. Впрочем, это было трудно сделать, потому что грудами были свалены стекла и доски, дерматин, и гвозди, и всяческий инструмент. Веничком из прутьев, обнаруженным во дворе, она смела стружки, что было возможно, сложила так, чтобы не валялось под ногами, а разбросанную повсюду одежду повесила на гвозди, которые торчали повсюду из стен.
Потом присела прямо на койку у него в ногах и улыбнулась:
– Жив, курилка? Я-то вчера перепугалась, когда в дверь увидела, что вы весь белый лежите. Думаю: а вдруг не дышит?
Шохов смотрел на ее красивое лицо, но не видел ничего, кроме чувственных нежных губ, не тронутых помадой. Эти губы ему улыбались, и ему стало легче.
– Да нет, я ничего. Я немного,– произнес он тусклым голосом, которого и сам не узнал.
Он опять уставился в ее удивительные губы, подумав вдруг, что как было бы хорошо ему, если бы Тамара Ивановна не уехала в свой лагерь. Теперь она бы сидела на месте Галины Андреевны и легкими руками (ах какие у нее руки!) гладила бы его по одеялу. Господи, ну за что же ему так не везет?
Галина Андреевна ушла, наказав не вставать и принимать лекарства, а он все думал о жене и заснул. И опять она ему приснилась невозможно веселой, с большим букетом цветов. Он еще подумал во сне, что слишком яркие у нее цветы, какие-то огненно-рыжие, неприятно режущие глаза. А когда проснулся в сумерках, то услышал, что в доме кто-то есть. Прямо у ног его стоял человек и смотрел на него в упор. Шохов, не поднимая тяжелой головы, попытался, скосив глаз, рассмотреть человека, но не смог. Подумалось лениво: «Ну и черт с ним! Пусть стоит, если ему приятно! Рассопелся вишь!» И закрыл глаза. А когда снова открыл, то уже совсем рядом с собой увидел остренькое, как у мыши, ассиметричное лицо и чуть скошенный набок взгляд. Нисколько не удивившись, подумал: «Сенька Хлыстов тут! Ишь, ворон, почуял запах падали, да? Прилетел и ждет!»
– Чего ждешь? – спросил Шохов, не глядя на него.
– Дык, Григорий Афанасьич, зашел. Иду мимо и думаю: как не зайти, если Григорий Афанасьич тут живет. И зашел. Будить-то побоялся, а ты как почувствовал...
Шохов слушал, молчал. Не хотелось говорить ему с Хлыстовым. В другое бы время прогнал, сейчас-то как прогонишь. Да он ведь хам, он и не уйдет. Нет. Он своего добьется. Вот интересно, чего он хочет от Шохова? Ведь не зазря же он пришел?
– Ну и что? – спросил Шохов с закрытыми глазами. Его начинало раздражать это сопенье Хлыстова.
– Так ведь как же не встретиться,– торопливо заговорил тот.– Я теперь у вас, можно сказать, под боком живу, Григорий Афанасьич. Мимо на работу, мимо с работы. И опять же, вы тут как бы комендант наш, и неудобно не зайти...
– Когда же ты успел?..– Хотелось добавить «сукин сын»... Но сдержался. Лишь вприщур посмотрел на Сеньку. В костюмчике: видать, с работы. Сумочка хозяйственная в руках. Ишь прыщ, приехал и под бочок, значит. Ловко!
– Так ведь я, Григорий Афанасьич, раньше вас сюда прибыл. Я прям из Челнов, значит. А осенью-то гляжу, в голубой куртке Григорий Афанасьич объявился. С чемоданчиком, модный такой. Я уж с тебя глаз не спускал, конечно. Все-таки землячки. А как усек, что ты домик наметил, так я у Васьки Самохина и выспросил. И сам деляночку застолбил... Уж ты, надеюсь, не против, Григорий Афанасьич, а?
Голос у Сеньки елейный, липкий, как паутина клеится. Вьет, вьет эту паутину, а что в ней, какая мысль запуталась, никак не уловишь. Но ясно одно: что охота Сеньке наладить связь с Шоховым. На основе землячества воссоединиться, чтобы ничего прошлого не стояло между ними. Ведь рядом же придется жить. Ах, как сукин сын, повернул! Как все сгладил!
– Значит, вспомнил? – спросил Шохов угрожающе.
– Так ведь как не помнить, Григорий Афанасьич! Как не помнить! И бедного Мурашку помню. Ах, какой мастер был. Вот уж человек необычный, особенный, можно сказать, а не повезло. Не повезло ему, говорю... Да ведь чему быть, того не миновать... Это судьба, как выражаются некоторые. Судьба.
– Не трожь Мурашку! – крикнул вдруг Шохов. Думал, что громко крикнул, а голос едва прозвучал.– Не трожь, ты, убийца!
Но вовсе он не поразил Хлыстова. Даже не взволновал его. Трудно было в вечерних сумерках рассмотреть его лицо, но показалось, что оно без всякого выражения, как и голос, завораживающий своей бессмысленной вязью. Но бессмысленной ли?
– Вот, Григорий Афанасьич, вот и ты туда же... Что Сенька-то – негодяй, что Сенька – убийца. Как все, так и ты, значит. А у меня полжизни съели эти предубеждения. На работе, куда ни приду, все за спиной долдонят и шепчутся... И сюды от них, от всех слухов, уехал, так вот и ты туда же? Не годится это, Григорий Афанасьич, делать, не по совести человека безвинного со свету сживать. Была вина, была, так эта девочка, а вовсе не убийство, за него кого надо давно взяли, Григорий Афанасьич! Положим, между нами, как меж своими людьми, что было, того не возвернешь, а вспоминать не будем. Для того и пришел, чтобы положить уговор, чтоб не вспоминать!



![Книга [Самая большая подводная лодка в мире] автора Андре-Марсель Адамек](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka-v-mire-196222.jpg)