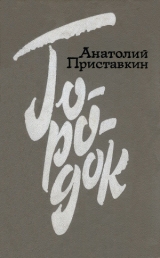
Текст книги "Городок"
Автор книги: Анатолий Приставкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
Был Петруха некрасив, скуласт, толстогуб, нос широк и приплюснут, да и фигурой не особенно вышел. Но глаза помнил Шохов его серые, большие,– даже девушки, несмотря на Петрухину неприглядность, засматривались в них, как в водное, не тронутое рябью зеркало.
Шохов так ничего и не узнал о Петрухином прошлом. Догадывался, что тот, за свои тридцать лет, а они были ровесники почти, помытарствовал немало. Поездил по Союзу, пытал свое счастье, но нигде не прижился.
Если же спрашивали, произносил уклончиво: мол, жизнь везде одинакова и нечего в ней искать того, что не бывает.
Шохов сейчас и сам удивился, что в трудный момент прибежал он к Петрухе, которого и в грош не ставил, когда дело касалось практических соображений. Тут доисторический дед Макар мог быть полезней.
Но так уж устроен человек, что на переломе судьбы идет он не к своим благополучным приятелям, с которыми соединяла его удача и везенье, а возвращается к брошенным старым друзьям, где самоценность отношений проверена не раз. Они как запасной окопчик в бою: может, его уже замело пылью, но если знаешь, что он есть, то и жить и драться легче.
– Чего случилось-то? – спросил Петруха, приподнимаясь на подушке. Он умел просыпаться и соображать сразу.
Смотрел своими большими глазами на гостя и ждал ответа.
– Шел-шел и зашел,– произнес Шохов и отодвинулся от кровати. Поискал, сел на стул.
– За так просто ты и чихать не станешь,– лениво сказал Петруха и повернулся к окошку, высматривая погоду. Глаза его наполнились глубокой синью.– Выкладывай, выкладывай, я ведь тебя знаю. Случилось что?
– Случилось.
– Ну, слушаю.– Петруха зевнул и потянулся. Его никак не растревожил громкий голос приятеля.
Шохов еще помедлил, раздумывая. Стоит ли начинать разговор, ведь не за советом же он пришел сюда, советчик из Петрухи грошовый. Для сочувствия, для дружеского понимания – а может ли быть такое понимание при теперешних их отношениях?
Он еще раз пристально вгляделся в ничем не омраченное Петрухино лицо и решил ничего не говорить и не тревожить Петруху. Пусть и дальше живет, раз блаженный, ему лично слух ничем не грозит.
– Случилось, что вспомнил тебя и решил узнать, жив ли ты,– сказал Шохов с напускной лихостью.
По-видимому, тон его обманул наивного Петруху. Он еще раз глянул на окошко, на часы, которые не снимал с руки даже на ночь, и стал молча одеваться.
Пешком до Зяба шли они вместе. На центральной, единственно обжитой улице Петруха, попрощавшись, свернул к своему ателье. Шохов пошел дальше.
На работе пробыл он час или два, сославшись на головную боль, а голова действительно разболелась. Позвонил деду Макару в Гидропроект, вызвал его к подъезду и о чем-то недолго переговорил. Потом встречался он с баламутной Нелькой, от которой насилу отвязался. Видели его с какой-то девочкой в кафе.
Но когда он появился к вечеру на Вальчике, странно взмыленный, осунувшийся даже, можно было подумать, что день у Шохова был тяжкий.
Задохнувшись, ловя ртом воздух, такого с ним никогда прежде не бывало, встал он на перевале, на скрещении двух разбитых дорог и смотрел бессмысленно, отчужденно на Вор-городов и на свой, красным пятном крыши отмеченный, дом.
– Стригут под корешок,– произнес вслух и сел на траву у обочины.– Но посмотрим, посмотрим. Бананов им захотелось!
О каких бананах шла речь, понять было невозможно.
– Мы еще посмотрим, кто кого! – И он грозно шурнул кулаком в сторону Зяба и повторил с ненавистью: – Бананов захотелось!
Если бы Шохов мог все это предвидеть в самом начале своего строительства! А ведь он был тогда настроен оптимистично, безоглядно верил в свою звезду, которая сверкнула ему алмазной синей гранью на этой выбранной им точке земного шара. И он не предполагал, а точно знал, что он хочет и что он может сделать. Чем человек отличается, как писали в одном популярном журнале, от пчелы? Да тем именно, что он в уме, в своей фантазии создает будущий свой дом, а потом его строит. А Шохов его создал, вообразил воздушным красавцем, наподобие волшебного Тадж-Махала, но уже детально представляя, что и каким манером будет у него возводиться, из каких материалов и в каком порядке.
Длинными зимними вечерами и ночами он тысячу раз сложил его в уме, каждый вариант так или эдак разглядывая мысленно то вблизи, то на расстоянии, что-то отвергая и вновь перестраивая, пока однажды не решил: все! Шабаш! Вот то, чего он и хотел.
Это была необыкновенная зима в его жизни, когда все переосмыслилось, выстроилось навсегда и надежно, как будущий дом. Была возможность подумать о себе, о Тамаре Ивановне, о своей родне, живущей в деревне Васино, что близ Тужей, и о Третьякове Лешке, и об остальных тоже.
Все стало окончательно на свои места. Необыкновенное чувство ясности пришло к нему, определив и его уверенность в том, что он задумал, и его здоровое, энергичное настроение. Он полюбил этот в общем-то случайный в его жизни город, эту новостройку, и реку, и белое плоскогорье за Вальчиком, где будет стоять его жилище. Он любил Петруху, и себя он тоже любил, потому что поверил до конца в свою идею и понял, что если он сам до нее допер, то не последний он, Шохов, человек на земле и может кое-чем еще блеснуть. Хоть на вид пока лёзный, как называли таких в деревне, то есть одинокий и безземельный бобыль.
О, Шохов многому научился за эти тридцать с небольшим лет, пока путь его лежал по его же рассказанной сказке в сторону базара! Он был благодарен Петрухе, невозмутимому своему слушателю. Долгие повествования о жизни и помогли, произнесенные вслух, сообразить о себе то, что не было до конца осознано прежде.
С Петрухой вообще было легко, пока его самого не трогали. Он был покладист и терпелив к чужим идеям, все их воспринимал без сопротивления, если даже не поддакивал, то и не возражал. Дай слушать он умел, как никто. Настораживался он лишь тогда, когда пытались копануть его нутро, что-то выяснить о его прошлом. Тут он замыкался, отстранялся и произносил нечто невнятное, неопределенное, наподобие: «А кто его знает». И Шохов не лез, решив, что ему достаточно и Петрухиного сегодняшнего чудачества; нечего лезть, куда его не просят. Тем более что Петруха ему необходим для исполнения его идеи именно такой, доверчивый и покладистый. Как раз на это были направлены теперь усилия Шохова.
Однажды, это случилось на самый Новый год, Шохов напрямик высказал Петрухе идею о совместном строительстве нового дома. Не обиняком, как прежде, и не наскоком, нет. Старательно налегая на подробности, обрисовывал совместное их житье-бытье в пятистенке, где у каждого из них будет свое крылечко, и своя верандочка, и свой огородик. Но в то же время будут они вместе, потому что он, Шохов, понял, что с Петрухой они навроде двойников и много чего в жизни их роднит да сближает.
Петруха по обыкновению сидел, уткнувшись в книжку, хоть и не читал, а слушал, это было видно по блуждающему взгляду его чисто-серых глаз. Перед ними на столе, на этот раз освобожденном от всякой машинной рухляди, стояла бутылка портвейна и два стакана. Они только что выпили за год новый, который, ясное дело, станет лучше предыдущего, и за шоховское будущее жилье, и вообще за счастье.
Вот тут Шохов и разоткровенничался. Он стал живописать, как все у него будет делаться. Называя нарочито будущий дом по-свойски избенкой, кельёнкой, он схватил кусок угля и тут же на постеленной посреди стола газете нарисовал все как есть, объясняя, где тут бабий кут, а где хозяйский кут, а где красный угол, а где печной угол и задний, так называемый конник.
– Красный угол пойдет на юго-восток! – кричал Шохов, разойдясь.– Как у нас говаривал отец: солнце входит утром в избу красными окнами! А как полдень, произносят: солнце с красных окон своротило... А лавочка под красным окном тоже красной, Петруха, зовется!
– Чего это все красное у тебя? – спросил с сомнением Петруха. Но и он заинтересовался диковинными названиями.
– Это что! – воскликнул вдохновенно Шохов.– И крыльцо бывает красное! И дерево бывает красное! Да, да! Самое что ни на есть строительное, сосняк кондовый, двести пятьдесят кругов! Он-то и есть избняк. Только нам такого, Петруха, не достать. Хоть бы полукрасного, до ста пятидесяти кругов, считай. А то еще преснина есть, пресняк болотный (восемьдесят кругов!), а то еще прозванный, это который из лучшего, но с брачком...
Петруха покачивал лишь головой: ишь понесло.
А Шохов уже клеть и сени вознес, подызбицу сляпал, чердак, подволоку, вышку. А тут еще истепка, то бишь подклеть, холодная изба, кладовая, казенка, а рядом лабаз, да пелевня для дров и многое другое.
Ясное дело, и крышу не забыл Шохов, ибо всего дороже честь сытая да изба крытая! Тут уж пошли вовсе мудреные словечки, вроде таких, как самцы, да причалина, да слеги, да охлупень, да князек, шелом, череп и черепное бревно, и конечно же конь, венчающий крышу.
Отдельно Шохов на печи остановился, ибо существует приговор, что догадлив крестьянин, на печи избу поставил! Не изба, а печь на переднем в приговоре выставлена! А что касается других приговоров, которые помнил сызмальства Шохов, то и они все о печке да о тепле повторяли.
– Вот скажи, Петруха,– настаивал громко Шохов, глаза его разгорелись, и сам он будто опьянел от своего разговора. – Мужик делил меж сыновьями избу, каждому сыну по углу, так? А себе, как ты думаешь, что он выбрал? Печь! И говорят, спокойно дожил свою жизнь.
Вот что любил и знал Шохов, вот что изливал из души, будто стихи любовные читал! Тут и опечье, и подпечье, и запечье, и припечье... И под, и свод, и шесток с загнеткой, которая еще кличется бабуркой, а там чело, да устье, да кожух, он же шатер! Ах, какие имена! Какие теплые, отдающие жилым дурманным теплом слова все эти! Хайло – вот куда тепло, Петруха, идет, обороты, разделка, это где труба потолок проходит, а вот бока печки зеркалами у нас зовут! Печь нам мать родная – вот как дома произносили.
Петруха опять восхитился: ну и шпарит, приятель! Разошелся на Новый год – весну, что ли, почувствовал?..
– Не печь кормит, а руки! – крикнул Шохов.
Тут бросился он к своему чемоданчику и стал говорить, как он печничал, печнокладом, значит, работал по деревням. Он достал из-под жиденького своего барахлишка долото, наверток, отвес и тот самый кругляк-отпил, который привез из родного дома.
– Кабы не клин да мох, так бы и плотник издох!
Тут заиграла вовсю музыка, Петруха крутанул ручку приемника. Странная это была музыка, играла вроде бы одна труба, но так ловко выходило, что почти ансамбль, и Шохов, придерживая в руках долото и отвес, пустился изображать какой-то немыслимый танец.
Светлые волосы пали на его глаза, и пот на лице прошибло, но он ничего не замечал. Он танцевал посреди избушки (своя избушка – свой простор!) нечто немыслимое, фантастическое, но было еще в нем какое-то особенное счастливое торжество. Он танцевал, если хотите знать, свое будущее жилье, свой дом! И было это даже не в движениях, а в особой счастливой посадке головы, в затуманенных мечтой глазах, во всей его немыслимо чудной позе!
И через все это он вдруг закричал Петрухе, сильно и дерзко:
– Ну, будем строить или нет? Вместе! Едино! Так, чтобы всегда вместе, а, Петруха! И никогда не разделяться, а?
И Петруха, вовсе, наверное, не мечтавший сейчас о новой, избе, но завороженный по-детски счастливым танцем своего собрата, вдруг махнул рукой, будто что-то отбрасывая, и тоже пошел вихлять ногами. Теперь они оба топтались посреди избенки, стараясь перещеголять друг друга. Они орали друг другу, хотя были рядом.
– Будем! – вопил Петруха.
– Горенку! – вскидывался Шохов.
– Ну да, горенку!
– И печку кирпичную!
– Ну да, кирпичную...
– И будет нам ладина!
– Будет! – вскрикивал Петруха.
– Ладина – это ведь по-нашему удача! Ты знаешь? Это счастье!
– Ясное дело, будет ладина!
– Ладина! Ладина! Ладина! – пел Шохов, кривляясь и гримасничая.
А Петруха, как резаный, вопил ему вслед, и если бы посмотрели со стороны люди, то решили бы, что тут сошли с ума. А просто нашло на них, как говорят, и в этом была, и рождалась, та долгая истина, которую до сих пор и по-другому они никак не могли выразить.
– Ха-ха! – орал Шохов Григорий Афанасьевич, человек вполне солидный, инженер на стройке, много что повидавший и переживший, вряд ли кто мог бы представить его таким.– Охо-хо! – ревел он, хватаясь за живот и изображая из себя какого-то черта, прыгающего на углях.– Охо-хо-ха-хе-хи!
Весь этот дурацкий набор звуков был так органично слит с его кривляниями и так шел к нему сейчас, что нельзя было его и осудить, мало ли кто как себя выражает. А Петруха, косолапый, колченогий заморыш, почти что диснеевский гном, с пуговицей-носом и круглыми чистыми глазами, шмыгал обрезами валенок, открыв в восторге рот круглиной (не Петр, а Петрушка из театра!), и так уж у него все нескладно получалось, что ясно было, никогда он не танцевал и не будет, и не для этого создан, но... Сейчас и он вписывался в этот фантастический Новый год, в эту избу, в этот несуразный танец, который, ясно же, был их выражением, их откровением друг перед другом!
– А ты – человек! Ты – Петруха – это... Ты человек! – ревел Шохов ему в лицо.
– Ага! – взвизгивал тот и крутил шары глаз.
– Ты, Петруха, мастер! Ой, мастер!
– Ма-а-сте-ер! – подвывал тот.
– Мы с тобой, Пе-тру-ха, такое смастерим! Мы такое с тобой, эх! Мы всем покажем! Они-то думают, а мы еще, эх! Мы сами с усами!
– Мы всё могём! – подтверждал по-дурацки Петруха.
И вот что было очевидно, что он ведь взаправду все может. И как ни верил Шохов в себя и в свои руки, но понимал, ясно видел сквозь события, что Петруха мастер шибче его, хоть и не понимал, в чем именно. Но не задумывался сейчас, ибо танец это нисколько не мысль ума, а это фантазия сердца, а сердце у Шохова было переполнено сейчас собственными фантазиями, да еще какими!
Месяца два прошло с того новогоднего вечера, когда Шохов и Петруха бурным танцем отмечали свой союз. Много событий разных произошло, хотя внешне ничего не изменилось в жизни наших героев. По-прежнему жили они в избушке, топили печь по утрам, расчищали снег самодельной лопатой, склёпанной из дюралевого листа, варили кашу, чай и вместе, затылок в затылок, торили дорожку на Новый город – Зяб.
Петруха будто даже стеснялся воспоминаний о том странном вечере и краснел, как девушка, когда Шохов невзначай напоминал ему. Сам же Шохов преобразился совершенно. Теперь все свободное время он пропадал в магазинах, на складах, на каких-то базах, выискивая все, что могло бы им пригодиться при строительстве. Однажды съездил даже в районный центр Новожилов, крошечный деревянный городок за восемьдесят километров вниз по реке, и там тоже наводил справки, приценивался, знакомился с кем надо, в общем, организовывал строительные материалы.
Возвращался позже обычного возбужденный, громкий, но водкой от него и не пахло. Повествовал Петрухе о своих подвигах и сам громко смеялся при этом. Или, наоборот, негодовал, но всегда это происходило азартно, даже лихо, такой уж он был человек.
Идея – вот что теперь его вело. Ветер надувает только парус того судна, которое знает, куда плывет. Эту мысль он вычитал в какой-то книге, и она, то есть мысль, легла на его настроение, на его понятие о своем деле. Он знал теперь, куда плыть, и подгонял время. Нетерпение – вот что было в нем.
– Прихожу,– повествовал он за вечерним чаем. Пил из кружки, обжигался, но не замечал, потому что был захвачен предметом разговора.– Так вот, прихожу. Сидит этакий прыщ на ровном месте. Я ему прямиком: нужен, мол, тес. Плачу наличными, приплачиваю тоже. А он с пристрастием вопрошает: «Где сидишь?» Я опешил, говорю: «Что значит – сидишь? Я не сижу, а работаю». А он свое, значит, гнет: «Кем работаешь-то? Начальником аль нет? А раз начальником, значит, шишка. Значит, все равно сидишь. Даже если по воздуху летаешь. Потому что у тебя – место». – «Ну, тогда, считай так, отвечаю, сижу прорабом на водозаборе».– «А что имеешь? – это он, значит, спрашивает: – Бетон, цемент, краны, бульдозеры, рабсилу?» – «А тебе-то зачем, я же тес покупаю!» А он мне, Петруха, знаешь, что на это ответил? «Мне, милок, твои деньги не нужны,– как отрезал.– Они сейчас не ценятся. Сейчас ценится услуга за услугу. Только так. Слышал поговорку: баш на баш?» – «Слышал»,– говорю. «Теперь ее народ по-другому сложил, и куда вернее. А звучит она, милок, так: «дашь на дашь». Понял?» Я киваю. Чего уж не понять. С тем и ушел.
– Ну,– спросил наивно Петруха. В руке у него паяльник и какой-то приборчик с вывернутыми железными внутренностями. Он ожидающе смотрит на Шохова, оторвавшись от своего замысловатого дела.
– Чего нукаешь? – подъязвил Шохов.– Аль считаешь, что уж запряг, оттого что за двоих бегаю?
Упрек мизерный, но Петруха будто покраснел, засопел носом.
– Я спрашиваю, как быть в таком случае?
– Так и быть, что помнить эту поговорку. Тес я, между прочим, достал. Завтра его тягачом забросят.
– Значит, бетон, цемент, что там... наобещал?
– Не-е-ет,– заблеял вызывающе Шохов. Голубые глаза его в полусумраке нагловато блестели, а прямая черточка у переносицы стала будто жестче.– Хотя без этого «дашь на дашь» вряд ли чего построишь. Так я понял.
– Тогда, может... не надо ничего и строить? – предположил Петруха. Опять без всякой задней мысли, а по-своему, по-детски спросил.
Шохова хоть резануло (всякого бы такое резануло), но сдержался, только вприщур не без превосходства посмотрел на своего новоявленного друга и союзника. Только ему за его глупость, за чудачество, за бескорыстное и безвинное младенчество простил Шохов такой вопрос. Никому бы другому не простил.
– А знаешь, что я ему пообещал – дашь на дашь? – нахальновато воззрился в лицо Петрухе.– Я тебя пообещал, дружок. Магнитофон ему заграничный чинить будешь. А может, телевизор еще!
Вот так только Шохов мог сделать. Сказал и посмотрел, как будет реагировать Петруха на подобную новость. С веселой ухмылкой изучал он Петрухино лицо, ловя не без удовольствия всяческие в нем перемены. А Петруха не сразу сообразил, что означает хамоватая реплика Шохова. Кивнул согласно, потом удивился, посмотрел в лицо Шохову и покраснел. Эх, простота, все в нем, как в зеркале, отражалось. Понял, видать, что продали его с потрохами, а не нашелся что ответить. Уткнулся в свой приборчик. Замкнулся.
– Ну? – спросил с вызовом Шохов.
С чувством правоты спросил, потому что сам вкалывал, мог и Петруху поэксплуатировать: чего ж ему, блаженному, сделается? Он же не посылал дружка своего взятки давать; не гонял по девкам на тех складах, где можно что-то достать. Не заставлял, словом, делать то, что Петруха никогда бы не смог исполнить. Наоборот. Он предлагал Петрухе сидеть чистеньким, незамаранным в своей избушке да чинить приборы. Магнитофоном меньше, магнитофоном больше. Ничего аморального в таком варианте не было. Это Шохов знал твердо. Знал он, что Петрухе нечем крыть на такой вызывающий поступок. Хотя был в нем некий скрытый смысл, с ходу который углядеть невозможно, а только разве что почувствовать.
Петруха почувствовал покушение на его свободу. Оттого и замкнулся.
– Ну? – повторил Шохов миролюбиво.
Он-то знал, в чем нарушил дружескую этику, и не хотел до конца давить на Петруху. И так злоупотреблял его мягкостью, покладистостью.
– В свободное время сделаю,– буркнул тот, не поднимая головы.
– А ему не второпях! – подхватил обрадованно Шохов.– Ему можно и совсем не делать! Если не хочешь! А?
Это от избытка чувств он предлагал Петрухе отступного. Мол, не хочешь, так и не делай. В конце-то концов выскребемся. Не такие петли миновали.
Но Петруха такого тона не принял. Он посмотрел на Шохова впрямую, как глядят обиженные дети.
– Нет, я сделаю. Отчего же... Только... Только ты в другой раз заранее мне скажи. Сперва предупреди меня, а потом уж обещай. Ладно?
– Да ладно! Ладно! – Шохов теперь уж чуть не заискивал.
Жалко ему стало Петруху. Знал ведь, что обижает. Специально обижал, потому что в какой-то момент разозлился, что тянет весь этот воз за двоих, забыв, что сам и впряг насильно Петруху в свой воз. А теперь вот обидел, стало легче, но и жалко почему-то стало.
Все-таки странная штука жизнь. Нельзя жить так, чтобы всем было хорошо. Вот вроде мелочь, кажется, Петрухе отремонтировать глупый японский магнитофон, он их бесплатно сотни, наверное, отремонтировал. Но ведь то было как бы для себя, а это для дела. Для их общего дела. Шохов для будущего дома и не такое наобещал бы, случись возможность достать дефицитный стройматериал. А вот задел человеческое достоинство, краешком всего, и уже худо обоим. И вечер расстроился, и разговор заглох. Все пропало. Даже его лихое настроение.
Теперь и он нахмурился, взгромоздился на лавку, не скинув обуви, и стал глядеть в потолок. Рассердился, значит. На себя рассердился, что он такой человек, что не смог попросить иначе, хоть и понимал, что это означает. А ведь завтра кирпич доставать, и снова придется что-то там нарушать, и торговаться, и духи девке-кладовщице совать. А что бы сделал сам Петруха на его месте? Небось ничего бы не сделал. Да и не стал бы в самом деле, зачем ему? Он и домом-то не загорелся, а так, вдруг по-детски, воспринял его как будущий подарок, как игрушку какую...
– Кстати, у тебя избушка-то застрахована? – поинтересовался Шохов. Намеренно безразличным тоном спросил, чтобы услышать голос Петрухи и убедиться, что он уже не таит обиды.
– Чего тут страховать? – удивился тот.
И Шохов с облегчением услышал именно те интонации, которые хотел услышать. Но, может, лишь чуть-чуть натянутым был голос Петрухи.
– А когда изба в деревне горит, знаешь, что мужики делают, а? – произнес Шохов, вовсе не рассчитывая на какое-то любопытство дружка, и продолжал: – Во время пожара мужики печь ломают. Вот что они делают.
– Почему? – удивился Петруха.
Ах, какой он был все-таки беззащитный, он и обижаться не мог долго, все в нем наружу. Надо с ним поосторожнее в будущем – так решил Шохов.
Он ответил:
– А потому, что печка в избе самая ценность. Это по стоимости, значит, страховки. Если изба сгорела, а печка стоит, так мужику копейки могут выплатить. Вот и происходит дикость: пожар, надо избу тушить, а мужики ломами орудуют, кирпичи крушат. Я однажды увидел, страшно стало,– он помолчал и уже для себя, точно для себя, а не для Петрухи, сказал, что страшно вообще, когда жилище уничтожают.– Вот кошки, странные они существа, верно? А когда мне бульдозером избы однажды пришлось сносить, потому что под затопление деревня уходила, это на Ангаре, так хозяева будто и ничего, их переселили, а кошка орала, будто живой человек. У меня, поверишь, нервы не выдержали. Выскочил я из бульдозера, шуганул ее, а она в сторону отбежала и снова кричать. Ну, как ребенок все равно.
Петруха работу оставил, повернулся с интересом.
– А разве нельзя было не разрушать? – спросил наивно.
Шохов покачал головой.
– Нельзя. В том-то и дело. Бревна всплывут потом, какой-нибудь катер протаранят. Да ведь отжило. А она, дура, не понимает. Орет, и все тут. Хозяин скарб погрузил – и молчок. А кошка – животное бессознательное... Но если посудить, выходит, она больше хозяина, что ли, переживает?
– А ты чего, не переживал бы?
– Я сейчас в своей деревне напереживался,– как отмахнулся Шохов.– Ну, а тогда я еще молод был, да вроде и чужое. Сейчас, когда без дома намаялся, думаю, не смог бы рушить. У меня, как у той кошки, душа бы разорвалась...
Шохов стал раздеваться, шаркая ногами по избе. Но носки на ночь не снял, был февраль, и в окошки и в дверь сильно задувало. К утру, как ни топи, домик так выстуживался, что пробирало под полушубком. Поэтому, бросив дров и глядя раздумчиво на высокое гулкое пламя, Шохов посидел на корточках, почесываясь, вздохнул:
– Ты не сердись на меня, Петруха. Я же вгорячах наобещал, когда и раздумывать некогда. А ведь доставать материал-то надо. Ты, если хочешь, не делай, я ему деньгами на ремонт дам, он не обидится...
Петруха сидел, склонясь над своей работой, молчал.
Не этот ли разговор, о кричащей кошке, вспомнил Шохов два года спустя, когда проснулся ночью в своем доме, напуганный неожиданным слухом, но еще больше своим собственным предчувствием скорой беды.
Теперь часто по ночам лежал он, прислушиваясь к дальнему тревожному звуку, которого не существовало в природе. Этот звук рождался в глубине его потревоженного сознания, как в самые опасные времена. Потом медленно затихал, замирал в нем, сходил на нет. Но лишь до поры.
Однажды он проснулся с ясной головой и твердым пониманием того, что надо делать. Впервые он четко и неизбежно понял, не обманывая самого себя и не закрывая глаз, что не просто Вор-городку, а именно его дому, его семье, с тех пор как они приехали, лично ему, угрожает реальная опасность. Он, только он один, как мышь на корабле, чувствовал ее приближение. Необходимо было, не поднимая шума, не возбуждая постороннего интереса, все выведать. Чтобы первому, опять же, предугадать свою жизнь на несколько мгновений вперед, потому что именно такой человек всегда в выигрыше перед остальными. Успеть опередить и события и время и успеть принять меры, чтобы защититься.
Однажды в каком-то спортивном интервью со знаменитым футболистом он прочел и запомнил, как тот объяснил свой успех. Он так сказал: «Все дело в том, что я у ворот на несколько мгновений опережаю соперников, чувствуя, предвидя, куда упадет мяч. Только и всего».
Вот что главное в жизни: на несколько мгновений раньше определить, куда упадет мяч... Хоть здесь далеко не спорт, нет!
В управлении Спецмонтажа, где он имел своих дружков, никто ему членораздельно ответить не мог. Тут нужно было действовать иначе. И он стал действовать.
Ах, что там многоумеющие и ловкие агенты, наводняющие промышленным шпионажем капиталистические страны! Он в одиночку провел операцию, которая и не снилась слюнявым молодчикам в затрепанных детективах, ибо они творили какую-то сверхполитику, не всегда понятную неискушенному читателю, вскрывая сейфы, похищая документы, брильянтовые сокровища! Он же боролся за свою жизнь, за то, что ее составляло,– вот этот дом, последний, единственный оплот в жизни. Так он считал, и так оно было на самом деле.
Французские духи, подаренные простой практикантке-чертежнице в закутке возле проектной конторы, было ничто в сравнении с тем, что он получил тогда.
Перед ним лежала на столе калька с планом городских строений, культурных центров, магазинов, детских садов, рынка, промышленных мелких объектов. Один из них – опытным глазом строителя он засек сразу и вцепился, хищно сверля это место,– выходил на Вальчик, и дальше шла странно заштрихованная площадка, которая, как бы не замечая, рассекала их Вор-городок пополам, удобно располагаясь на месте нынешних времянок, в том числе и ЕГО, ШОХОВСКОГО ДОМА.
В целом план для того, кто мог что-нибудь понимать в планах или читать чертежи, был великолепен. В нем возносились к солнцу белые этажи высотных домов, в нем шумели фонтаны, цвели клумбы, наполнялись детскими голосами зеленые бульвары и, словно нарисованные (пока действительно только нарисованные), на синем небе красовались огромные рекламы. Город был хорош, что и говорить. Но сейчас он вовсе не радовал Шохова, как в день его приезда, а вызывал глухое раздражение.
Даже не город, нет, это было бы неправдой. Он по-своему любил город не за то, что был к нему причастен как жилец, а причастен как строитель. Как жилец он спокойно переживал чужую для него красоту, считая, что она достаточна для него и тем, что он может ею издали любоваться. Так любуются на чужую женщину, жену, вовсе не желая никогда считать ее своей.
Но было среди всего на плане такое, что и вывело Шохова из себя,– это бананохранилище. Трудно определить, да еще в момент, когда он слишком напряжен и взволнован, именно ли ОНО станет на месте ЕГО дома... Но то, что ОНО само по себе существовало, взвинтило и без того натянутые нервы Шохова и вызвало откровенную злобу.
Можно понять все другое: магазины, детские сады, клумбы (хотя нет, клумбы на месте своего дома Шохов тоже не принял бы!), но только не бананохранилище – здесь, на севере, где и бананов сроду не видывали, разве что на картинках!
– Бананы! – произнес он вслух и громко рассмеялся. Смех его со стороны показался бы странным, так смеются, когда дело худо.– Бананы! – И он стукнул со всей силы кулаком по чертежу так, что хрупкая бумага с треском порвалась.
Тут он опомнился и ладонью стал ее разравнивать и соединять. Руки у него дрожали. Отодвинув чертеж в сторону, он попытался успокоиться, стал смотреть в окно.
Шохов находился в вагончике-прорабке, в полном одиночестве. Был перерыв, и все ушли в столовку. За окошком, сквозь сероватый день и мелкий, почти незаметный на этом сером фоне снег, падающий отвесно, можно было разглядеть черное отверстие водозабора, встающего из глубины берега как гигантский колодец. Два года он строил этот водозабор, а стоять он будет, может, сто лет. Потому что город, Новый город не сможет обойтись без воды. А вот без самого Шохова он, конечно, проживет спокойно. Сметет его крошечный домик (крошечный в сравнении с водозабором, конечно) и не заметит этого. Много ли значит его внеплановая времянка в сравнении с любым плановым объектом, будь это даже бессмысленное бананохранилище...
Ну конечно, Шохов сейчас сообразил, что никаких бананов на месте его дома не будет, это всего-навсего милая шутка проектантов... Подобное пишут на застолбленных для дальнейшей стройки участках, пока Госплан не утвердит какой-нибудь химический или иной комбинат... Да какая же разница-то!
Где же в его планах, очень продуманных и выверенных, могла произойти осечка, что не предусмотрел он такого поворота событий?
Он снова обратился к ненавистной кальке. Уже более тщательно, квадрат за квадратом, он стал ее изучать, пытаясь найти хоть какие-то изъяны, за которые могла зацепиться его изобретательная мысль.
Шохов не зазря считал себя опытным строителем, верным учеником Мурашки. И не такие калечки и чертежи держал в руках, да не все они, ох далеко не все воплотились в реальные строения. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги! – так и говорилось, когда чуть ли не в последний момент (а до последнего, так еще тысячу и один раз) менялся замысел – и все поворачивалось... Так случилось в Усть-Илиме: вместо скального основания оказался мягкий грунт (сэкономили на бурении), и пришлось вколачивать тысячи свай и переделывать проект и всю привязку... Ах, да что говорить, всяко еще могло и тут повернуться!



![Книга [Самая большая подводная лодка в мире] автора Андре-Марсель Адамек](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka-v-mire-196222.jpg)