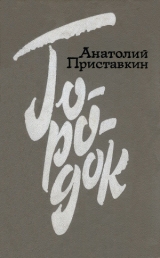
Текст книги "Городок"
Автор книги: Анатолий Приставкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
Шохов молчал. Казалось, что он вовсе не слышит говорившего, так углублен в свои думы.
– Я прилично заплачу,– сказал Вася.– Все пропорционально работе. А? Вы чего, заболели, что ли? Или вообще не в настроении? – Вася заглянул Шохову в лицо и заулыбался. Из него так и перло веселое нахальство.– Так у меня тоже бывает, когда я не с той ноги встану, особенно с перепою. А у нас тут новостей полный рот!
Приехало разного народу, строятся, я им подваливаю материальчика. Даже у вас взаимообразно кое-чего взял. Но я отдам, ей-богу! А тут Семен Семеныч, вы должны знать, Хлыстов по фамилии, стал бегать за моей Нелькой, значит. Я ему рожу хотел намылить, так он третий день не появляется, в общежитии, падла, ночует. А где оно, общежитие, не разберешь. Но я его откопаю! Галина Андреевна, значит, теперь хлопочет, чтобы в Вор-городке буфет открыть как филиал своей столовой. В исполком ходила, чего-то там доказывала... Но ей пока не разрешили. Кому, говорят, торговать, если все люди там, ну, то есть у нас, случайные, неизвестные и не прописанные нигде. А она им и заявила: «Что же, если не прописаны, то они есть не хотят, да? А когда вам завод и станцию строить надо, так вы не спрашиваете, где они прописаны? Они что же, не наши люди, что ли?» Здорово так им врезала...
Шохов поднялся и, ничего не отвечая Васе и даже не взглянув на него, направился к дому.
Вася, глядя вслед, крикнул:
– Ты, Афанасьич, подумай, что я сказал насчет печки! У меня дело стопорится! Настроение настроением, а калым дороже! – С тем и ушел разобиженный.
Впрочем, все знали, что Васины обиды, как бабий ум, недолги: покричит да и отойдет. Что же касается Шохова, то его и вовсе не беспокоило, что подумает или скажет Самохин. Плевать ему на Самохина, на его Нельку, на Хлыстова и на весь городок в целом.
Даже мелкая возня Галины Андреевны по поводу лавки нисколько не тронула его. Все это понималось как бессмысленность. Толкутся на этом пятачке, играют в жилье, в поселок, в соседство, в заботу о людях, а к чему? К чему? Если все это – фанера, на пустом месте! Склад, как сказала бы Наташа, вещей...
Мысли о Наташе вызвали ноющее, больное чувство. Чтобы как-то их заглушить, он решил заняться делом. Все равно каким. Делом, чтобы не ныло, не саднило под сердцем.
Дверь маячила перед глазами еще с тех давних пор, когда он и Наташи не знал. А если дверью кончил, с нее и начинать надо. От дверей и дом начинается!
Впрочем, дверь-то была готова. Он осмотрел ее и понял, что ничего не надо добавлять, а надо ее вешать. Может быть, в другой раз тот, старый Шохов, который был до болезни, до встречи с Наташей, еще что-то доделал бы: укрепил косячок, подтесал бы с уголка, подровнял где или гвоздик лишний заколотил. Теперешний, новый Шохов ничего не стал ровнять и прибивать. Ему не нужна была дверь, как не нужен был дом, забор, вообще хозяйство. Ему надо было занять свои руки и всего себя без остатка.
С навеской двери, с ее подгонкой он провозился до обеда и остался в общем-то доволен. Не дверью доволен, а самим собой. Убитым в себе временем.
Несколько раз он с размаху, желая видеть, как она закрывается, хлопнул дверью, будто кому-то доказывал этим злым хлопаньем, что он еще тут, еще хозяин.
От этого хлопанья задрожал, будто проснулся весь дом. И Шохов злорадно уловил эту дрожь и сразу стал спокойнее. Выхлестнулся, что называется, отыгрался на двери...
И замок поставил. Что за дверь без замка?
На очереди стали окна. Отборник, то есть выемка четвертей на рамах, был проделан прежде. Теперь он лишь стамесочкой прошелся, подчистил стружку, подровнял кое-где и стал мерить и резать стекло. Работка шла быстро, будто шутя. А когда последний кусочек вставил и отодвинулся на середину дома, чтобы взглянуть со стороны, сам поразился: помещение стало восприниматься как живое жилье.
То же и со двора: как глаза у дома открылись вместо пустых глазниц. Засветились тем одушевленным блеском, без которого и окно не окно, и дом не дом, и город не город... Его дом стал походить на настоящий, на обжитый дом, а не на дохлый срубик с черными провалами, который то ли бросили, не достроив, то ли разрушили не до конца. Словом, не разбери пойми, как и самого хозяина...
У Шохова под сердцем камень ледяной растаял от такого преображения. А ведь и поработал всего ничего. Денек убил в чистом виде. Не вообще убил. А в себе – от Наташи убил.
Когда солнце склонилось за Вор-городок, за его крыши, а в дальних белых этажах за Вальчиком (там и Наташин дом, он никогда этого не забывал!) окна накалились закатным огнем, Шохов отсел в сторонку от дома, как бы на отшибе, чтобы лучше видеть. Он пристально рассматривал свой дом, но уже другими, новыми глазами. Не чужими! Начиная понимать, что дом вроде бы вспомнил своего Шохова, как и он, Шохов, узнал свой дом...
Руки, если говорить уж точно, все и вспомнили!
А если нельзя было утверждать, что дом и хозяин были до конца довольны друг другом, то слава богу, что они хоть не были совсем чужими.
На следующий день Шохов занялся наличниками.
Надо сказать, что, войдя в контакт с собственным домом, Шохов пока работал не без инертности, какого-то внутреннего тормоза, который не мог и не хотел в себе преодолеть. Хотя мысли, как в прежние времена, уже начинали опережать руки. На очереди-то была печка! Уж что-что, а печку Шохов был готов класть всегда.
В самом конце недели начал он закладывать печку, не без боязни, правда, опасаясь, что в своем нервном состоянии сложит он ее не такую радостную, не такую везучую, счастливую, какую хотелось бы. А ведь печка – душа дома! И уже кирпич был принесен, и раствор готов, а он как сел перед этим кирпичом, так просидел до полудня, не в силах двинуть рукой. Мысли о Наташе... Они съедали, они подтачивали его изнутри, как жучок точит дерево.
Вдруг припомнилось, как стояли они у подножия колокольни и швыряли камешки в самый тяжелый колокол, и он отвечал им низким басом: «Гу-ум... Гу-ум...» Разговаривал с ними на забытом древнем языке предков.
На своем дворишке лью колоколишки!
А когда поздним вечером в белом сумраке северной ночи они взглянули со стороны на монастырь в целом, он вовсе не показался им ободранным, наполовину изничтоженным, растертым на кирпичную крошку. С необыкновенной выразительностью проявился замысел неведомого строителя, вознесшего среди дремучих лесов стрельчатые башни, луковки церкви и резные стены.
Наташа рассказала, что в какой-то книге путешествий она еще в детстве увидала изображение Соловецкого монастыря, его крепостных бойниц, сложенных из циклопического камня, и все это так же цельно и реально было повторено в воде. А внизу подписано, что снимок сделан в час ночи. С тех пор, еще не видя, она полюбила Север. «А теперь,– добавила она, как в шутку,– у меня есть родные тут местечки, которые связаны с тобой. Их так немного, но они тоже мои...»
Какой же замысел проявлял замечательный строитель Григорий Шохов, строя свою печь? Уж не думал ли он, что навсегда увековечит он свое имя, воздвигнув в этой пустынной местности свою избу с печью, даже самой наилучшей? И будущие потомки, снимая в мерцающей и прозрачной ночи его творение, как и весь Вор-городок, произнесут слова благодарности в адрес их создателя и поразятся его замыслу, его искусству?
Господи, о чем он думал, сидя перед жалкой кучкой кирпича?
Он вдруг понял, что не сможет есть, спать, вообще жить, если сегодня, сейчас, немедленно, в это самое мгновение, не увидит Наташи. Только с ней приобретало все, что было вокруг, смысл – и даже эта проклятая печка!
Он швырнул мастерок на пол и поднялся. Пока снимал робу и надевал чистую, голубенькую, отстиранную в холодной воде ручья рубаху, перебрал в уме дни с момента разлуки (семь дней! Без нее!) и вычислил, что сегодня она дежурит с обеда. Вспомнил вдруг, что не умылся, снова скинул рубаху, сунулся под рукомойник с головой, от одной мысли о ближайшей встрече чувствуя прилив необыкновенных сил и радости и теперь только понимая, как же не хватало ему Наташи все эти дни.
Для этой женщины он все бы смог создать – церковь, монастырь или просто – домик, избу для них двоих. Какое счастье строить для кого-то, не для себя... Все эти слова, будто колокол под камешком, звенели в нем густыми невостребованными звуками, между тем как он торопливо шагал к их заветному месту. Прибежал даже раньше, сел на краешек скамьи, весь в нетерпении, уставясь на дорожку, по которой должна прийти она.
И все-таки не он, а Наташа первой углядела Шохова.
Она появилась из-за угла с каким-то высоким мужчиной, оживленно беседуя и, лишь привычно скользнув глазом в сторону знакомой скамейки, увидала его. Потом и он увидал. Но не видом, ни жестом она не обозначила своего открытия, которое для нее конечно же, как он понимал, что-то значило, а продолжала так идти и разговаривать, повернувшись лицом к спутнику.
А бедный Шохов, словно в первую их встречу, слов лишился и никак не мог произнести имя, ее позвать. Немо глядел на нее, пугаясь, что она исчезнет сейчас за стеклянными дверями и тогда ему придется жить без нее еще неведомо сколько. Хотя произнеси она только это, чтобы ждал, как в тот первый раз, и он жил бы и ждал ровно столько, сколько она прикажет. Но Наташа прошла и скрылась в дверях больницы.
В эти дни Шохов обратился целиком к своему дому. Любовь к Наташе вдруг обернулась какой-то несвойственной, грубой неприязнью к ней, именно за то, что она отторгла его от дома. Теперь же, при помощи дома, он отторгал от себя Наташу.
В нетрудной, но кропотливой работе, требующей приложения сил и рук больше, чем ума, хоть трудился он ожесточенно и даже более чем прежде, многое успел он передумать и высказать ей в ответ на все, что она сделала.
Но пуще всего другого он ставил виной ей забвение им своего дома.
Серединные дни июля стояли на редкость ясные, жаркие, благоприятствующие строительству. Как строительству водозабора, где приступали к монтажу оборудования, насосов, так и дома.
Шохов в несколько дней сложил себе печь, удачную, как он считал, трехоборотку с двухконфорочной плитой. «Счастье придет и на печи найдет»,– говаривали в старину. Шохову такая поговорка была сейчас как никогда кстати.
Да еще совпало, что печь он сложил прямо в новолуние, а это всегда почиталось к удаче, к теплу, к радости в доме. Крошечная, но отдушинка в нынешнем настроении Шохова. Потому что думал он еще о Наташе, то с ожесточением, то с тоской, и думы эти выматывали его душу.
Кого зовут пиво пить, а кого печь бить.
Когда поднял печь над крышей и стал класть трубу, долго крепился, стараясь не смотреть в сторону белой, видневшейся из-за Вальчика башни. А как взглянул, схватило сердце, стало больно в груди. Чтобы скорей скинуть эту мучительную, сейчас невыносимую боль (лучше бы руки болели, спина!), он скорей спустился на землю, набрал по двору щепочек и пошел испытывать печь.
Разжег бумажку, щепок подложил, и слоистый синий дым заполнил помещение.
Шохов суеверно глядел на теплющийся едва огонек и со страхом подумал: «Не удалась! Вот смеху по городку будет, что у печного мастера печь не вышла! А все потому, что зло затаивал во время кладки, а зло, известно, холодит, а не греет».
Но тут потянуло, разгорелось, и пошел огонек полыхать во всю силу. Загудело в поддувале, стало нагреваться.
Обрадованный, выскочил он на двор; отошел к забору, чтобы лучше видеть, как тянет дымок. Снова вбежал в дом, кинул чурочек посмолистей и опять бегом к забору, а потом за калитку: отовсюду было видно, как закручивается над трубой серый дымок и, чуть согнувшись под ветерком, рассеивается метелкой в просторном небе.
– Горит! – сказал себе Шохов возбужденно. – Горит! Черт!
А ведь не на шутку испугался, потому что верил в счастливые приметы. Еще ко всем его делам – да печка бы не удалась!
Теперь с облегченной душой он смог из жести стальными ножницами решеточку вырезать, а на одну ее сторону флюгерок в виде петушка. Да не просто петушка, а вычурного – с хвостом, крыльями врастопырку, с гребнем на макушке. Все это на самом верху закрепил, а к ноге петушка провод привязал. Другой конец провода он подсоединил к зарытой в землю трубе.
Тут тебе и украшение, и флюгерок для ветра, указывающий не только направление, но и силу его (крылья топорщатся посильней), но он же громоотвод, защита дома от молнии и грозы.
Что и говорить, не растерял Григорий Афанасьевич свою практичность за этот грешный месяц. Грешным – так он его за свое отступничество от дома и прозвал!
Как ни муторно было Шохову, не мог не сознавать он, что работать он не разучился. Сам бы отвык, так руки помнят, а они, как известно, всегда умней головы. В этом он не раз убеждался. А теперь лишь почувствовал, что выходит, дело выходит, и тоска из него по капле тоже выходит.
А дом, как теперь уверился, еще лучше станет, чем в тех замыслах, которые он нянчил до появления Наташи.
Может, он и без нее пришел бы к подобному результату. Ведь сидело же в нем, внутри все то, что он так чудотворно мастерил? Вот и получается, как ни отводи, как ни обращай Шохова в свою веру, а все равно вылезет его рукотворство, домоводство, рукомесло, как в добропорядочном христианине бесом выскакивает вдруг язычник, а уж не два месяца, а две тысячи лет вытравляли!
Не его доля мыться с помощью женщины в ванной, ходить в походы и держать дом для книг и друзей. Он хозяин и создан для того, чтобы создавать, чтобы иметь свое хозяйство. У него и руки и голова (дурная, но какая уж есть!), и строй мыслей, и понимание жизни – все приспособлено для того, чтобы стать хозяином, а не влюбленным туристом!
Так вот, искажая, придавливая в себе истину, он изымал, как осколок из раны, с кровью то, что в нем крепко засело.
В те же дни, возвращаясь однажды с работы, Шохов зашел на почту и забрал письмо, пролежавшее там больше двух недель.
Он знал, что письмо его ждет. Аккуратная Тамара Ивановна писала ему каждую неделю. Знал, да не брал, оттягивал по известной причине, боялся, что придется немедленно что-то решать, писать, к чему он не был готов.
Он ожидал всяческих вопросов в письме, о переезде, к этому все шло, и такие вопросы были. Тамара Ивановна спрашивала, когда будет готов дом и могут ли они приехать раньше срока, потому что вещи уложены, а ждать не имеет смысла. Да и с лагерем ей удалось быстро развязаться.
Но вовсе не этим поразило Шохова письмо. А своей, что ли, обнаженностью. Тамара Ивановна писала:
«Дорогой мой Шохов! Трудные мы с тобой прожили годы. А время идет, и кто, как не женщина в моем возрасте, больше всего чувствует, сколько потеряно, сколько недобрано ласки и всего хорошего, что может дать нормальная семья. Устала я жить в одиночку, поверь. А Володька, хоть маленький, от рук отбивается, и совладать с хозяйством не поспеваю. За время нашей с тобой разлуки всему научилась от нужды: и стены сверлить, чтобы гвоздь забить, и бачок в туалете ремонтировать, и со стиральной машиной управляться. Правда, ее возит мне из коридора Вовка, как-никак, а единственный мужик в доме, маленький, но свой.
Это я не в упрек пишу, а для того чтобы ты лучше все дальнейшее понял. Я всегда считала наши жертвы не напрасными и всегда любила тебя. Тебя, которого тут назвали бабы беспутным (они даже пытались мне сосватать вдовца), не всегда мне понятного, но дорогого и единственного. Главное-то я в тебе поняла, что ты человек своей идеи.
Вот я сейчас в лагере пионерском близ Елабуги вечерами, которые оставались свободными (не в пример школе!), пыталась как-то анализировать и пришла к выводу, что я люблю тебя за то, что ты смог все преодолеть, все перебороть и на пустом, как говорят, месте построить, совсем или часть, я пока не видела, не знаю, да и не в этом дело, свой дом. Значит, все, что я чувствовала в самые первые годы в тебе хорошего, никуда не ушло, и я в тебе не ошиблась.
Так же честно могу сказать, что все эти годы жизни совместной, а больше розной никогда ни единым разом я тебе не изменила и не смогла бы, потому что знай, что я человек одной любви. А эта любовь принадлежит тебе. Плохо ли это или хорошо, но так оно и есть.
А все сказанное – зарок того, что будет у нас, в нашем новом доме, и нормальная жизнь и счастье, как бы ни сложились всякие другие дела. Как поется в хорошей песне из времен войны: «Все, что было загадано, в свой исполнится срок, не погаснет без времени золотой огонек...» Мы есть друг у друга, и этим все сказано...»
Тут же на почте он написал телеграмму: «Жду телеграфируйте выезд дом готов целую Шохов».
Девушка, аккуратненькая, как школьница, приняла бланк и стала пересчитывать слова, водя по ним карандашом и шевеля губами. Оторвавшись, спросила неуверенно:
– Вы пишете: «Дом готов»?
Шохов кивнул, наклонясь через барьер.
– Я хотела спросить: вы не оговорились? Может быть, квартира?
– Дом! Дом! – подтвердил Шохов, вдруг засмеявшись.
– Вы из деревни? – спросила девушка.– Кстати, у вас не указан обратный адрес. Мы без него телеграмму не принимаем.
– А может, я проезжий? – весело произнес он.
Взял бланк и в самом низу, за жирной чертой, начертал энергично: «Вор-городок, улица Сказочная, дом № 1. Шохову».
Девушка прочла и улыбнулась.
– А вы – веселый человек. Сорок шесть копеек, пожалуйста.
С этого дня в него будто бес вселился. Все, что он ни делал, выходило ловко, как по заказу и сразу же удавалось ему.
Два вечера и две ночи подряд (дни уходили на водозабор) он покупал и привинчивал ручки и шпингалеты к окнам и дверям. Потом еще обои покупал, и клей, и всяческие предметы быта.
Перегородочки поставил из горбыля в два ряда, отделив спаленку от горницы и выгородив кухню. Все это обил сухой штукатуркой и заклеил обоями.
Обои легче клеить вдвоем. Но все же наловчился: разматывал весь рулон, поливал из ведерка клеем, а потом волок к стене за один конец и поднимал на высоту.
Во время работы его преследовала странная такая песенка, неведомо откуда пришедшая:
Дом мой, дом мой, домик на Лесной:
Весь в снегу зимой,
Весь в цвету весной,
Та-ра-ра-ра-ра, а летом
Озаренный ясным светом,
Та-ра-ра-ра-ра, как быть —
Мне в доме жить-прожить!
Он не все слова знал, они и не были ему нужны. Главное – в песне говорилось о доме. Чтобы опушенный белым снегом он стоял зимой, а весной в вишневом цвете, а летом в ясном солнечном дне... И чтобы этот дом был всегда, всегда!
А вот с мебелью пришлось повозиться. В магазине, кроме раскладных кресел-кроватей, тяжелых и неудобных ни для сиденья, ни для сна, да странного вида шкафов, ничего не оказалось. Шохов, притираясь животом, обчитал, объелозил все заявления на стенках, но кое-что разыскал. Из-за срочного отъезда какая-то семья продавала шифоньер, тахту, два кресла и «тумбочку с книгами».
Шохов тут же поехал по адресу и, поторговавшись и даже попив кофе, как в гостях, все это приобрел и привез, в том числе книги. Правда, книгами поинтересоваться времени не хватило. Наташа, та бы из-за книг небось и мебель бы забыла взять!
Он поймал себя на том, что любой ход его мыслей, как в тупичок, упирался в Наташу.
В день приезда семьи, а телеграмма пришла через три дня, он еще докрашивал масляной краской двери и окна, мурлыкая навязшую в зубах песню про дом. Насчет машины было договорено. На работе он отпросился.
Он успел все докрасить и даже полочку прибить на кухне и поставить рукомойник с ведром (все из «золотого дна»!). Потом он снова съездил в Зяб и попросил у коменданта продать ему два матраца и два одеяла.
Хамоватый Агафонов – жирная ряха, нахальный в упор взгляд – принял, не моргнув, деньги и вдобавок бесплатно предложил забрать общежительское зеркало. Но Шохов от зеркала отказался. Очень уж противно.
Только воспоминание о близкой встрече с женой и сыном вытравило это липкое чувство.
По дороге на станцию он попросил заехать в попутную парикмахерскую, времени у них оставалось с запасом. Народу в середине рабочего дня не было совсем, и он, усевшись в удобное кресло, попросил парикмахершу, толстую и ленивую женщину, привести его в порядок. Та, на удивление, ловко, быстро его постригла, прилизала и густо полила ядовитым одеколоном «Шипр».
Оглядывая в зеркале буроватую от загара, худющую свою физиономию с проваленными глазами, в которых голубовато проглядывало что-то озорное, победоносное и лишь чуть-чуть тревожное, он удивился, давно уже не видел себя таким ухоженным.
И все-таки, несмотря на задержку, на станцию он приехал раньше срока. Сбегал, выспросил у дежурного, не опаздывает ли поезд, а потом бесцельно бродил по платформе, почти пустынной (несколько пассажиров да тележка с посылками), вспоминая, как осенью прошлого года в пасмурный серый день он с чемоданчиком ступил на этот перрон.
На привокзальной площади он увидел роскошный «Икарус». Этот самый «Икарус» вселил в него уверенность: если такие роскошные автобусы ходят до города, значит, все будет в порядке. А попадись развалюха, да конопатая, дырявая дорога, да бедный, обшарпанный вокзал, кто знает, не поворотил ли он оглобли сразу же, в первый час приезда!
Стройка стройкой, но ее характер, но ее перспектива, как и хозяин, то бишь министерство, легко угадывались опытным глазом, как говорят, от вешалки, то есть от ворот, в данном случае от вокзала. Вспомнил, как сквозь забрызганные стекла вглядывался он в новые, маячившие у горизонта белые дома, в подсобные службы, в попутный и встречный транспорт, все больше уверяясь в мысли, что не промахнулся в своем выборе (как бы он ни был случаен) в надежде найти здесь свое место, чтобы остаться работать и жить навсегда.
Что же, плохо ли, бедно ли, он исполнил, о чем мечтал (про себя знал, что не плохо и не бедно), и был готов с чистой совестью (ой ли, так уж и чиста?) принять свою семью.
Но уже можно было заглянуть в будущее, как с Володькой построят они своими руками лодку, как купят мотоцикл, чтобы ездить по Новожиловскому шоссе в лес, как будут собирать ягоды и грибы, которых тут завались, по рассказам старожилов. Прошлый год так прямо будто бы в городских соснах собирали маслята в целлофановые мешочки, проходя домой с работы.
Осенью привезут они саженцы яблонь и вишен, а вдоль забора посадят всенепременные, непритязательные палочки тополей, а между ними кустики сирени и акации.
В октябре дружно, как бывало в деревне, собрав знакомых, нашинкуют артельно хрустящей капусты, со смородинным листом, с морковкой и антоновскими яблоками, проложив полукочешками, а может, еще отдельно и кадочку помидоров. На огурцы почему-то Шохов пока не рассчитывал. А вот бруснику замочить в сахаре он хотел...
Все у него сейчас исполнялось в мечтах, потому что семья приезжала. Да и вообще день был такой, состояние такое, что не могло что-то не выйти.
Из многих-многих дней, прожитых Шоховым в Вор-городке, когда случилось несчастье и нависла угроза уничтожения их поселка, когда девицы в гладких обтянутых джинсах шагали по его усадьбе с теодолитами, будто никого и ничего здесь не было; когда лежала перед ним прозрачненькая хрупкая калечка с перспективным планом города, когда наконец, отчаявшись в борьбе, ходили по домам и собирали коллективное письмо в Верховный Совет, он вспомнил почему-то этот самый счастливый день в его жизни: приезд семьи.
В тот день он был победителем, хозяином, и, как настоящий хозяин, с раскрытыми объятиями он принимал своих близких, своих родных людей...
Поезд на полном ходу вынырнул из-за поворота, мимо Шохова понеслись зеленые вагоны, он никак не мог разобрать номеров. Наконец увидел, испугался, что не там встал. Но поезд, притормаживая, продолжал двигаться, а когда остановился, то вагон номер шесть оказался прямо против Шохова. И в этом тоже он усмотрел везение, хоть долго не раздумывал, потому что сильно волновался.
Он смотрел на дверь, где неповоротливая проводница не спеша откидывала приступку, потом тряпочкой, тоже не спеша, стала вытирать поручни, а из-за ее спины виднелись лица пассажиров, но среди них не разглядел Шохов никого из своих. Перевел глаза чуть правее, на второе от края окно и обомлел: они смотрели на него. Вовка – приплюснувшись к самому стеклу – и еще какой-то подросток, чуть выше, а в самом верху Тамара Ивановна. Она делала какие-то знаки Шохову и смеялась. Вовка, указывая на отца, что-то ей сказал, задирая голову, и она кивнула, а потом указала пальцем на дверь, что могло означать: сейчас выйдем, или, наоборот, заходи, мы тебя ждем.
Растерянно и, наверное, глупо улыбаясь, Шохов рванулся к двери, но тут попер народ, сдерживаемый дотоле ленивой проводницей, и пришлось всех пережидать. Но, глядя вверх, Шохов теперь увидел Вовку с чемоданчиком и рюкзачком, принял его прямо на руки и так обнял, вместе с чемоданчиком и рюкзачком.
– Папка! Папка! – кричал Вовка, отбиваясь.– Иди скорей, там мама тебя ждет. А это Валерка, он тоже с нами!
Шохов оглянулся на Валерку, но не смог сообразить, кто он и почему с ними, да и времени не было на раздумье.
Он оставил детей на перроне и стал пролезать в вагон, потому что кто-то запоздавший еще выходил и они никак не могли разминуться. Наконец проскочил и увидел свою жену. Она тоже была с рюкзаком за спиной и с какой-то поклажей в руках. Она опять засмеялась, увидев Шохова, и первые ее слова были вовсе не о дороге, не о вещах, а о нем: «Какой же ты похуделый!» Так странно выразилась она и поцеловала его в щеку мягкими теплыми губами.
Он засуетился от смущения, схватил чемоданы:
– Эти?
– Да, это все,– произнесла она и пошла к выходу. Оборачиваясь, добавила, что остальное отослано контейнером. Они взяли только самое необходимое.
Шофер с газика, расторопный малый, помог донести вещи. Пока укладывались, усаживались сами, Вовка весь извертелся и успел задать тысячу вопросов. Большая ли станция, сколько поездов через нее проходит и есть ли здесь аэродром, и все в том же духе. Шохов коротко отвечал, но почему-то торопился, хотя теперь-то спешить было некуда. Но так уж вышло с самого начала, что они стали торопиться, а может, Тамара Ивановна, решив, что он торопится, сама взвинтила темп – и так пошло. Старший мальчик, Валера, Шохов теперь разглядел, что он и не мальчик, а юноша, молча им помогал и ни с какими разговорами не лез.
Приметив, что Шохов к нему приглядывается, Тамара Ивановна спросила:
– Узнал? Или нет? Ну, догадайся, ты же его видел!
Шохов опять посмотрел и не смог догадаться. Да и мысли его и настрой были сейчас не из тех, чтобы отгадывать загадки.
– Да Мурашка же,– с укором произнесла Тамара Ивановна.
– Мурашка? – переспросил Шохов.– Но как я мог запомнить, он же маленький был...
– Так он же на отца похож!
– А верно.– И Шохов отвернулся.
Дорогой говорили мало. Даже Вовка перестал сыпать вопросами и прилип к окну. И Валера тоже смотрел, только Тамара Ивановна сидела, откинувшись, и задумчиво глядела на Шохова, а когда встречалась с ним глазами, улыбалась, спокойно и устало.
Вот когда он понял и почувствовал, как она любит его и как она ждала и стремилась к нему, беспутному Шохову, который мог уехать и шастать в поисках того, что, может, и не бывает на свете, и даже вовсе забыть о ней. Все это она пережила и передумала, хоть не все могла знать. Но женщина же, она кое о чем и догадывалась.
Может, он и был виноват (да уж точно был), так в этот счастливый миг его жизни еще сильней из-за своей именно вины любил он свою Тамару Ивановну, уверенный наперед, что никогда ее не оставит.
Таковы были его странные, рассыпанные между другими мысли, когда он смотрел на жену, поспевая объяснять водителю, где и как свернуть к Вор-городку, да еще отвечая на Вовкины вопросы.
Валера сидел молча и ни о чем не спрашивал. Характером, видать, он тоже был в отца.
– А сколько тыщ населения в Новом городе? – теребил отца неистощимый Вовка.– А в Челнах знаешь сколько? Триста тыщ! И памятник поставили: птицу такую... Многоголовую!
– Не птицу, – поправила с улыбкой Тамара Ивановна.– Это «мать-родина» называется.
– Но у нее же птичий хвост! – настаивал Вовка.– А у вас памятники есть? А что есть? Кинотеатр есть? А какой он?
Шохов еще раз объяснил водителю, как проехать к Вальчику, а наверху попросил остановиться.
Много раз в своих мечтах воображал он, как привезет сюда, на Вальчик, семью и, указав в сторону Вор-городка, покажет: вон, самый большой дом – наш! В деталях представлял, но почему-то не верил. Боялся, до самой последней минуты, до того момента, пока телеграмму получил, но и тогда тоже не перестал бояться: вдруг да осечка, грипп, карантин и черт знает что. Вот когда увидел детские мордочки в стекле и смеющуюся Тамару Ивановну, тогда и понял, что свершилась его долгожданная мечта!
И с этого момента только начинается его жизнь, а все, что произошло раньше, было – как предыстория, которую лучше бы теперь забыть.



![Книга [Самая большая подводная лодка в мире] автора Андре-Марсель Адамек](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka-v-mire-196222.jpg)