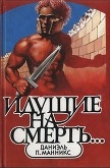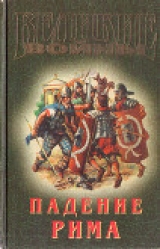
Текст книги "Падение Рима"
Автор книги: Аммиан Марцеллин
Соавторы: Приск Паннийский,Владимир Афиногенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)
Гонория почувствовала перемену в поведении самых близких ей людей – особенно Джамны, слегка затаилась и начала присматриваться. Нет, неспроста, пришла она к выводу, что чернокожая рабыня, как бы по-прежнему любя госпожу, стала много задавать вопросов относительно её поездки в Рим... И однажды, когда Джамна чересчур пристала к ней, Гонория повалила её на скамью, а рабу повелела принести медный таз и короткий меч.
Гонория обладала не только буйным нравом, но и силой, существенно выше той, которая присуща женщинам, а в момент, если принцесса ожесточалась, то могла запросто справиться со средним по мощи мужчиной. Джамна это хорошо знала, поэтому сразу перестала сопротивляться, ждала, что будет дальше...
Раб принёс медный таз и короткий меч, и тогда Гонория приступила к расспросу:
– Кто тебя, милушка, купил и велел всё у меня выспрашивать?
– Не покупал меня никто, госпожа... Позволь мне встать, я поклянусь Богом, и ты увидишь, что я говорю правду...
Гонория отпустила её; Джамна, такая же арианка, как и сама принцесса, поклялась Всевышним.
Но это ещё больше разозлило Гонорию.
– Святотатствуешь?! – вскричала она. – Раб, а ну попорти ей тёмное красивое личико...
Гонория стиснула ладонями голову Джамны, чтобы она не мотала ею из стороны в сторону. Ещё чуть-чуть, и раб, взявший в руки меч, действительно исполнил бы приказание своей повелительницы, и тут Джамна, не на шутку испугавшись, крикнула, что она всё расскажет...
Всхлипывая, она поведала, что, поклявшись, говорила правду – её никто не покупал, но расспросить Гонорию велел корникулярий Антоний; оба они родом из Александрии, в своё время, когда Антоний был ещё красивым мужчиной, он выкупил её из рабства, и Джамна долгое время жила у него в качестве любовницы. По натуре авантюрист, мечтавший иметь землю в Западной Африке, Антоний участвовал в походе вандалов против Римской империи. Попал в плен. Антония оскопили, и за сметливый ум оставили во дворце.
– Ты всё, что происходило на моей половине, сообщала Антонию?
– Не всё, госпожа...
– Негодница! Прогнать от себя – этого мало... Тебя надо зарезать, а кровь выпустить в медный таз.
Бедная рабыня приняла всерьёз угрозы принцессы, тем более что раб уже занёс над Джамной меч, повторяя:
– Прикажи, госпожа! Прикажи!
И тогда Джамна, повернув к Гонории в слезах лицо, взмолилась:
– Пощади.
Как ни была взбешена принцесса, но она увидела в её глазах кротость и обречённость и искренне пожалела рабыню, к тому же такую искусную на спальном ложе... И очень милую.
– Уходи, раб, – приказала Гонория. – И забирай всё, что принёс.
Затем принцесса усадила Джамну к себе на колени и, поглаживая по её вздрагивающей от рыданий спине, стала успокаивать. Наконец рабыня пришла в себя, тихо сказала:
– Прости меня, госпожа. Только тебе одной с этого дня буду служить. Только одной!
– Хорошо, я верю. А безбородому скажешь, чтобы он отстал от тебя, что я быстро передумала, потому как решила навестить мавзолей отца. Скажи, а хорош был на спальном ложе Антоний, когда росла у него борода?
– Очень хорош, госпожа... Тем более я любила его. Как ты своего Евгения.
– Думаешь, одну он любит меня?
– Ходят разные слухи.
– О них и я знаю... Ты мне только всю правду... Поняла?
– Но всей правды я не знаю, повелительница, – честно призналась Джамна.
– Ладно, оставь меня.
Отослав Джамну, Гонория с тяжким грузом на душе стала слоняться по царским покоям, затем наведалась к брату и застала его за любимым занятием – надуванием мыльных пузырей... Император делал это с удовольствием вместе со служанкой, к которой испытывал нежную привязанность. Но эта привязанность не походила на ту, которую испытывает мужчина к женщине, – скорее всего, она была сродни любви ребёнка к красивой игрушке... Или надуванию пузырей. В надувании их Валентиниан достиг огромных успехов. Он мог делать пузыри не только разных размеров, но помещать в них, не нарушая целостности, различные предметы. В этот раз в большом пузыре, который находился на маленьком столике, соприкасаясь с его поверхностью нижней частью, лежал отрубленный чей-то палец руки, и кровь, ещё капавшая с него, рубиново отблёскивала на мыльных изнутри стенках, затейливо искрясь в лучах солнца, только что проникших через узкие окна сумрачных императорских покоев.
Брата своего Гонория не видела несколько недель и отметила, что за это время он ещё больше побледнел и огрузнел. И дотоле его сырое, рыхлое тело не отличалось стройностью, но сейчас оно показалось даже полным, и волосы на голове Валентиниана заметно поредели... Только по-прежнему каким-то затаённым и болезненно углублённым в себя светом горели его тёмные глаза, как две капли воды похожие на материнские... «Может быть, и любит его Плацидия за эти глаза, раз так печётся за своего сынка...» – подумала Гонория.
Глядя на игру света и крови на мыльных стенках, император и служанка забавлялись вовсю и Гонорию не сразу заметили. А Гонория хотела спросить, у кого это они отрубили палец, да разве о таких пустяках спрашивают?.. Поэтому промолчала. Увидела лежащий на полу меч, на остром лезвии которого засохли уже потемневшие точечки, поняла, что сам Валентиниан отхватил у какого-то раба или рабыни этот злополучный палец, ненужным вопросом засевший в голове новоиспечённой Августы...
– Ты пришла, сестра, чтобы я поздравил тебя с титулом? – спросил брат.
– Если хочешь, поздравь... Но вижу, вы хорошо забавляетесь.
– Да, хорошо, – подтвердил слабоумный Валентиниан.
– Ты не видел Октавиана?
– Смотрителя и утешителя?.. Нет, не видел.
– Почему же утешителя? – При этом Гонория быстро отметила про себя, что так Евгения назвала недавно и Плацидия.
– А его так все во дворце зовут. Ведь он не только твой утешитель...
– Чей же ещё?
– А этого тебе говорить не велено.
Кровь жарко ударила в виски Гонории, и молодая Августа в гневе махнула рукой по мыльному пузырю, который выдувала служанка, и почти выбежала из покоев императора.
«Значит, есть основание верить слухам, о которых говорила Джамна и которые доходили до меня, но всякий раз я гнала их от себя прочь... Значит, Евгений принадлежит не только мне... Ну, погоди... смотритель!»
* * *
Для Джамны светлыми днями были дни, проведённые в Александрии в доме Ульпиана, после того, как Антоний выкупил её из рабства. Раз в неделю они смотрели на городской площади потешные представления. Наиболее интересные давали заезжие канатоходцы: они обладали каким-то особым бесстрашием и легко бегали на большой высоте по канату, скрученному из воловьих жил и протянутому между столбами. Иногда, глядя на канатоходцев, кружилась голова... Но Джамна любила смотреть на них, и сладостно щемило сердце, когда опытный актёр, чтобы пощекотать нервы публике, на середине каната изображая свою неуверенность, соскальзывая ногой, готовый вот-вот упасть, – но это был лишь хорошо продуманный трюк, и зрители знали, но всё равно дружный и радостный крик восклицания вырывался у них, когда канатоходец благополучно достигал столба.
Однажды на большую высоту взобрался юноша и начат бодро идти по канату, помогая себе длинным шестом, который он держал для равновесия в обеих руках. Уже пройдена середина, но вдруг шест заходил быстро вверх-вниз, юноша покачнулся... Некоторые зрители, ничего не подозревая и думая, что это очередной розыгрыш, даже засмеялись, но вот юноша делает ещё один шаг, пятка передней ноги у него соскальзывает, шест летит вниз, а следом за ним и он сам.
Крики ужаса теперь огласили площадь: юношу унесли с разбитой окровавленной головой в крытую повозку, где молодой человек вскоре скончался.
Своё пребывание во дворце Джамна не раз сравнивала с работой тех, кто на большой высоте ходит по канату, рискуя жизнью. И жизнь в императорских покоях тоже постоянно подвергалась опасности: одно неверное движение, одно необдуманно произнесённое слово, и ты летишь вниз и разбиваешься насмерть, как тот несчастный юноша.
Теперь перед девушкой неотступно встал жёсткий вопрос: как быть? Она дала слово Гонории – верно ей служить, и не только готова, но и на самом дате сдержит это слово; Гонория нравилась Джамне... Несмотря на вспыльчивый и даже жестокий нрав, у молодой Августы в груди билось доброе сердце, и эта доброта заключалась и в том, что она полюбила такого вообще-то скверного, хотя и красивого человека, каким являлся Евгений... К тому же он был сластолюбец.
Корда Гонория, уставшая от любовных утех, крепко засыпала, Евгений с Джамной проделывал то, что наверняка бы не понравилось молодой Августе... Но и у Джамны его действия, которые не иначе как извращениями нельзя было назвать, вызывали неприятие... И раньше они также не нравились Джамне, когда к этому принуждал её до кастрации Антоний; но тогда девушка и не подозревала, что какие-то излишества в половом соитии можно было назвать извращениями, ибо до принятия христианства сие считалось вполне нормальным – пробовать ли языком на вкус семя любимого или любимой, ласкать ли губами чувствительные части тела, не говоря уже о различных позах, коими изобиловали у язычников эти самые соития... Только с распространением христианства начала меняться философия интимных отношений между мужчиной и женщиной, хотя и ранее существовали понятия любви и нежности... И если мужчина-язычник брал женщину как обыкновенное животное, то именовалось всё это низменной страстью... Вот почему Джамна так реагировала на «ласки» возлюбленного Гонории и ненавидела его, который проделывать подобное ни за что бы не посмел с молодой Августой... В душе Евгений был трусом; чернокожая рабыня знала об этом, знала Плацидия, знал и проницательный Антоний...
Лишь Гонория, ослеплённая своею любовью, ничего не ведала и ведать не хотела, хотя внутреннее чувство подсказало ей заподозрить Евгения в измене. У Гонории было много хороших душевных качеств (доброту её мы уже отметили), которые она не успела растерять, находясь в императорском дворце, так как мало с кем общалась... А потом, она унаследовала черты характера своего отца, присущие иллирийцам вообще и выраженные в грубой форме, но не могущие не вызвать симпатий, а именно: прямота, честность, смелость, решительность и благородство. Поэтому Гонория представляла смесь дикой кошки с благородной ланью, за всё это и любила рабыня свою госпожу. И в душевном отчаянии и смятении наряду с вопросом: «Как быть?» Джамна задавала себе и другой: «А что теперь делать мне? Тут ведь главное не ошибиться, не поскользнуться, как малоопытный юноша на канате... Не упасть и не ушибиться... Я должна быть предана Гонории, – рассуждала далее Джамна, – я дала ей слово, я уже шпионить в пользу евнуха не смогу... А если буду вести двойную игру, то проницательный Антоний сразу её распознает... Я хорошо знаю себя и хорошо знаю Антония... Он всегда был змеем... А тем более сейчас, когда ему приходится незримой тенью проникать во множество дверей царского дворца и из этого множества в определённый момент угадывать нужную... После кастрации он всё же изменился не только внешне, что вполне естественно, но и внутренне. Когда он был настоящим мужчиной, ради красивой женщины шёл на всё: щедрой рукой раздавал подарки, чтобы завоевать её. Сейчас во дворце вряд ли можно отыскать человека жаднее его... И от благородства, которое присутствовало в его душе, не осталось и следа. А место его прочно заняли злобство, коварство и жестокость. Ради своей цели он не пожалеет никого, ибо такое чувство, как жалость, ему теперь неведомо...»
И, пожалуй. Джамна принимает верное в её положении решение – рассказать Ульпиану обо всём том, что приключилось с ней в покоях молодой Августы и под каким нажимом Джамна вынуждена была признаться и дать слово верно служить своей госпоже...
После этого сообщения евнух долго молчал. Рыхлое, полное лицо его в нескольких местах дёргали нервные тики, глаза затуманились бешенством, но Антоний взял себя в руки и сказал:
– Джамна, я ведь когда-то любил тебя... И душой, и телом... Телом теперь я любить не могу, но душой продолжаю любить.
Эти слова он произнёс, как показалось Джамне, так искренне, что у неё на глаза навернулись слёзы, и ещё это были слёзы воспоминаний о давно ушедшем, милом, ставшем призрачным прошлым...
Джамна обняла евнуха, поцеловала его и лишь тихо вздохнула.
Угадав её состояние, хитрый змей произнёс:
– Джамна, золотко моё, иди... А я хочу побыть один.
Теперь он знал, что она без всякой на то его просьбы прибежит снова к нему и выложит всё, что никогда бы не выложила, если бы он стал умолять её об этом, а тем более угрожать... И хорошо, что он сдержался и не проявил по отношению к ней жестокость и силу. Потом бы он мог, конечно, и убить!
А Джамна, уверенная, что Антоний всё-таки, любя, пожалел её, успокоенная, почти счастливая, прибежала к Гонории и ещё раз, дурочка, заверила молодую Августу служить ей преданно до самого гроба... Она всё верно сказала – «до самого гроба», ибо, будучи теперь арианкой, её после смерти обязательно похоронят в нём, забросав землёю, а не сожгут на погребальном костре, как верующих в Хроноса, Посейдона или бога Митру, храмы которых, несмотря на строгий эдикт императоров Гонория и Феодосия II, ещё стоят незыблемо в Александрии – родине Джамны. Этот город знаменит и своей библиотекой, содержащей 700 тысяч книг, и, наконец, громадным мавзолеем Сома, где в массивном золотом саркофаге, помещённом в другой, стеклянный, почивал Александр Македонский – сам почти как Бог, который взвесил в своих ладонях жизнь и смерть и узнал, что они имели иной вес, чем обычно...
Александрия – это город Птолемеев; каждый царь династии воздвигнул здесь дворцы и поставил статуи, посадил боскеты из акаций и диких смоковниц и вырыл бассейны, где цвели на воде кувшинки и голубые лотосы.
В течение многих веков здесь образовалось и множество колоний; отвернув края занавески носилок, в которых доставляли Антония Ульпиана и Джамну на форум, где стоял храм Митры (до принятия арианства они поклонялись, как и многие в Александрии, этому богу), можно было увидеть разношёрстную, шумную толпу греков, евреев, сирийцев, персов, иллирийцев, италиотов, финикян: говоря на разных языках и поклоняясь богам разных религий, иностранцы по своему количеству не уступали туземцам.
Мать Джамны в качестве рабыни привезли сюда из Галилеи, и здесь она родила дочь от нумидийца. Мать Джамны молилась Яхве, но она не успела приобщить дочь к своей вере, а отец, поклонявшийся Митре и покинувший белый свет позже, – успел... Но сердце Джамны перекачивало кровь, смешанную наполовину с кровью ветхозаветного народа, и, может быть, поэтому Джамна, став взрослой, легко и непринуждённо пришла к пониманию другого религиозного учения – арианства, избравшего, как и иудейство, единобожие...
Став арианкой, девушка также чувствовала себя хорошо, как и прежде, посещая храм Митры... Джамна до сих пор помнит этот храм, изящный, отделанный паросским мрамором, и жрецов, произносящих слова, обращённые к божеству. И эти слова были поистине замечательны, ибо менее туманные и таинственные, чем говорившиеся в других храмах, они, приспособленные также и к отдельному человеку и данным обстоятельствам, быстрее доходили до сердца... А когда, к тому же, говорил посвящённый в степень «бегунов солнца» с золотой короной на голове жрец Пентуэр, то народ валил валом в помещение храма Митры, чтобы его послушать. Да ещё этот жрец являлся и главным лекарем в Александрии, бесплатно раздающим больным беднякам лекарство.
Как врачеватель, Пентуэр не делал различий среди больных, но ему не нравилось это поистине вавилонское смешение народов не только в Александрии, но и других городах, подвластных Империи ромеев[18]18
Так называли после разделения в 395 году Римской империи её Восточную часть (Византию).
[Закрыть] и Риму, которое, по мнению посвящённого жреца, отрицательно влияло на древнюю цивилизацию.
А сейчас как на дрожжах уже восходит религия Иисуса Христа; и ей суждено, по предложению умного Пентуэра, завоевать сердца многих народов. Человечество должно было избрать в конце концов для себя единую веру, пропитанную высоконравственностью, ибо давно оно погрязло в алчности и разврате, словно в трясине, – и ещё век-другой, и эта болотная жижа поглотит его с головой...
Но уже строились христианские базилики, две такие воздвигнуты у ворот Канопа и Некрополя в Александрии, и, когда Пентуэру представилась возможность перевестись в Рим, где поспокойнее и где ещё чтут Митру в отличие от таких богинь, как Изида и Венера, он не раздумывая перевёлся туда.
Вот почему Джамна обрадовалась, когда узнала, что молодая Августа по настоянию матери должна поехать в Рим, – значит, ей, Джамне, бывшей поклоннице Митры, предстоит встреча с Пентуэром, которого она не только почитала, но и любила за чистосердечие и доброе отношение к ней, как к дочери... И к Ульпиану посвящённый жрец питал такие же отеческие чувства. Только помнит ли Антоний Пентуэра?.. И как жрец Митры отнесётся к Антонию в его новом качестве?..
Такие мысли сильно стали занимать Джамну, и она, не выдержав, снова нашла Ульпиана и поведала ему обо всём. Но не это сейчас беспокоило евнуха, да и какое дело ему, царскому помощнику, до стареющего жреца бога Митры, того бога, который тоже уходит из людского сознания в область забвения?..
Реакция Ульпиана огорчила служанку, но по прошествии некоторого времени он сам уже захотел встретиться с бывшей возлюбленной и долго расспрашивал о Пентуэре... Теперь же Джамне надлежало не огорчаться, а удивляться. У евнуха на счёт жрицы храма Митры в Риме появился, как говорится, свой интерес.
* * *
Уже несколько дней Галлу Плацидию мучили жестокие голодные боли: снова обострилась болезнь, которая приключилась с ней после убийства в Барцелоне мужа – вестготского короля Атаульфа. Тогда разом навалились на молодую королеву все беды – и недавняя смерть первенца Феодосия, и гибель мужа, и умерщвление шестерых его детей от первого брака. Но явной причиной болезни Плацидии явилась всё же «прогулка» босиком с непокрытой головой под нещадно палящими лучами испанского солнца.
Плацидия прошагала тогда, изгнанная из Барцелоны убийцей её мужа Сингерихом, более двенадцати римских миль, а победитель ехал рядом на коне и издевался над нею. Вот и ударило королеве в голову, и она, ставшая по вине этого надменного варвара пленницей, упала в конце своего скорбного пути и потеряла сознание.
Потом лучшие врачи Рима лечили её, но не вылечили, а лишь загнали внутрь болезнь, которая время от времени давала о себе знать... И всегда она обострялась в самые критические моменты правления: теперь вот, накануне поездки в Рим, и когда снова в сенате против матери-императрицы и её сына плетёт заговор опасный их враг Петроний Максим... Да только бы один Петроний! Стоит только Плацидии отойти на какое-то время от государственных дел, как тут же головы дружно поднимают и другие... Они" давно хотят провести через сенат закон о запрещении регентства как таковой, и тогда вся эта свора сразу накинулась бы на бедного Валентиниана, который и так обижен природой, отчего матери жалко его до острой боли в сердце... Плацидия знает, что сенат (по крайней мере, нижняя его часть, состоящая из популяров), настаивал бы на передаче власти наследнику её дочери (если бы таковой имелся) или тому же Максиму, пользующемуся непререкаемым авторитетом не только у народных трибунов, но и оптиматов.
Плацидия вскоре разобралась, почему так легко удалось уговорить патрициев и популяров, тяжёлых на подъём, о выезде всего императорского двора в Рим и проведении триумфального шествия войск Аэция по Марсову полю. В сенате тоже рассчитывают на дружбу с прославленным полководцем, у которого в руках находится реальная сила в виде хорошо обученных и вооружённых легионов. Поэтому Петроний настроил настоящих последователей веры Иисуса, которых сейчас в сенате большинство, на то, чтобы вынесенное Плацидией предложение прошло. С одной стороны, они шли ей как бы навстречу, а с другой – отстаивали только свои интересы, тем более что интересы эти совпали. Но обе стороны знали, что это лишь случайное совпадение, ибо взгляды и нормы поведения их в корне различны. Императорская семейка, исповедовавшая арианство, недалеко ушла от язычества, поэтому во дворце процветали разврат, угодничество, казнокрадство, взяточничество... И как ни странно, но именно пороки – человеческие и государственные – и позволяли Плацидии удерживать власть – регентша-императрица, как кормчий на полузатопленном корабле, коим стала теперь Великая Римская империя, с помощью этих пороков, служащих вёслами, и продвигает его вперёд. Галла Плацидия уяснила для себя одну истину, что посредством пороков легче править разваливающимся государством, нежели посредством всяких достоинств... Хотя дело и безнадёжное, но в сложившейся ситуации (и в этом Плацидии надо отдать должное) она умело указывала, как веслать, чтобы ещё как-то оставаться на плаву. А матросы – её приближённые, находясь с ней рядом на борту, тоже хорошо усвоили, что если потонет судно, то потонут и они, поэтому из последних сил сражались с бурными волнами вместе со своим капитаном и пойдут на всё, чтобы отдалить от себя неминуемую гибель...
Ужасная боль снова пронзила виски Плацидии и отдалась в правую часть затылка. Императрица откинулась и застонала. Антоний, оказавшийся здесь, попросил одного из её слуг, более могучего, чем остальные, грека, подать ему лёд. Ульпиан сменил на голове императрицы повязку, и тут вошёл вместе с лекарем Евгений.
Пока врачеватель колдовал над больной, царский помощник спросил смотрителя дворца:
– Ничего нового не узнал?
Евгений сразу смекнул, что имеет в виду хитрый евнух... Но ответил, как бы ничего не понимая:
– Узнал... – и увидел, как насторожился корникулярий, вернее, насторожились его глаза, превратившиеся из серых в тёмные. Но продолжал говорить, как ни в чём не бывало: – В сенате снова поднимался вопрос о полномочиях нашей повелительницы... Петроний Максим ссылается на её повторяющуюся болезнь... Но, слава Богу, среди оптиматов есть разумные люди, и его пока не поддерживают.
– Об этом, Октавиан, я уже знаю. Я ведь спрашиваю тебя о другом... – И, узрив по лицу Евгения, что тот больше ничего не скажет, снова спросил: – А в какого Бога ты веруешь, препозит?
– Как в какого?! – удивился смотритель. – Как и ты, наша повелительница, император Валентиниан, молодая Августа – в Вездесущего Зиждителя нашего. Разве не так?..
– Да, так. Но всегда ли ты верил в него?
– Всегда.
– А я, представь, – нет... В Александрии вместе с Джамной я поклонялся богу Митре, хотя мать у Джамны была иудейкой...
– Мать-иудейка у этой чернокожей рабыни?!
– Ну, положим, что у этой рабыни не чёрная кожа, и тебе это хорошо ведомо... А Джамну я не только знал, но и состоял с ней в интимных отношениях. Мать у неё – еврейка, она рано умерла, а отец – нумидиец из Африки, покинул сей белый свет, когда дочери едва исполнилось двенадцать лет... С этого возраста я и знаю Джамну. Тогда я был здоровым и привлекательным мужчиной...
– Вот так новость! – воскликнул смотритель дворца.
– Да, новость... А поделился я с тобой ею, так как нам вместе спасать свою госпожу. Без неё погибнем и мы... Поэтому мы должны быть откровенными между собой, – упрекнул евнух препозита.
«Ишь ты, об откровенности заговорил... Только где она была раньше, эта твоя откровенность?! Помнится, как ты старался заводить против меня всякие интрижки... Верны твои слова о том, что без своей госпожи погибнем и мы... И следовало бы нам быть откровенными друг с другом, но откровенничать с тобой, кастрат, всё же погожу...» – быстро промелькнуло в голове Евгения.
Плацидия простонала снова. Октавиан взглянул на императрицу, не в силах более видеть её искажённое болью лицо, вышел, а корникулярий положил на плечо лекаря руку. Тот поднял склонённую над больной лысеющую голову:
– Тс-с... Августа засыпает. Но, думаю, сон у неё будет непродолжительным. Чтобы облегчить её страдания, я рекомендую ей эруку.
– Эруку?.. Сколько я нахожусь во дворце, столько и помню, что императрица постоянно употребляет её... – сказал Антоний.
– Ничего не поделаешь. Ибо эрука не только возбуждающее средство, но и болеутоляющее.
Через какое-то время ушёл и лекарь. Антоний поближе подсел к спящей императрице и стал изучать каждую чёрточку на её лбу, щеках, шее, подбородке, вокруг рта и глаз. Августа, несмотря на уже немолодые годы, выглядела и сейчас очаровательно в своей беспомощности; сон расслабил все члены, и она походила на взрослое дитя, – Ульпиан даже пожалел её... Ведь у Плацидии, как и у него самого, во дворце нет друзей, есть только сомышленники и подельники, знающие, что они живы до тех пор, пока жива их госпожа. Поэтому алчут золота, драгоценностей, приобретают на южном побережье Италии виллы, заводят свой штат обслуги, далее покупают корабли и берут для охраны надёжных славянских наёмников; но спасут ли они их, когда поменяется власть или когда хвалёная Римская империя окончательно улетит в Тартар. Туда, ей, конечно, дорога, ибо эта империя в целях выживания и укрепления себя пролила реки и моря крови разных народов. Одних она уничтожила совсем, и от их пусть малой, но цивилизации не осталось и следа, а других заставила, как затравленную охотником дичь, рыскать повсюду в поисках безопасности и куска насущного хлеба. Поначалу таким народом был израильский, потом империя с невероятной жестокостью стала истреблять христиан; добралась она и до африканских, галльских и средиземноморских колоний, но времена меняются, уже вера Христа завоевала сердца и самих римлян, малые народы и колонии перестали безропотно подчиняться издыхающему зверю и меньше теперь кормят его, и он, полуголодный, очумевший, способен лишь огрызаться. Не более того. И какая жуткая доля уготована тому, кто по воле судьбы должен ещё управлять этим полудохлым огромным чудовищем!.. И вот одна из таких несчастных, лежащая недвижимо, сама больная, тоже почти умирающая...
Но, жалея императрицу, Антоний жалел и себя, и одну женщину, ещё любимую где-то в глубоких тайниках его души, – Джамну. А молодую Августу тоже бы надо пожалеть?.. Но какое дело ему, Антонию Ульпиану, евнуху, до этой безумной вакханки, которая не знает, что делает... Душа её пока отзывается на доброту и любовь. Но лишь пока. Эти чувства нужны только ей; в деле управления государством они вредны... Хотя молодой Августе никогда не сидеть на троне, да и женщина, лежащая перед Антонием, покуда она дышит, не допустит того, чтобы дочь вышла замуж и родила... Гонории давно уготована незримая тюрьма, и она уже сама поняла это... Несчастных жалеют, но не всегда помогают им. Помогать же Гонории не в интересах Антония, а в его интересах верно служить Галле Плацидии.
Лекарь оказался прав – императрица проснулась и пристально теперь взирала на задумавшегося Ульпиана. Боли утихли, лишь тупо ныло в затылке. И императрица сейчас внимательно могла изучать то, что отражалось на одутловатом лице Антония. Друг он её или враг?.. Нет, не враг: он предан ей и ни разу не дал повода усомниться в этом.
– Антоний, я, кажется, видела здесь Евгения и лекаря? Но, может быть, они явились мне в бреду или во сне?
– Нет, величайшая, они были наяву у твоего ложа. Евгений, взирая на тебя, почему-то поспешно удалился, а лекарь, снова порекомендовав принимать эруку, тоже покинул твой кубикул.
– А почему остался ты?
– Я думал, моя госпожа... О твоей несчастной судьбе.
– Ты считаешь, что моя судьба несчастна?
– По крайней мере, что она счастливая, я сказать не могу... Так же, как и сказать о своей.
– Да, тебе не повезло... Когда из Африки Аэций привёз пленных, ты и Джамна мне понравились: тебя я оставила при себе евнухом, а Джамну отдала в услужение к дочери. Я ведаю о тебе многое, вижу, что хорошо служишь, и никому о твоей прошлой жизни не рассказываю.
– Благодарю, благочестивая Августа.
– Ты назвал меня благочестивой. И думаешь, польстил мне?.. Нет. Благочестие в моём положении, как на шее камень, который потянет сразу на дно... Лекарь говорил об эруке... Прикажи подать её. А потом ты, Ульпиан, можешь присутствовать при моём соитии с этими силачами и смотреть, как я стану управляться с ними...
– Нет, госпожа... Когда-то и я управлялся одновременно не с двумя, а с большим количеством женщин... Так что ничего нового не увижу... Желаю, повелительница, чтобы болезнь твоя совсем от тебя отступилась, а её место заняла вечно юная страсть к любовным утехам... И позволь мне удалиться.
Но вспомнил, уже подходя к двери, о разговоре с Евгением, в котором препозит продемонстрировал явное неоткровение. Сказал об этом императрице и далее добавил:
– Мне недавно передали, величайшая, что пираты Сардинии перехватили несколько наших судов с хлебом, шедших из Сицилии и, чтобы досадить Риму и тебе, госпожа, потопили их вместе с зерном. Во многих городах Италии цена одного модия зерна с недавних пятидесяти денариев поднялась до семидесяти и более. Мы уже выслали из Равенны очередную партию философов, писателей и поэтов, ненужных нам, но потребляющих хлеб, который мы распределяем по крохам. Только эти меры вряд ли что изменят... Одобренное в сенате предложение послать часть флота, расположенного в Мизене, на борьбу с пиратами как раз было бы кстати... При разговоре с Октавианом я чётко уяснил для себя, что ничего от молодой Августы он узнать не сумеет... Видно, мозги его нуждаются в проветривании, чтобы лучше соображали. А вот и моё предложение – вместе с главнокомандующим мизенским флотом Корнелием Флавием на разгром сардинских пиратов послать и Октавиана.
Плацидия приподнялась с ложа; опершись на локоть, слегка призадумалась. Да, в последнее время она узрила перемену в поведении Евгения, не говорящую в его пользу, и уловила по отношению к себе отчуждённость, хотя и хорошо скрытую, но опытную женщину не обманешь... И какое-то непонимание всё больше возникало между ней и препозитом, когда они оставались наедине.
«Действительно, пусть проветрит мозги...» – решила императрица.
– Хорошо, Ульпиан... Готовь указ, я подпишу его.