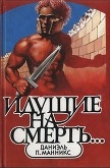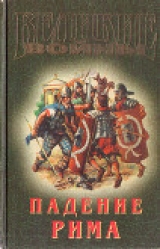
Текст книги "Падение Рима"
Автор книги: Аммиан Марцеллин
Соавторы: Приск Паннийский,Владимир Афиногенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
– На, тоже надень и твори молитву своему богу Митре, а я помолюсь Изиде... О несравненная, о великая богиня Изида, дочь неба и земли, ты, которая вместе со звёздами делаешь ночи радостными, сделай так, чтобы и моя смерть стала для меня лёгкой и радостной... О прекрасная Изида, прими меня в свои объятия и отнеси меня в твои зелёные сады по ту сторону жизни...
Закончила молиться и Техенна.
Кальвисий поцеловал только что надетое на шею изображение скарабея, близко поднёс его к глазам и громко начал читать надпись на камне, кстати, касающуюся и той, которая тоже готова была умереть...
– Наши сердца, полученные нами от матери и которые были у нас, когда мы пребывали на земле, – о наши сердца, не восстаньте против нас и не дайте злого свидетельства о нас в день суда!
Кальвисий и Техенна, обнажённые, приблизились к мраморной ванне, в которой голубела вода. Они ступили в неё и легли рядом, тесно прижавшись друг к другу. Кальвисий взял руку наречённой жены, заглянул в глаза, хотел что-то спросить, но раздумал. увидев в зрачках уже отражение Другого мира; ливийка как бы видела его, Кальвисия, и не видела, она уже была на другом конце жизни, находясь на границе со смертью; Техенна уже чувствовала дыхание последнего мига, отделяющего день от ночи, свет от мрака, лишь только лезвие коснётся сейчас места сгиба локтя и – всё... Нож перерезал вену, и кровь толчками полилась из неё, окрашивая голубую воду... Техенна закрыла глаза, опершись затылком о мраморное ребро ванны, и замерла. И Кальвисий скоро увидел на её побелевших губах улыбку...
Тогда он сам быстрым движением полоснул ножом вначале на одном сгибе, затем на другом и прошептал:
– Рутилий, сынок, ты, когда узнаешь обо всём, простишь меня. Ради тебя я делаю это... Ради тебя...
А душа Рутилия, может быть, в это время смотрела на Кальвисия с небесной высоты и плакала, удивляясь неосведомлённости своего отца, который обращался к нему как к живому...
IIIИзвестие о самоубийстве бывшего сенатора застало евнуха за чтением послания из Южной Галлии от легата Литория, в котором он сообщал, что Аэций благодарил императрицу за предоставленную ему возможность съездить в Паннонию в лагерь гуннов, где воспитывался его сын. Далее Литорий испрашивал у Плацидии позволение напасть на Толосу, так как воля короля вестготов сломлена страшной вестью о несчастье, происшедшей с его старшей дочерью – король вандалов Гензерих, заподозрив невестку в попытке своего отравления, отрезал ей уши и нос и отправил к отцу...
Антоний начал размышлять, как лучше изложить императрице просьбу Литория, чтобы она удовлетворила её. Евнух стоял на стороне легата, потому что ненавидел Аэция. Собственно, причин как таковых, чтобы ненавидеть полководца у корникулярия не было, просто люди, к которым питала Плацидия всего лишь благосклонные чувства, сразу становились в ряд неугодных Ульпиану.
Сие обстоятельство объяснялось не только ревностью или завистью, но и политическими соображениями. «Разделяй и властвуй!» – эту фразу приписывают одному монарху, правящему намного позже описываемых нами событий, но такое правило, возведённое в догму, негласно существовало уже с того времени, когда стали выделяться свои «монархи» в виде всяких вождей племён...
Подобную мысль и постарается евнух изложить Плацидии, чтобы она поняла, что усиление одного только полководца Аэция в Южной Галлии недопустимо, ибо он опасен ещё и тем, что издавна водит дружбу с гуннами... А Плацидия должна помнить то шестидесятитысячное войско дикарей, которое он привёл в Италию после размолвки с Бонифацием...
А взятие Толосы укрепит славу Литория, уже однажды отличившегося при штурме Нарбонны, и потеснит безоговорочный авторитет «последнего великого римлянина»... Двумя же выдающимися полководцами управлять легче, поощряя то одного, то другого, щекоча по очереди их самолюбие и потихоньку натравливая друг на друга.
Когда это изложил корникулярий Плацидии, то она согласилась со всеми доводами, но тут же спросила:
– А не противоречит ли сказанному тобой нами задуманное триумфальное шествие Аэция по Марсову полю? Мы как бы этим поощряем только его возвышение...
– Так это и входит, владычица, в правило твоего управления. Возвышай одного и пользуйся сама плодами сего возвышения, а в следующий раз возвысим другого...
– И то верно... Вот тебе записка, можешь взять у казначея в моём фиске столько золота, сколько прописано здесь...
– Благодарю, несравненная!
– Но не поощряю ли я тебя, Антоний, раньше времени? Ведь о Гонории всё ещё пока не слыхать?..
– Не только слыхать, но и запах её следа уже чуем. Скоро она, голубка, предстанет перед твои приветливые очи...
– Я её, мерзавку, очень хорошо привечу! А о нашем препозите нет никаких известий?
– Хлебный караван из Сицилии, слава Всевышнему, благополучно пришёл; уже из гавани Остии в устье Тибра отправились в Рим первые барки с зерном, но среди кораблей, охранявших караван в Тирренском море, миопароны Рутилия нет, значит, она в составе мизенского флота ушла на разгром главной базы пиратов в Сардинии. А Евгений находится на палубе этого судна... Сражение с пиратами произошло, но полных сведений пока не поступало. Как поступят, сразу доложу твоей милости.
Врал корникулярий – вырвавшиеся лёгкие суда из окружения пришли в свой порт, но пока евнух не хотел огорчать императрицу известием о гибели почти всего мизенского флота, пусть об этом ей скажут в сенате... У него хватает своих дел, связанных с поимкой Гонории.
Антоний понял, что с бывшим сенатором Кальвисием Туллом допустил оплошность: зачем надобно было пугать его?.. Зачем сказал, что и рабынь подвергнет пыткам?.. В результате одна из них вместе с ним приняла добровольно смерть, а другие, получив «вольные», исчезли, о чём не замедлил сказать помощник бывшего сенатора, стоило его слегка припугнуть.
Правда, двух рабынь удалось изловить, но как ни бились палачи, как ни пытали их, они так и не смогли ничего выведать. Значит, на самом деле Кальвисий не посвятил в свои тайны служанок...
Евнух догадывался, что бывший сенатор наложил на себя руки не из боязни пыток, а чтобы тень изменника не легла бы на его сына. И если Антоний начнёт донимать вопросами в Риме Клавдия, то и этот упрямец сделает то же самое, что и его друг. Эти патриции старой закалки ещё дорожат не только своей честью, но и честью наследников... Поэтому не лучше ли усилить скрытое наблюдение за домом Октавиана-старшего, хотя оно ведётся уже и так хорошо.
«Но пока никаких результатов... Куда он мог спрятать Гонорию, раба и Джамну. Джамна... Бывшая поклонница бога Миры... Может быть, Клавдий тут ни при чём? В Риме сейчас служит жрец из Александрии Пентуэр, которого хорошо знает Джамна, и она ведь могла обратиться к нему за помощью? Могла... И тот, я уверен, ей не откажет... Но даже если и спрятал жрец беглецов, то он их ни за что не выдаст, хоть жарь его на костре... Он, посвящённый в мистерии богу Митре и осенённый великой тайной, никогда не пойдёт на предательство... «Единственный выход в этом видится мне – устроить наблюдение и за Пентуэром, и за всеми митреумами, со жрецами которых он встречается...» – опять новое решение принял корникулярий.
* * *
Клавдий, когда оставался без гостей, то к обеденному столу в качестве жены по правую руку приглашал свою распорядительницу. Если жена со временем начинает предъявлять мужу разного рода претензии, то любовница всегда чувствует грань дозволенного, за которую, она хорошо знает, переступать нельзя, и поэтому между хозяином и такой женщиной всё ладилось...
Октавиан-старший любил возлежать на ложе у стола, возле высоких бронзовых канделябров, высотою в три локтя, стоящих на полу рядом с подсвечником, изображающим голого мальчика. Обычно с распорядительницей он обсуждал за едою хозяйственные дела – о заготовке продуктов, поведении рабов и рабынь да и разных домашних мелочах.
– Сегодня решили отключить тёплый воздух в гипокаустерии[69]69
Г и п о к а у с т е р и й – подвальное помещение, откуда нагретый воздух по трубам поступал в жилую часть римского дома.
[Закрыть]...
– Так давно бы пора! На улице уже жарко.
– Но раб, – продолжала распорядительница, – очень боится крыс. Пришлось мне самой с ним спускаться в подвал.
– Надеюсь, вы там недолго пробыли? – хитро сощурил глаза хозяин.
– Как отключили, так и поднялись, – не поняла подвоха распорядительница. Потом только до неё дошло: – Клавдий, типун тебе на язык...
– Смотри! Если заподозрю – сразу выгоню...
– Уж который год подозреваешь...
– Наверное, умеешь хорошо заметать следы.
– А вот ты не умеешь!.. Вчера рабыня-массажистка тебе должна была спину помять, а говорят, что ты ей намял!
– Будет тебе всякого и всякую слушать...
– Если бы слушала, то без конца слёзы проливала.
Слуги убрали стол и подали другой[70]70
Обычная практика древних римлян во время принятия пищи.
[Закрыть]. На нём уже находились любимые на десерт кушанья хозяина – жареные раки, африканские улитки, венункульский изюм, хорошо засушенный в дыму, и массикское вино. Клавдий к нему ещё придумал подавать кидонские яблоки[71]71
Кидонские яблоки – айва. К и д о н и я – город на Крите.
[Закрыть].
Он взял стеклянный фиал с вином и посмотрел его на свет:
– Это вино хорошо ставить под чистое небо ночью, прохладный воздух очистит его и мутность отнимет.
– Клавдий, оно и так чисто играет.
– Мне Кальвисий говорил, что, к примеру, в суррентское вино стоит только голубиное яйцо выпустить – вскоре мутность его яичный желток оттянет на днище... Интересно, что мой друг сейчас в Равенне поделывает?.. Наверное, как всегда, со служанками забавляется...
(Да невдомёк было Клавдию, что прах его друга Кальвисия уже замурован в гробнице, заготовленной им загодя, ещё при жизни).
– Сегодня с утра я закупила на Тукской[72]72
Т у к с к а я у л и ц а – торговый центр Рима вблизи-Форума. Сам древний Форум находился на юго-западном склоне Капитолийского холма.
[Закрыть] старого фалернского вина с молодым мёдом три модия, греческого хиосского урну и вейского[73]73
Кислое вино худшего сорта.
[Закрыть] для рабов три урны. Начали грузить в повозку – она приедет ночью, и тут я увидела мужчину, который внимательно наблюдал за нами... Взгляды наши встретились, лицо у него сразу переменилось, и ничего лучшего он более не придумал, как чесать по-бабьи голову[74]74
Жест, по которому узнавали мужеложцев.
[Закрыть], но этот жест мне показался нарочитым, хотя он и стал затем показывать на нашего раба-гиганта Асклепия...
А позавчера другая рабыня тоже видела, как кто-то прятался за каштановым деревом, наблюдая за нашим домом... – распорядительница оглянулась и, убедившись, что поблизости никого нет, добавила: – Клавдий, уж не Гонорию ли ищут?..
– По всем правилам её уже должны были давно искать...
– Значит, тайные сыщики до Рима добрались.
– Выходят, так... Будь осторожна и язык держи за зубами.
– Мог бы и не предупреждать.
– Это я на всякий случай, любовь моя... Скажи, а на раба-гиганта можно положиться?
– Что ты имеешь в виду?
– Можно в случае чего даже посвятить его в нашу с тобой тайну?.. Надёжный он человек?
– Вполне.
– Хорошо... После обеда пришли его в мой таблиц... Хотя, любовь моя, пойдём в мои покои, отдохнём пока...
После любовных утех Клавдий сразу заснул: всё-таки шестьдесят лет – это не двадцать и даже не сорок... Но силёнки у Октавиана старшего ещё имелись. Проспав часа полтора, он разбудил распорядительницу, которую тоже сморил сон, и сказал, чтобы она нашла Асклепия.
– А потом покажешь ему, за каким деревом прятался человек, которого видела рабыня.
Через какое-то время в таблин к хозяину вошёл раб, росту в нём было семь футов[75]75
Почти 2 м 16 см.
[Закрыть]. Клавдий Асклепия ещё не успел хорошо узнать, распорядительница купила его совсем недавно. В доме нужен был такой гигант для тяжёлых работ.
– Ты родом откуда? – спросил его Клавдий.
– Из Корсики.
– Был я там однажды. Скажу – прескверное место! Болота... Комары... Дикие нравы. С Сардинии южным ветром занесло туда травку. Помню, нашёл пучок между камней, сорвал былинку, растёр, понюхал и... захохотал. Сардоническая травка... Говорят, император Калигула её нюхал; однажды так нанюхался, что своего жеребца захотел ввести в сенат...
– Знатные люди на Корсике её тоже любят пробовать.
– А сам пробовал?
– Приходилось.
– Вот что, Асклепий, хочешь получить свободу?
– Хочу, хозяин.
– А для того, чтобы её заработать, нужно избавить наш дом от тайных наблюдателей... Они на Тукской улице следили за вами и за домом наблюдают...
– Много их?
– Пока двоих видели.
– Управлюсь и с большим количеством... Я их выслежу и удавлю. – Гигант показал на свои ладони, похожие на лопаты для выпечки хлебов... – Трупы же покидаю в Тибр...
– Вот и молодец! Но дам я тебе «вольную», как только приедет мой сын, а он, по моим предположениям, должен объявиться со дня на день.
– Согласен, хозяин.
Через два дня Асклепий доложил, что управился с теми двоими – и они уже кормят собой раков на дне реки.
– На нас не падёт подозрение?
– Всё шито-крыто, хозяин; тихо, без шума...
* * *
Антоний находился вне себя от злости – такого не бывало, чтобы два секретаря, самых хитрых и осторожных, бесследно исчезли... Бывали случаи, что тайные сыщики погибали по разным обстоятельствам, но так пропасть, чтобы никто и ничего про них не знал, – этого ещё не происходило. Словно в воду канули! (И тут Ульпиан в своих предположениях был рядом с истиной...).
В Риме что-то творится неладное... Если бы можно было бы поехать туда самому и оценить обстановку на месте. Но ехать туда нельзя: беглецы знают евнуха, да и человек он теперь заметный...
«Главное – спокойствие, во злобе решать такие вопросы не годится, поэтому, Антоний, успокойся, – приказал себе корникулярий. – Промахов допущено тобой и так немало... А Плацидия заранее не пожалела золота... За что, спрашивается?.. Знает, чем меня умаслить... Нужен я ей. Ведь по сути дела нет у неё, кроме меня, особо преданных людей во дворце. Подхалимов сколько угодно! И Плацидия это понимает... Положение у неё не из завидных... И здесь хватает проблем, и в провинциях... То тут, то там вспыхивают восстания обедневших колонов, беглых рабов. Как можем – тушим вспышки... А тут ещё беда – на юге распространилась чума... Пока ею охвачены два острова – Корсика и Сардиния... Наверняка туда завезли морские разбойники... У какого писателя я читал описание этой страшной болезни?.. Господи, помоги вспомнить! У Лукреция... Точно – у него: Тита Лукреция Кара...
Антоний прошёл в библиотеку, достал несколько его поэм, развернул: вот оно – изображение чумы в Афинах в начале Пелопоннесской войны...
«У людей поднимается огромная температура, наливаются глаза кровью, гортань изрыгает чёрную кровь, затекает шершавый язык. От человека исходит смердящий запах падали. Безысходная тоска соединяется с мучительными стонами. Мышцы охватываются судорогой, тело покрывается язвами, распаляются внутренности человека нестерпимым огнём. Иные бросались в воду, чтобы охладить распалённое тело. Многие низвергались вниз головой в колодцы. Люди бессильно корчились на своих ложах, а врачи, видя перед собой дико блуждающие взоры больных, что-то бормотали про себя и сами немели от страха. А люди, у которых уже путались мысли, хмурили свои брови, имея дикое и свирепое выражение лица, в ушах у них раздавался несмолкаемый шум, прерываюсь дыхание, и тело покрывалось потом. С хриплым кашлем брызгаю солёная слюна шафранового цвета. У несчастных тряслись руки и ноги, а после жара их охватывало холодом. С наступлением смерти разевался рот, заострился нос, растягивалась кожа на лбу, выпадали глаза и виски, твердели и холодели губы. Люди мучились по восьми или девяти дней, а если кто и выживал, то язвы по всему телу и чёрный понос всё равно приводили больного к роковому концу. Болела голова, из ноздрей текла гнилая кровь, люди лишались рук, ног и других частей тела, а иной раз и зрения. Люди валялись на улицах, издавая такой смрад, что к ним не решались приближаться даже хищные звери и птицы. Родные покидали друг друга, спасаясь от болезней, но и это ни к чему не приводило. Умерших хоронили кое-как или вовсе не хоронили. Прекратились все работы на полях и в самом городе. Всё было завалено трупами, не исключая и храмов, и часто один труп лежал на другом. Весь город был набит стекавшимися отовсюду людьми; и все они погибали от грязи, смрада и скученности жилья. Везде пылали похоронные костры, из-за которых обречённые люди дрались, желая сжигать своих, а не чужих».
«В этом мрачном описании Лукреций совместил методы монументальности и художественного изображения человеческой жизни во всём её ничтожестве, бессилии и тупике... – подумал корникулярий. – Методы, свойственные показу не только того давнего времени, но и нашего, ибо человеческая жизнь во все века была и остаётся плевком, который легко растирается ногою...»
Снова мысли Антония перекинулись к Риму: «Посылаю туда ещё людей... И пусть они больше наблюдают в храмах бога Митры... Думаю, что я в поисках Гонории встал на верную стезю... Так, по крайней мере, подсказывает мне моя интуиция... А классическое её определение таково, что оно есть безотчётное, стихийное, непосредственное чувство, но основанное на предшествующем опыте, на постижении истины всё же путём доказательств, а не просто так, с бухты-барахты... Думал, что характер Плацидии я изучил до конца, оказывается – совсем не так; в эти дни она проявляет завидное терпение и понимание ситуации... И это хорошо, иначе её нервозное вмешательство внесло бы лишь сумятицу в мои планы...»
* * *
Владелец оливковой рощи, расположенной на берегу озера Когинас в Сардинии, грек Клисфен был большеносый зануда. Но занудливость его находилась в прямой зависимости от количества выпитого им вина: после двух фиал он становился весельчаком и добряком. Добряком, конечно, в том смысле, чтобы пошутить или проявить к рабу снисхождение. А вообще-то у этого «добряка» на счету сотни загубленных жизней...
В прошлом грек Клисфен начальствовал над пиратской тахидромой, которая промышляла не только в Тирренском, но и Средиземном и Ионических морях, «Свистать всех наверх!» – до сих пор в ушах большеносого грека стоит пронзительный свист боцманской дудки, и он видит, как палубу моментально заполняют его бородатые матросы в малиновых шароварах с заткнутыми за широкие матерчатые пояса кривыми ножами. А уж если тахидрома тесно прижималась к чужому кораблю, как блудливая женщина к богатому вдовцу, то капитан орал во всю мощь своей глотки: «На абордаж!» и сам был непрочь помахать акинаком, взобравшись на чужую палубу, и поживиться.
Своего бывшего боцмана, имеющего пудовые кулаки, он сделал управляющим, когда приобрёл на острове оливковую рощу. Управляющего звали Адраст, земляк, тоже родом из Афин, имел музыкальное образование, а сам Клисфен в бытность писал стихи. Но в Афинах, как и Риме, когда наступал голод, то первым из города гнали в шею поэтов и музыкантов, музыкантов серьёзных, а не тех, кто на арфах или кифарах подыгрывал матронам, занимающимся с рабами любовными утехами...
Нет необходимости рассказывать, как эти изгои мыкались, пока не попали к морским разбойникам, отрастили бороды и надели малиновые шаровары...
Убить первого... Это поначалу было сделать непросто музыканту и поэту, а уж потом пошло-поехало: но тут произошло следующее – с каждым убитым далее от них начал уходить талант... Иногда бьётся Клисфен сочинить строфу и не может, а у Адраста пальцы рук, сжимающие меч или дротик, утолщились в суставах, ладони расширились и, когда пробует играть на арфе, спотыкаются пальцы о струны... А управляющий из него получился отменный. Новая профессия его тоже требовала жестокости, но понапрасну он рабов не истязал, хотя по части истязаний старались другие – надсмотрщики...
Когда однажды с торгов привезли новых рабов, Адраст обратил внимание на высокого стройного римлянина – и в конце концов разобрался с ним: матросы, проданные с миопароны, сказали, что этот красавец – не простой человек и на корабле вёл себя так, как будто он выше стоял по званию капитана...
– Братья наши, разбойнички, кажись, ошиблись, Клисфен, что не повесили вместе с навархом и этого человека, а всучили нам как рабочий товар...
– Трудится он хорошо? – спросил у Адраста владелец оливковой рощи.
– Да так себе... К физическому труду не приучен: ты знаешь, что он являлся смотрителем императорского дворца в Равенне?..
– Да ну?! – искренне удивился Клисфен. – Вон какая непростая птичка к нам залетела, и я понимаю, что обменять мы его на кого-нибудь не можем, и отдать властям, чтобы разоблачить себя, тоже не можем...
– Нам остаётся одно – прятать его у себя и не давать возможности улизнуть с острова. Поэтому я приказал усилить за ним наблюдение.
– И правильно сделал.
Нежданно-негаданно на Сардинию обрушилась страшная болезнь – чума. «Чёрная смерть» безжалостно начала косить всех подряд. Но природа на удивление в это время, наоборот, пыталась показать себя с самой лучшей стороны, во всей красе: май и июнь были необыкновенными месяцами цветов; благоухал боярышник, не было в садах никогда ещё столько роз, столько жасмина и жимолости, фиговые деревья готовы были плодоносить в году не по два или три раза, а все четыре, оливы зрели на глазах... И везде гудели многочисленные пчёлы, таская к себе в изобилии мёд и усваивая свои ульи повсюду: в дуплах старых деревьев, прорехах крыш, выброшенных ящиках из-под плодов; а кто ещё мог ходить и работать, кого ещё не свалила страшная болезнь, делал сам для пчелиных роёв прибежища из тростника, так как к востоку от озера Когинас простирались болота, делал также из соломы, ивовых прутьев, а то и просто из травы. Но вдруг пчёлы разом исчезли, и чума с новой силой принялась за людей. Добралась она и до владений грека Клисфена...
И раньше голову Евгения Октавиана посещали мысли о побеге, но он видел, что за ним ведётся усиленный надзор. А находиться на острове, где вовсю уже гуляла чума, он уже не мог: или «чёрная смерть» настигнет его здесь, или, в конце концов, забьют палками надсмотрщики.
И он решился...
По утрам рабов будили раньше, чем вставало солнце; полусонных, в цепях, их колонной гнали к оливковой роще через густые кусты маквиса. Надсмотрщики тоже выглядели не отошедшими ото сна: зевали, лениво переговаривались, и всегдашняя бдительность у них притуплялась в это ещё полутёмное время.
И Евгению Октавиану удалось незаметно упасть в кусты и схорониться... Когда колонна ушла, он выбрался и, поддерживая руками цепи, чтобы они громко не звенели, спустился к болоту. Евгений подумал так: если его быстро хватятся и снарядят за ним погоню, то он лучше утопится в болотной жиже, потому что страдать от частых побоев он уже был больше не в силах...
Остановился на краю трясины, взглянул на небо: оно ещё оставалось окутанным тёмными тучами; но уже там, где небо смыкалось с землёю, стала пробиваться синева и постепенно расширяться, но Евгений знал, что солнечные лучи сквозь неё ещё нескоро проглянут...
Через какое-то время он услышал конский топот: для верности приложил ухо к земле... Звук шёл пока издалека, со стороны оливковой рощи.
Евгений заметался: «Погоня!.. Иди в трясину, топись... Ты же недавно так думал...» – и представил, как болотная вонючая грязь со всякой мелкой живностью лезет в рот, ноздри и уши, забивает горло, проникает в желудок, и содрогнулся... Но тут он увидел неподалёку яму, до краёв наполненную древесными листьями, и слава Богу, что они оказались не слежалыми, а свежими, и если он сейчас спрячется и накроется этими листьями, то со стороны не станет видно, что их ворошили...
Он так и сделал, укрывшись в них с головой: лошадиный топот шёл теперь как бы изнутри, эхом отдаваясь в глубокой яме, и вскоре Евгений различил голоса: говорили о нём, хотя бывший смотритель дворца плохо разбирался в языке, на котором изъяснялись те, кто сидел в сёдлах. Они были уроженцами Сардинии и общались между собой на так называемом кампиданском наречии... Но всё же Евгений кое-что понимал, так как на этом диалекте говорили и в Сицилии, где он бывал не единожды...
Кто-то сказал прямо над его головой:
– Давай поскачем в сторону моря... Оно недалеко, всего восемь миль. Наверняка он направился туда...
Когда лошадиный стук копыт затих, первое, что Евгению пришло в голову, – скорее выбраться из этой ямы, ибо дышать становилось всё труднее: листья на дне ямы издавали гнилостный запах. Но воздух сверху проникал сюда, терпеть можно было, и как бы ни хотелось выбраться отсюда, а надо ждать, когда назад вернутся преследователи. Надёжнее хорониться укрытым в яме, нежели на открытой местности, пусть даже в кустах или за деревьями...
Согревшись, Евгений задремал и открыл глаза, услышав снова конский топот, который приближался... И тут будто кто стал ворошить палкой сухие листья, затем раздался шорох и что-то холодное и гладкое скользнуло ему под рубаху и сползло к низу живота... «Боже, змея!» – мелькнуло в его мозгу, и ему захотелось закричать от охватившего его ужаса и впрыгнуть из этой ямы... Но топот лошадей уже рядом; неимоверным усилием воли Евгений сдержал себя: «Уж лучше быть ужаленным этой тварью, чем погибнуть под палками и пытками... Или же быть заживо сожжённым в костре, куда кидают умерших от чумы...» – решил он.
– Как сквозь землю провалился... А не мог он в темноте забрести в трясину и утонуть? – спросил один из преследователей.
– Так и есть! Поехали, скажем управляющему, что беглец погиб...
– Поехали.
Когда всадники удалились, Евгений не дыша, чтобы не вздымался живот, так как тварь улеглась на нём, не проскочив ниже (сделать это не давал туго обтягивающий матерчатый пояс), потихоньку разрыл яму, размотал осторожно пояс, и змея сползла по ноге на землю... Вдруг она проворным тонким шнуром скользнула на край ямы – только и видели её!
«Она даже меня не тронула!» – радостно заколотилось сердце у Евгения, он увидел в этом для себя благоприятный знак свыше и улыбнулся.
«К морю, надо двигать к морю... Ну а если по приказу управляющего погоню возобновят? Лучше в этой яме отсидеться... – Но живот ещё хранил на себе холодное прикосновение змеи, и Евгения снова всего передёрнуло... Тем не менее он заставил себя опять зарыться в листья: – Нужно дождаться темноты, а ночью пойду...»
Он вылез наружу, когда небо вызвездило, а луна в своей четверти уже висела рожками вниз – в небе на севере Италии они слегка приподняты.
Кругом стояла тишь, но когда Евгений пересёк заросли маквиса и оказался в поле, то услышат беспрерывный звон цикад... Душисто запахло разнотравьем, воздух после удушающего, гнилостного запаха стал пьянить.
«Господи, Единый Бог, это ты наполняешь жизнью землю и небо, не дай и мне умереть, спаси и помилуй!» – взмолился Евгений.
Этот дрожащий звёздным и лунным светом небесный мир и земной, наполненный звоном и душистым запахом трав и цветов, позвали Октавиана из неволи... Так, по крайней мере, казалось ему, а вовсе не страх быть забитым двигал его к желанию побега...
Всю ночь, вспугивая угнездившихся ко сну птиц, Евгений шёл и шёл, и, несмотря на гремящие на ногах цепи и высокие травы, ему шагалось легко... К утру он вышел к морю. Недолго думая, забрёл в воду, постоял, чувствуя, как гудящая истома наполняет всё его измученное тело, а когда поднялся на берег, то увидел стоящего на нём старика.
Им оказался одноногий сторож маяка, выложенного из белого камня.
Старик привёл Евгения к себе, поставил возле ложа столик с едой и стал потчевать гостя (если так можно назвать беглого раба)...
Старик не расспрашивал ни о чём Октавиана: и так всё было ясно, начал рассказывать о себе...
Ногу потерял в битве с вандалами, сражаясь на стороне римского императора Бонифация. (На самом деле этот старик служил на пиратской тахидроме Клисфена, и ранили его в одном рукопашном бою копьём в ногу, которую позже пришлось отнять.) Но, несмотря на убогость, каждый вечер поднимается с зажжённой лампой на самый верх маяка и ставит её под колпак, освещая путь кораблям; на одном из них капитаном является товарищ сторожа, и он попросит его взять Евгения на борт...
– Спасибо, спасибо! – в порыве благодарности кивал головой Евгений старику, доедая остатки пищи и думая теперь лишь о сне.
– Пока ты будешь жить у меня, без моего разрешения из помещения маяка никуда не выходи... – предупредил сторож.
Октавиан заснул и, разумеется, не видел, как одноногий вывел лошадь и поскакал в противоположную от морского берега сторону...
Проснувшись и не найдя сторожа, Евгений подумал, что ничего страшного не произойдёт, если он нарушит запрет; он вышел из помещения маяка и снова побрёл к морю. Снял рубаху, штаны, подтянул цепи, нагнулся, чтобы зачерпнуть ладонями воду и ополоснуть лицо, как вдруг почувствовал сильный удар палкой по голой спине. Евгений упал, но его выволокли из воды и стали избивать. Били жестоко и хладнокровно, а потом взвалили на лошадь и повезли.
По приказу управляющего Евгения бросили в барак, стоящий на отшибе и предназначенный когда-то для скотины: затем он обветшал и прохудился, и сюда теперь свозили заболевших чумой и клали на деревянные топчаны.
Когда Евгений пришёл в себя и открыл глаза, то ему показалось, что лежит он здесь целую вечность...
«Неужели я успел заразиться страшной болезнью и меня бросили к чумным?! – Евгений кое-как повернулся на живот, так как очень сильно болела спина и голова в затылке. Уткнулся горячим лбом в доски.
Но ему было невдомёк, что его не просто наказали за побег, а решили избавиться насовсем: держать в рабах человека большого государственного Звания – дело опасное, тем более который стремится убежать. Клисфен и Адраст рассудили так – отвезём раба в чумной барак, он там скоро заразится, помрёт, а потом сожжём в костре. Был человек – и нет человека!..
Евгений помнит, что нашёл в себе силы отодвинуть свой лежак от топчана соседа, который бредил, сгорая от жара, и повторял постоянно, что вода в озере, куда он зашёл, не остужает его тело, наоборот, горячит ещё больше...
«Если бы я не выходил из помещения маяка, тогда бы меня не обнаружили... Сторож был внимателен ко мне, обходителен... Надо было его слушаться, – размышлял Евгений, не подозревая, что этот внимательный и обходительный сторож и предал его. – А я мог бы насовсем покинуть остров... Одноногий старик пообещал посадить меня на корабль, капитаном на котором служит его давний товарищ...»
Евгений, кажется, снова погрузился в сон, потому что привиделся ему на высоком морском берегу белый маяк с колпаком наверху, внутри которого светила яркая лампа... Привиделся и такой же белый корабль с белыми парусами, который пробивался сквозь свирепые волны. Ветер крепчает, срывает один парус, другой... По воде ударяют вёсла, и корабль смело идёт снова вперёд, держа курс на маячный огонь... Но вдруг лампа гаснет, корабль наталкивается на прибрежную скалу, трещит палуба, обшивка... Люди прыгают в бушующее море и гибнут с отчаянным криком...