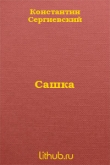Текст книги "Возвращение с края ночи"
Автор книги: Алексей Свиридов
Соавторы: Александр Бирюков,Глеб Сердитый
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Сашка расстроился.
«Не ту ли птицу мне нельзя зацепить?» – подумал он тревожно.
И тут почему-то пришла уверенность, что надо искать себя лежащим на камнях. То есть он стоял посреди боя. Рогатка из руки исчезла. Очков на глазах не было. Но при этом осматривался в поисках самого себя, распростертого ниц…
Так он начал искать свое лежащее тело.
Нашел.
Под ногами у Сашки Воронкова лежал Сашка Воронков.
– Какое злое у меня лицо, – проговорил тот из двойников что стоял.
Лежащий как труп был действительно неприятен. Неудобная поза, с подогнутой ногой. Судорожно зажатый в руке пистолет. На шнурке, зацепившемся за ухо, повисли свалившиеся очки.
И лицо было обострившееся, напряженное, оскаленное, застывшее в усилии превозмочь нечто неодолимое.
– И так будет с каждым, кто обидит птичку! – глупо пошутил Сашка.
Но на душе было погано.
Хотя почему на душе?
Он теперь и был одной только душой. Чистым духом без примеси плоти. И весь этот чистый дух болел, как открытая рана.
– Нет в теле лучше, – пробормотал чистый дух.
Пора возвращаться в него.
Встроился в тело.
Получилось неудобно. Что-то вроде того, как натягивание презерватива при неполной эрекции. Бог весть как объяснить это дамам. Собственное тело жало и давило на чистый дух со всех сторон и надеваться не хотело.
Еле-еле вписался в свою оболочку.
Обнаружил себя лежащим мордой в щебенку.
Наверное, пока надевал тело, перевернулся со спины на живот.
Больно и неудобно.
Поднялся.
Пистолета в руке не было.
Зрение не налаживалось.
Где пистолет?!
Навел кое-как резкость.
Нашарил пистолет.
Изготовился стрелять снова…
И тут увидел птицу.
Он сразу понял, что не ворона-галка была птицей, которую нельзя подстреливать случайно, ни при каких обстоятельствах.
А вот эта!
Навстречу с вражеской стороны шло нечто похожее на страуса эму – сине-фиолетового цвета.
Сашка сразу понял, что это та самая, важная птица.
Птичка шла себе, никого не стесняясь и чувствуя себя хозяйкой положения.
– Джой, приятель, ты тоже видишь это?
Джой, подняв уши, пялился на птичку во все глаза.
– И как тебе?
Джой, похоже, был в легком шоке. Он не слышал хозяина. А то, что он транслировал, было непереводимо. Вообще понять собаку можно было, как правило, именно тогда, когда он обращался непосредственно к хозяину или переживал сильное впечатление. В последнем случае он передавал то, как оценивает то, что воспринимает.
Сейчас с ним было что-то непонятное. Он безусловно переживал потрясение, но никак его не оценивал. Во всяком случае он видел что угодно, но не большую птицу. Может быть, собачье божество, если такие бывают. Сашка подумал об этом потому, что эмоции Джоя были чем-то близки эмоциям эскимоса в чуме при виде собаки, но, к сожалению, без какой-либо информационной составляющей.
В это время раздался пронзительный сигнал.
Стрельба тут же прекратилась.
Птичка повертела головой, прислушиваясь. Уставилась немигающим огромным глазом на Воронкова.
Глаз был изумительный и, в отличие от страусиного, да и любого птичьего глаза, на удивление осмысленным. В чем это выражалось, Сашка не смог бы объяснить. Просто видел, что взгляд у птички разумный и, возможно, даже умудренный.
Такую зверюгу можно подстрелить разве что случайно да с большого перепуга. И несчастного сделавшего это Воронков сам приговорил бы к чему-нибудь нехорошему.
Офтальмоптер, – всплыло откуда-то из закоулков эрудиции по аналогии с большеглазым динозавром – офтальмозавром. Название птичке подходило как нельзя лучше.
Пронзительный сигнал повторился.
На этот раз сдвоенный. Звук одного тона шел с «нашей стороны», а звук другого тона, но такой же длительности, с вражеской.
Солдатики немедленно выстроились в ряд и рассчитались на первый-второй. Причем первые Номера остались у баррикады, а вторые отправились в тыл под руководством офицера.
На время своего отсутствия Теркин-Бровкин назначил из солдат старшего (видимо, сержантов на этом поле брани не было), которому вручил желтый шарфик как знак отличия.
Проходя мимо Воронкова, который тоже поднялся, мало что понимая, и принялся отряхиваться, лейтенант сказал:
– Обед. Ты пойдешь обедать на базу, или распорядиться, чтобы доставили сюда?
И по глазам было видно, что лейтенант сам в сомнениях. Воронков не только понимал забавно звучащий язык местных вояк, но и смог проникнуть в глубины смятенной души лейтенанта.
А там была настоящая каша, и все про него – Воронкова.
С одной стороны, лейтенант хотел, чтобы СТРЕЛОК остался здесь и присмотрел за оставшимися солдатиками, по крайней мере до тех пор, пока их не сменят номера первые под его личной командой. А с другой, лейтенант хотел похвастаться перед вышестоящим командиром наличием в его команде СТРЕЛКА.
С одной стороны, он чувствовал искреннее уважение к СТРЕЛКУ, который и ростом на полторы головы выше, и стоит целого отделения, и вообще супергерой. А вот с другой стороны, он испытывал зависть, которой стеснялся, потому что супергерой теперь по всем статьям затмит его – боевого офицера.
С одной стороны, полезно для боевой работы было, чтобы СТРЕЛОК подольше остался с его подразделением, а с другой – он знал, что любой СТРЕЛОК никогда не задержится надолго и пойдет рано или поздно своей дорогой.
С одной стороны, офицер уже продумывал меры для удержания супергероя при себе, как-то: поощрения и почести, доступные и труднодоступные в боевой работе жизненные блага, на которые СТРЕЛОК соблазнится и задержится. А с другой, было бы куда проще сказать: скатертью дорога и забыть, потому что появление стрелка всегда связано с активизацией действий противника.
И много чего еще было намешано в светлой голове лейтенанта, пока он ждал ответа на бесхитростный вопрос.
Почти все это было откровением.
Кое о чем Воронков мог бы и сам догадаться. Если бы не был так вымотан, что просто руки не поднимались.
– Я вам нужен? – спросил он, отметив между делом, что на птицу никто внимания не обращает.
– Стрелки приходят и уходят, – вздохнул офицер, провожая взглядом цепочку своих солдат, уходящих в тыл, – а приказы командования, которые надо выполнять, остаются. Так что? На базу? У нас сегодня обещали к обеду что-то особенное.
Жрать хотелось зверски.
Услыхав про обед, даже Джой отвлекся от птички и оживился, заколотил хвостом.
– Я останусь здесь, – неожиданно для себя сказал Воронков.
Пауза давала возможность обдумать кое-что и переварить.
– Обед доставят немедленно. Хотите, это сделает… – имя Воронков не расслышал, а перевода у него не было, но уловил образ рыженькой, с усиленной амортизирующей способностью…
– А чего бы нет? – пожал он плечами и подумал вдруг: «То что я их понимаю, само по себе факт удивительный, но они-то меня как?»
Птичку по-прежнему никто из местных не замечал.
Чем это объяснить, Сашка не представлял. Разве что привлечь спорную теорию об области игнорирования?
И тогда получается интересный расклад. Очень интересный!
Похоже у них колоссальная область игнорирования! Тогда понятно, что только стрелок, в лице Воронкова, который видит офтальмоптера, может нечаянно подстрелить птичку. Человек, очевидно, не способен взаимодействовать с тем, что находится в области игнорирования.
Тогда, выходит, птичка тут чужая?
Раз ее местные-то в упор не видят.
А он – тоже чужой. Так что? Чужак чужака видит издалека?
Или, может быть, тут табу такое – нельзя показывать, что видишь птичку? Но тогда уж больно здорово притворяются. Нарочитости нет.
Воронков поморщился от усложненной бессмысленности очередных непоняток и мысленно, именно так, только мысленно, опустился на кучу битого кирпича служившую ему укрытием от вражеского огня в последнее время. Почему только мысленно? Очень просто. Он так устал, что чувствовал, если сейчас сядет, то уже не сможет встать.
А нужно было еще принять решение. И от этого решения вроде бы зависело что-то важное в жизни, если не все и если не сама эта жизнь.
– Жизнь подкосила, – пробормотал он, глядя вслед предупредительному, но сотканному из сомнений офицеру, – все условия, значит… И бесперебойное снабжение боеприпасами в россыпь, и обед с доставкой в окоп, и даже местные девушки… Кто бы ни были эти стрелки, за кого меня приняли, а этих ребят здесь и уважают, и ценят.
Птичка тем временем ушла уже далеко. Остановилась у развилки улиц, ведущих в тыл. По правой, залитой светом, удалялись вереницей солдатики.
Левая улица, почти параллельная, была накрыта тенью высоких зданий, чудом уцелевших. Эти мрачные, но причудливые корпуса, напоминающие чем-то не-то фабрику «Октябрь», не-то питерскую тюрьму «Кресты», только такие, будто их строил Гауди, если бы был славянином и имел в своем распоряжении только один строительный материал: кирпич размером с пухлый покетбук.
Птичка посмотрела назад, прямо на Воронкова. Хлопнула длинными ресницами. Будто звала за собой.
Сашка почувствовал, что ему нужно идти за птичкой.
Очень хотелось остаться и пожрать. Тут еще что-то особенное обещали. Деликатесы какие-то местные. Рот наполнился слюной, как у собачки Павлова.
– Хотя еще неизвестно, какие у них тут деликатесы, – проворчал Сашка, – как думаешь, Джой? Джой?! Ты где? О как!
Джой уже трусил за птичкой.
– Эй! Псина-а-а? Джой. Ко мне…
Тщетно.
Мало того, в голове собаки опять произошла суперпозиция. Он ничего не передавал. Просто он знал, что ему нужно идти за птицей. Только беспокоился, не потерялся бы хозяин. Но не слишком. Важность того, что нужно идти за птицей, перекрывала беспокойство о хозяине.
– Как опоили! Ну на фига мне это все нужно? – досадуя, что пес за него принял решение, Воронков поплелся следом.
Пошел за птицей.
Никто его не остановил, не кричал вслед…
Вообще никто никак не реагировал.
Одна птица будто поняла.
Она тут же неторопливо тронулась по затененной улице.
Время от времени она ковыряла что-то клювом у себя под ногами. Копала мозолистой лапой, рассматривала что-то там внизу и двигалась дальше.
Это похоже было не на поиски пропитания, да и что она могла найти на брусчатке, покрытой пылью и крошевом кирпича, а на простое любопытство.
А может быть, она потеряла что-то и разыскивала, слоняясь по городу. Разыскивала без особой надежды найти.
Однако Сашке казалось, что направление она выбирает не произвольно, а следуя какому-то плану. Знает, короче, куда идет.
Или ведет?
Воронков сделал над собой усилие и догнал Джоя.
– Чего же ты меня бросил, – с укоризной сказал он, – а еще друг называется?
Джой посмотрел на него так, что это могло означать только: «А, хозяин… Хорошо, что и ты здесь».
Сашка и за такое внимание был ему благодарен.
Он устал не только и не столько физически, хотя это само по себе было невыносимо. Усталость моральная и душевная давила на плечи не меньше.
Когда человек голодает (Воронков хоть и был утомлен и голоден, но не голодал, так что это не про него), он обычно приобретает и леность мысли. На умственную работу тоже нужна масса энергии. Но иногда в процессе голодания наступает этап просветления. Человек вдруг приобретает такую удивительную легкость и ясность мысли, что чувствует себя способным объять необъятное.
Воронков тоже испытывал чувство сродни голоду или жажде. Голоду, жажде или ностальгии. Сашка когда-то полагал, что ностальгия – это тоска по родине, пока один добрый знакомец, драматург местного значения, не расширил его понимание этого чувства. Тот написал трогательную пьесу, которая даже шла в местном драматическом театре, стоя на афише между Арбузовым и Олби. Она называлась «Ностальгия по хорошему настроению».
Тащившийся за птицей по разрушенному городу Воронков теперь испытывал ностальгию по ясности и простоте мира. Ностальгию по пониманию окружающего. И остро осознавал, что это чувство теперь будет с ним всегда. В той или иной степени, но всегда. Мир уже никогда не будет для него таким, как прежде. Да и сам он – Сашка Вороненок – уже никогда не будет таким, как был всего несколько суток назад.
Самое удивительное в том, что он не мог сказать даже приблизительно, сколько именно суток прошло с того момента, как он собрал «Мангуста» и вся прежняя жизнь пошла наперекосяк. Да это было и неважно. Он провел вне родного мира даже не время, а ВРЕМЕНА. Многие разнообразные времена, наложенные на мимолетный калейдоскоп каких-то маленьких, пробных, что ли, жизней..
Но тот момент, когда «Мангуст» был собран, когда он состоялся как творец чего-то настоящего, как Мастер, когда жизнь удалась, был единственным, и его он запомнит на всю жизнь. И будет благодаря ему знать, что все было не зря.
Он вспомнил, что странно себя ощущал тогда, что на душе полагалось быть празднику, а праздника не было. Синдром достижения цели. Но теперь он твердо знал, что нормальный человек, добившись того, к чему долго шел, не станет прыгать, потрясать в небо кулаками и истерически выкрикивать: «Я сделал это!»
Ничего подобного! Достигнутая цель моментально открывает новые горизонты и новые цели, путь к которым не близок, не далек, но устлан всякими разными терниями. И работа на этом пути предстоит еще серьезнее, чем на том, что пройден.
А он еще досадовал на себя, непутевого, что вот: больше было от сделанного дела непонятной и необъяснимой тревоги, чем радости. Каким же наивным он казался теперь себе нынешнему!
Теперь, миновав этот рубеж и пройдя черт его знает сколько всего, он знал, что не нужно никакого нового смысла в жизни искать. Все время он был полон отчаянной решимости уничтожить все, что стоит между ним и прежней жизнью, но ностальгия по простоте и ясности мира дала ему вдруг момент просветления. Он почувствовал всю свою судьбу встроенной в нелепость и несправедливость жестокого мира. И не увидел противоречия. Все было ненапрасно. Все было к делу и по уму.
И как-то смиренно и чисто он понимал теперь, едва переставляя ноги и обнимая необъятное легкой мыслью, что готов к смерти. Вот еще недавно, минуту назад не был готов. А теперь в любой миг – готов принять смерть. Умереть. И не жить больше. Умереть без иллюзий, без веры в немыслимое «после». С полным осознанием того, что после НИЧТО. И ничего уже ни с ним – Сашкой Вороненком – не будет, ни для него уже ничего не будет.
Но это было не беспомощное смирение перед неизбежным. Просто просветление. И все. Он по-прежнему не собирался отдавать свою жизнь без боя. Но теперь он до такой степени не боялся умереть, что сделался словно бы неуязвим. И опасен. Нешуточно.
Он едва ли осознавал, что на его выбор теперь не смогут повлиять ни боль, ни опасность смерти, ни увечья. Ничто не заставит теперь его руку дрогнуть, а дух сдаться. Нет, так хорошо и возвышенно он о себе не думал, хотя это и было именно так. Он просто осознал, что жизнь – действительно состоялась и удалась.
Потому что неважно, как далеко ты прошел.
Важно, чтобы это была именно твоя дорога.
И пусть кто угодно скажет, что этот путь обернулся смертельным запутанным лабиринтом, Сашка принял его.
И готов был, как жить столько, сколько еще отпущено, получая удовольствие от самого факта жизни, а не от жизненных благ, так и умереть и принять это как должное.
Птичка словно почувствовала его мысли и, остановившись, смерила долгим испытующим взглядом.
Нельзя сказать, что осмысленный взгляд птички был приятен. Скорее нет.
Что-то решив для себя по его поводу, офтальмоптер двинул дальше, уже не задерживаясь и не останавливаясь.
Погода начала портиться.
Поначалу Сашка списал это дело на вязкую, прохладную тень улицы, по которой повела его птица. Но потом, когда они вышли на площадь, окруженную снесенными почти до основания зданиями, Воронков понял, что небо подернулось дымкой пепельных облаков и стало пасмурно. Прохладный ветер порывами налетал, поднимая поземку пыли.
И воздух сделался влажным, будто надвигался дождь.
– Только еще под дождем погулять не хватало, – проворчал Сашка, хоть и обретший изрядную долу самурайского стоицизма в силу озарения, но по-прежнему предпочитавший дискомфорту комфорт.
И вдруг, будто кто-то сказал ему четко и ясно, он понял, что дождя не будет.
– И на том спасибо… – ответил Сашка неизвестно кому, любезно пообещавшему, что хляби небесные не разверзнутся, и чаша сия минует его.
Процессия продвигалась к окраинам города. Мнемонически, по уменьшению груд битого кирпича Сашка понял, что в этом районе этажность зданий была поменьше, чем в эпицентре военных действий. Хотя теперь весь почти город был нивелирован бомбардировками.
Жалко. Красивый, наверное, был.
Внезапно за уцелевшей, прихотливо, уступчато выложенной стеной открылся парк. Зеленый, несколько запущенный газон, грибовидные деревья – кажется, липы, стоящие живописными группами. Мощеная дорога взбиралась на холм. Кое-где на газоне виднелись черные воронки, обрамленные клочьями вывернутого дерна, но парк явно не обстреливали специально. Разве что случайные снаряды залетали.
Птица уже поднялась на холм. Вновь оглянулась. Начала спускаться по ту сторону.
Сашка заспешил, боясь, что, если потеряет птицу из виду, она может исчезнуть так же внезапно, как появилась в городе, и он тогда не будет знать пути и останется обречен скитаться глухими окольными тропами.
Джой тоже заволновался, но теперь уже убегать вперед не стал. Что-то заставляло его держаться подле хозяина. И так было нужно.
А поднявшись на вершину холма, Сашка задохнулся от того, что увидел.
Вид, открывшийся с вершины холма, был настолько поразителен, что у Сашки перехватило дыхание.
Позади над городом сгущались тучи. А впереди лежала залитая солнцем зеленая долина. Вогнутой изумрудной линзой она соединяла далекие, царящие на горизонте горы с коническими выбеленными вершинами и покатые холмы по эту сторону, на которых громоздились развалины некогда прекрасного города.
По дну долины змеилась тихая река, берега которой словно скобки соединяли арочные мостики. Желтые мощеные дороги соединяли кучки белых домов с островерхими красными крышами. От этого сочетания цветов – красного и белого – дома, стоящие вдалеке, были похожи, на крепенькие грибы.
Те же строения поблизости производили впечатления маленьких бастионов: массивные выбеленные стены, белокаменные упоры, маленькие, высоко под самой крышей окошки, похожие на бойницы.
Дома, стоящие по два или три, были окружены садами. В садах на первый взгляд хаотично стояли мощные деревья с шаровидными кронами.
Деревья росли здесь века. И цвели по весне и давали плоды по осени. И маленькие детские ручки собирали урожай крупных, сочных, напитанных солнцем плодов.
Нигде не было видно распаханных квадратов полей и огородов. Только сады, огороженные золотыми, блестящими на солнце, как новая, подарочная корзинка, плетнями причудливых конфигураций, с ажурными арками из лозы.
Ближайшая усадьба располагалась метрах в ста ниже по склону холма. И просматривалась отсюда как на ладони. Окружавший сад плетень приноравливался к рельефу. Помимо деревьев в саду были цветущие кустарники, мосточки, беседки, сооруженные так же, как и ограда из лозы.
Сашка вдруг ощутил новую способность своего сверхчувствия: его зрение, будто научившись у чудо-очков, приобрело способность приближать объекты, а слух обострился, так что слышалось перешептывание листьев и плеск воды.
Это было и тяжело, потому что слишком ярко и слишком густо, и легко, потому что давало радость узнавания новой и желанной красоты.
Стоя на месте, он мог видеть мельчайшие подробности, будто бы уносился туда, на что нацеливал взгляд, как бесплотный дух.
В укромных уголках сада располагались трельяжи, задрапированные клематисами и розами.
Хотя Воронков и не знал, что это именно клематисы и именно розы. Но красота хотела иметь красивое название и сама находила подобающее слово.
Переливающиеся ручейки звенели хрустальным перезвоном по прозрачным камешкам. Изумрудная лужайка была окаймлена кустами с яркими махровыми цветами. В сверкающем золотом прудике резвились голубые рыбы с длинными перламутровыми хвостами.
Простор дышал умиротворением и покоем.
Сердце ухало, нагнетая кровь во вздрагивающие трубочки артерий, грохотало в ушах. Легкие наполнялись воздухом, терпким как вино, и вгоняли в кровь кислород. Зрение впитывало краски…
Сашка чувствовал, что нужно идти. Потому что ноги едва держали. И, стоя на месте, он, как пьяный, едва мог удержать равновесие.
Но он стоял, удерживая мгновение рая. Зная наверняка, что никогда больше не увидит это место. Никогда в жизни.
«Сиреневая тропа», – всплыло откуда-то из глубин сознания. И на реальность наплыло видение какой-то тропинки между двух рядов цветущей сирени, тяжелые грозди которой свисали, смыкаясь над головой.
Красиво и торжественно.
Как в храме.
И между ними – этими гроздьями цветов – пробивались лучи, окрашенные в лиловый, белый и янтарный цвета. И все пространство под этими кустами было иссечено разноцветными лучами. И ветерок шевелил цветы. И качал солнечные лучи.
Но видение исчезло, оставив странный аромат, какой бывает только после очень приятных воспоминаний. И взору снова предстала долина.
– Сиреневая тропа… – пробормотал Сашка и морщил лоб, пытаясь вспомнить, какое отношение к этой долине имеет эта сиреневая тропа.
По ней можно было то ли войти в долину, то ли выйти из нее. Или наоборот, по этой тропе из долины можно было попасть куда-то в очень важное другое место.
Воспоминание было где-то совсем рядом.
Совсем поблизости.
Он знал, что ничего не знает и не может знать об этой долине. Ничего не слышал и никогда прежде не видел никакой сиреневой тропы. Но при этом не сомневался, что если постарается, то вспомнит! Начнет вспоминать об этой тропе.
Сине-фиолетовая, будто сотканная из гроздьев сирени птица, похожая на страуса эму, шла по дороге вниз с холма. Шла быстро, уже не задерживаясь и не останавливаясь, важно вскидывая голенастые ноги.
Нужно ли теперь было идти за птицей?
Можно было пойти. А можно и не ходить.
Но стоять вот так было нельзя.
Чудесная долина звала к себе.
И будто не пускала. Не так чтобы вовсе отталкивала, но что-то держало. Словно нужно было сделать этот шаг осмысленно и целенаправленно. Словно что-то незримое, но властное советовало подумать прежде, чем идти.
А позади, за спиной, – Сашка чувствовал это лопатками – шла война. И в ней была какая-то высшая нужность, в этой странной, немного игрушечной войне. И никто не жалел ни о чем.
И там на войне был нужен стрелок.
А он ушел…
Зачем он ушел?
Пошел за какой-то глупой птицей… Нужно было пообедать, передохнуть, собраться с силами.
Ведь нельзя же так вот, идти и идти.
Что там делают с загнанными лошадьми?
А с загнанными путешественниками по мирам?
Вряд ли что-то шибко отличное.
Джой прижался к ноге теплым мохнатым боком.
Джою нравилась долина, и город с войной тоже нравился, хотя и меньше. Но бедный Джой совсем запутался. Он хотел домой. Он очень хотел домой. Он не хотел оставаться ни в каком месте, даже если оно ему нравится, если это место не дом.
– Я тоже хочу домой, – сказал Воронков.
Джой поднял вверх свою длинную морду.
«Мы устали, хозяин. Хватит гулять. Пойдем домой!» – сказал он одним только взглядом темных печальных глаз.
И незаметно наплыл туман.
Сашка потом, сколько ни думал, не мог понять, откуда он взялся. И фантазировал, что, наверное, начал спускаться в долину, а там у подножия холма…
Но нет. Ничего такого не было. Он просто стоял и ждал, когда туман окружит его. Пепельный, вязкий туман. Ждал, когда туман заслонит долину. И только тогда как под гипнозом он шагнул в него. Вошел в туман, погружаясь по грудь, еще видя изумрудную траву и малахитовые кроны и черепичные крыши. Погружаясь по шею и уже теряя долину из виду за языками тумана. И вошел в него совсем, погрузившись с головой, даже задержав дыхание.
И услышал в тумане шум леса.
Будто телевизор переключили с канала на канал при отключенном изображении – звуки долины сменились другими звуками.
И пошел быстрее.
В тумане было тревожно.
Но звуки, гулко отдававшиеся в нем, казались удивительно знакомыми. Будто шум машин на шоссе, ветер в кронах, шарканье ног. Но не то. И все же…
Симфония звуков родного мира?
И запах не прогоревшего в моторах бензина, сырости, рано пожухлой травы.
Что это там темнеет?
Неужели остановка троллейбуса?
Возможно, это и была остановка троллейбуса. А может, лошадь в тумане.
Воронков вдруг обнаружил, что посеял чудесные очки. И даже не представляет где и как.
Жалко.
Вот бы они сейчас пригодились.
Он сел на корточки и чуть не упал, оперся пальцами левой руки о мокрый асфальт.
Асфальт!
Прямо перед ним, поперек дороги змеилась трещина. Она выходила из тумана и уходила в туман. И было в ней, этой трещине на старом асфальте, тоже что-то родное.
Из тумана вышел Джой.
Голова Джоя.
Вся остальная собака угадывалась в свинцовом мороке только потому, что метрономом мотался хвост, создавая в тумане турбулентные потоки.
«Турбулентные потоки от собачьего хвоста в тумане, – подумал Сашка, – вот тема для диссертации по аэродинамике. С последующей Шнобелевской премией».
– Что скажешь, – все еще сидя на корточках, спросил у собачьей морды, торчащей из тумана, Сашка, – чеширский пес?
«Мы идем домой? Я чую дорогу домой!»
– Веди, псина. Я совсем нюх потерял. Ничего не чую.
И Джой повел. Да только далеко идти не пришлось. Не в количестве шагов было дело. В другом…
И вот уже перекресток, Развилка Миров, узелок на координатной сетке пространств, Корешок Книги Вселенных…
Странно? Да нисколько. Он уже чувствовал себя искушенным читателем, которого не удивишь оформлением переплета. И не такое видали.
Перед Сашкой – протяни руку и одновременно бесконечно далеко – родной город. Такой же вечер, как тот… Или тот же самый? Кто их разберет, вечера родного мира.
Сзади осталась хмарь тропы и все, дальнее и близкое, что она скрыла и показала…
Справа какие-то буйные джунгли. Оттуда доносятся подозрительные звуки – то ли воет на луну саблезубый тигр, то ли вымирающий динозавр задирает эволюционно прогрессивного примата.
Вот, правда, энтузиасты-исследователи доказали, что никаких саблезубых тигров не было. Да, да. Никакого, извольте видеть, «смилодон-фаталис». Это были обыкновенные коты-вампиры, уничтоженные начисто первобытными охотниками на вампиров первобытного братства Ван Хельсинга.
Сашка беззвучно хихикнул.
Слева не то саванна, не то тундра.
Нет не тундра. Холмы. Будто тундру кто-то взял за два угла, как одеяло, и встряхнул, пустив волной.
– Нет, брат, это еще не у нас дома, – вынужден был признать Сашка.
«Дом впереди, хозяин. Я чую!» – стоял на своем Джой.
Сашка понимал, что вроде бы сумел сорваться с крючка и, так уж получается, что сам, своей волей вернулся обратно. Но холмы и джунгли по сторонам знакомой дороги – это что?
Как отринуть окончательно эту чужбину, как пройти по лезвию, не свалившись ни вправо, ни влево?
Некоторое время он колебался.
Помогло сделать выбор событие, прежде, до всех приключений, показавшееся бы ему самым что ни на есть безумным. Но теперь воспринятое как нечто в порядке вещей.
Из джунглей выбежал и как-то сразу приблизился, словно попал в поле трансфокатора пропавший сменщик – Олег. Он был небрит, оборван и перепоясан патронташем. На шее у него болтался неизвестной системы автомат или даже скорее пистолет-пулемет. Похожий абрисом на знаменитый МП-38. Только помассивнее. И более сглаженных, зализанных очертаний, будто «машинен пистоль» сделал стойку, как борзая, подавшись вперед и вытянув дуло-морду.
И магазин коробчатый был у него скошен назад параллельно пистолетной рукоятке, и все обводы, в стиле автомобилей 50–60-х годов говорили об умозрительной, но захватывающей воображение, аэродинамике.
Большего рассмотреть не удалось, кроме того, что детали автомата сочетали черное воронение и серебристый хромистый металл. Этакий «шмайсер» (который не «шмайсер» вовсе, а «Фольмер-Эр-ма») в стиле «кадиллак».
Запало только то, что в поясе-патронташе у бедолаги были какие-то нестандартные патроны для дробовика: длинные и крупные – неопознанного калибра. Никакого отношения к Mashinen-modernpistol эти патроны не имели. А было бы интересно, из какой пушки такими пуляют. В сумеречных пучинах уставшего от всего необычайного воображения возник некий пистолет типа «Хаудах» – слоновый седельный. И почему-то непременно с серебряными чернеными орнаментами, с медальонами, изображающими сцены охоты на крупного зверя вроде зверозубого ящера.
Значительно позже Воронков осознал, что, вероятнее всего, образ пистолета был передан ему Олегом, которому этого оружия в тот момент острейше недоставало. Но тогда только удивился четкости возникшей картинки.
– По глазам! – выкрикнул Олег и дал короткую очередь по джунглям.
– Чего? – не понял Сашка.
Олег, продолжая отстреливаться от кого-то в джунглях, только безнадежно махнул рукой и пронесся мимо, после чего быстро скрылся в холмах.
Глаза у него совершенно безумные, лицо заострившееся, закопченное. Был он небрит и оборван.
Джой посмотрел на хозяина, будто хотел что-то сказать.
«Псих!» – как бы говорил его взгляд.
– У каждого свой путь, – философски заметил Сашка, решился и пошел вперед.
Откуда-то из дебрей эрудиции всплыло, что французы называют сумерки «временем между собакой и волком». И это тревожное определение как-то очень удачно отзывалось в сознании. Но с другой стороны, французы и любовь называют «маленькой смертью», и уснуть по-ихнему «немного умереть».
Воронков чувствовал себя возвращающимся с самого края ночи. Он побывал по чужую сторону ночи, дошел до самого ее края и теперь возвращался. Домой.
– Я вернулся, – сказал он, когда город обступил его со всех сторон.
Сказал и не испытал положенной радости.
Город был тот и не тот. Он был пропитан метастазами бреда. Заражен чужими реальностями.
Сашка брел по обычной своей дороге домой. Но тут и там видел проявления ЧУЖОГО влияния.
Все встреченные мужчины, между прочим, были в зеленых шляпах. И враждебно косились. На него, вообще не имевшего шляпы. Ни зеленой, никакой другой. Вместо голубей копошились какие-то твари, похожие на летучих мышей. Они были противны, нечистоплотны и беспардонны.
Облака в небе выстроились в паучью сеть. Солнце-паук засело в засаде и едва выглядывало из-за горизонта, надеясь дождаться и поймать Луну.
На улицах вместе с машинами, плывущими будто в воде, рикши, которые вялой трусцой катили, тоже как в воде, упираясь ногами в асфальт, какие-то большеколесые повозки, задрапированные черной кожей. Этакие мини-кэбы на человеческой тяге. Дома понизу поросли синим мхом.
Все виделось как сквозь толстое грязное стекло.
Однако Сашка все больше понимал, что это именно его – НАШ – мир и его город. Просто на него (Сашку или город, или и Сашку и город) наведен какой-то морок. Рассуждать такими категориями было уже просто и не требовало усилия. Не понимая механизмов необъяснимого, которое было постоянно рядом, Сашка приноровился чувствовать в нем, необъяснимом, внутреннюю логику.