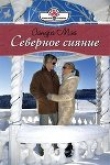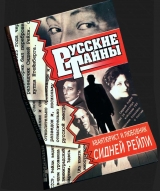
Текст книги "Авантюрист и любовник Сидней Рейли"
Автор книги: Александра Юнко
Соавторы: Юлия Семенова
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Глава 4
ВОНЮЧИЕ ДЕНЬГИ
Хьюстон, штат Техас, 1921 год
«По словам Локкарта, до войны 1914–1918 гг. Рейли, он же Розенблюм, жил в Петербурге, где занимался комиссионерством».
(Из очерка Р. Пименова «Как я искал шпиона Рейли».)
Американцы раздражали Зигмунда Григорьевича. Узколобые, тупые, сугубо прагматичные, зато какой апломб! Уверены в своем превосходстве над всем миром и пытаются навязывать свои идеалы, точнее, стандарты, тем, кто в этом не нуждается. А кругозор ограничен Аляской на севере и Флоридой на юге. Подумаешь, великая страна! Короче говоря, не по душе ему эти янки.
А может быть, Зелинский просто тосковал по родине. Давненько он там не был. После смерти старого Розенблюма не видел Одессы. Зигмунд и Хьюстон-то выбрал потому, что тут есть порт…
Ольге уже за пятьдесят, и почти по полгода она проводит в лечебнице для нервнобольных. Оставлять ее надолго одну просто опасно. С годами Зигмунд Григорьевич стал ощущать почти болезненную привязанность к жене. Как врач, он понимал, что ее истерия каким-то образом связана с загадочной смертью старика Нереинского. Скончался ли он по естественным причинам или Ольга, обезумев от любви к учителю своих детей, способствовала этому, но ее мучило чувство вины. Сейчас, впрочем, это не имело уже никакого значения.
Из-за болезни Ольги они и не заводили собственных детей. Зато приемных сына и дочь Зелинский любил, как родных. Слава Богу, они хорошо устроены. Уж он-то позаботился об этом. У Мити свое дело. И хотя живет он неблизко, аж в Сан-Франциско, но время от времени приезжает с внуками. Машенька долго не выходила замуж, пыталась сделать карьеру, но неудачно, потом сошлась с довольно обеспеченным политиком средней руки и, кажется, счастлива с ним. К ней в Вашингтон Зигмунд Григорьевич ездит сам.
Конечно, не мешало бы наведаться к Базилю в Лондон. Он очень болен, врачи подозревают самое худшее, и Захаров каждый раз по телефону зовет к себе друга. После истории в Порт-Артуре он свято уверовал в его, Зелинского, медицинские возможности. И ничем ему не докажешь, что о раке у него, Зиги, самые общие представления. Эх, Базиль, Базиль! Неужели смерть унесет этого чудесного человека? Благодаря привязчивому греку у Зигмунда Григорьевича есть все, о чем только можно мечтать.
Зелинскому припомнились годы, когда они с Захаровым почти не разлучались. «Сэр Бэзил», как называли его в Англии, ввел своего нового друга в самые высокие финансовые и промышленные сферы. Довольно быстро Зигмунд стал разбираться в судостроении, Базиль восторженно кричал, что он гениален во всем, и очень скоро предложил выступить комиссионером германской фирмы «Блом и Фосс».
– Немцы, – поморщился Зелинский.
– Да хоть негры! – рассердился Захаров. – Что за предрассудки для делового человека? Во-первых, учти, в Германии сотни прекрасных специалистов в нашей области. А во-вторых, если это потрафляет твоему патриотизму, «Блом и Фосс» будут заниматься не чем иным, как восстановлением русского флота, от которого япошки оставили рожки да ножки… В конце концов, я тоже не лишен некоторой сентиментальности и не стал бы предлагать тебе то, что совсем уж дурно пахнет…
Благодаря Базилю Зигмунду удалось открыть свое дело. В канун мировой войны военные суда шли нарасхват, как горячие пирожки. Все страны вооружались до зубов, а если, как любил говорить Захаров, у человека есть револьвер, он непременно научится стрелять. Так оно и случилось. Сэр Бэзил всегда оказывался прав. У него был колоссальный нюх, потому деньги и текли к нему со всех сторон. В шестнадцатом году он предсказал близкий крах России:
– Зига, друг мой, здесь скоро все затрещит по швам. – Они сидели у Донона в Петербурге. – Бери все свое семейство и уезжай куда-нибудь в добрую старую Европу, лучше всего к нейтралам. Эта страна обречена.
Позже, также по подсказке Захарова, Зелинский обосновался в Новом Свете. И здесь, в Хьюстоне, переключился на производство прогулочных судов. Американские толстосумы – большие любители комфорта. Зигмунд строил для них роскошные яхты, эдакие особняки на воде – деревянные панели, дорогая кожа, всякие новейшие приспособления… Сам он этого не одобрял. И вообще в море его укачивало. Но заказчики были довольны.
Сегодня, закончив со всеми делами, Зелинский отправился гулять. Автомобилем, разумеется, он пользовался, иначе выглядел бы в Америке белой вороной. Но с возрастом все неприятней казался запах бензина и появилось чувство дурноты при быстрой езде. Поэтому шофер Зигмунда Григорьевича жил припеваючи и не перетруждался.
Одевшись с помощью камердинера в легкий костюм и удобные туфли, Зелинский нахлобучил на редеющие волосы кепи и вышел на подъездную аллею. Сад вокруг дома был распланирован им самим, а разбивать его помогли английские садовники, любезно присланные Базилем. Теперь здесь все радовало глаз.
Зигмунд Григорьевич вдохнул свежий, чуть припахивающий солью приморский воздух и рысцой припустил по аллее. Но очень скоро дыхание изменило ему, и он перешел на спокойный, равномерный шаг.
Уже вечерело, когда он самой короткой дорогой добрался до городского парка. Это было его любимое место, и порой, когда редкие прохожие не раздражали Зелинского своим американским видом, ему казалось, будто он снова находится в Киеве или Одессе.
Здесь, под сенью старых деревьев, он мог дать волю своей непроходящей ностальгии. Хуже всего было отсутствие всяких сведений о матери и сводных братьях и сестрах. После большой неразберихи в России, после двух революций и гражданской войны Зигмунд Григорьевич совершенно потерял связь с родными. Он пытался наводить справки через АРА и американский Красный Крест, но все поиски были безуспешными. Неужели близкие бесследно сгинули? Он почувствовал, как на глаза навертываются непрошеные слезы, и резко тряхнул головой. Ощущать себя сиротой – это минутная слабость, вполне, впрочем, простительная мужчине, которому скоро полвека. Но лучше не растравлять душу и верить, что где-то там, вдалеке, жива мама и, возможно, уцелел кто-нибудь из Вишневских.
– Эй, мистер! – от дерева отделилась темная фигура, и Зелинский вздрогнул от неожиданности. – Не боишься так поздно гулять?
Опять негр! Вот еще к чему в Америке невозможно привыкнуть – к этим нахальным черномазым попрошайкам. Дать ему, что ли, доллар, чтобы отвязался? Перед прогулкой Зигмунд Григорьевич всегда предусмотрительно рассовывал по карманам небольшую сумму денег именно для подобных случайностей.
– А ты-то сам не наложил в штаны от страха? – ответил он с фамильярностью, которую, как ему было известно по опыту, так любят американцы. – Может, проводить тебя к мамочке?
– Чего мне бояться? Я не один, – хохотнул неизвестный, и Зелинский заметил, что его со всех сторон окружили. Нет, это не негры, просто смуглые ребята, видимо, латиносы, темнота обманула. Совсем молоденькие, лет пятнадцати-шестнадцати. Ну ясно, дурью маются.
– Вот что, парни, – он сменил тон. – Вижу, вам скучно. Хотите развлечься? Идите к девочкам, посидите в баре, выпейте… Это гораздо интересней.
– Девочки денег стоят, – хмыкнул тот самый, первый. Он, по всей видимости, и был коноводом. – Не говоря уж о баре.
– Сколько хватит?
Зигмунд Григорьевич нащупал в кармане пару бумажек и протянул их вожаку подростков.
Разом вспыхнули фонари, и Зелинский окончательно успокоился. Эти щенки наглеют только в темноте.
– Десять зеленых! – присвистнул коновод. – Никак, у тебя, мистер, денег куры не клюют?
– Хватит, Дэви, – вмешался другой юнец. – Оставь его в покое. В самом деле, пошли лучше в бар.
– У него еще есть, Исаак, – спокойно отозвался Дэви. – Ведь правда, мистер?
– Правда, – Зигмунд Григорьевич даже рассмеялся. – Держите еще десятку, парни. Хватит на всех.
– С чего это ты такой щедрый, мистер? – подозрительно прищурился молодой нахал. – Думаешь, мне нужны твои вонючие деньги? Нам просто нравится, когда нас боятся.
– Не заводись, Дэви, – Исаак опасливо глянул по сторонам. – Двадцать зеленых – разве мало? Не зли его. Стоит ему крикнуть – и со всей округи сбегутся копы.
– Нет, этот не заорет! Хочет показать, какой он храбрый. И как у него много в карманах денег.
– Нет, с собой у меня больше ничего нет, – хладнокровно сказал Зелинский. – А у тебя, я вижу, аппетит неплохой. Хочешь получить хороший кусок? Приходи завтра на Роуд-стрит, 15, спроси мистера Розенблюма. И ребят своих приводи. Мне нужны толковые парни. Заработаете столько, что не понадобится пугать по ночам прохожих. Роуд-стрит, 15, мистер Розенблюм, – повторил он.
– Я думал, ты гой, – недоверчиво заметил Дэви. – Не слишком похож на нашего.
– Когда заработаешь, тоже станешь похож на приличного человека, – Зигмунд Григорьевич повернулся и, не оглядываясь, зашагал к выходу из парка.
Из «БЛОКЪ-НОТА» неизвестного
«В последнее время с удивлением обнаружил, что все больше и больше становлюсь похож на отца. Разумеется, никаких внешних аксессуаров одесского доктора – бородка, пенсне… Но что-то общее есть в складе лица и особенно в глазах. Неистребимо еврейское, вечно озабоченное, страдальческое выражение.
Странно, что я никогда не ощущал себя ни евреем, ни поляком, ни русским. Помню, как обрадовался, получив оценку Базиля:
– Ты – гражданин мира.
Тогда эти слова показались мне открытием, они заглушили давнюю боль: «жидовский ублюдок», «байстрюк» – то, что я услышал от любовника Н., не понимая вполне смысл, потому что он бил меня по лицу, а это было еще обиднее, еще оскорбительней.
Единственный человек, для которого не важно было, кто я, – мама. Может быть, в благодарность за это я и взял ее фамилию? Но и поляком я не был, хотя сносно болтаю по-польски.
Отношения с отчимом были не слишком гладкими, я ревновал его к братьям и сестрам, а потом, когда узнал, что он мне не родной, что-то кричал ему о «русском шовинизме». Теперь стыдно, но не у кого просить прощения, полковник давно истлел в могиле.
Недавно прочитал, что вопрос национальности упирается в то, кем сам себя ты числишь, к какой культуре себя относишь. В таком случае я, безусловно, русский. Чем иначе объяснить эти приступы тоски по родным камням, эту жалящую изнутри ностальгию? Я вздрагиваю, увидев в газетах знакомые по России имена или читая сообщения из Киева, Москвы, Петербурга. Это все мое, и оно болит, как живое, хотя давно отрезано.
Вместе с тем меня тошнит, когда я наблюдаю эмигрантскую возню и беспочвенные надежды «бывших» на то, что Советы сгинут и вернется все, что потеряно. Меня передергивает, когда я слышу американизированную речь их эмигрантских детей… А Митины мальчики вообще уже американцы, по-русски не говорят, хотя и понимают, когда к ним обращаешься…
Господи, думаю я иногда, почему ты послал мне это подвешенное, промежуточное состояние?! Кто я такой и зачем существую на свете? И какой была бы моя настоящая судьба, если бы сызмальства я воспитывался в сознании причастности к чему-то определенному, будь то еврейство или что-либо другое…
Завидую Захарову. Ему плевать, кто он такой – грек, или русский, или «сэр Бэзил»… Ох, надо съездить в Лондон, обязательно!
Может быть, я вообще прожил не свою, а чужую жизнь?..
…сосед по коммуналке вечно пьяный и скандалит. Пригрозил ему, что вызовет участкового и его заберут на пятнадцать суток. Не забыть отдать с пенсии пять рублей, которые занял у Клавдии Николаевны».
Лондон, 1922 год
– Представь себе, друг мой, состояние приговоренного к расстрелу… – пророкотал Захаров и сделал маленький глоток коньяку. – Я уже закончил все дела, отдал последние распоряжения – и вдруг мне сообщают, что опухоль доброкачественная! На радостях я чуть не умер!
Зелинский рассмеялся. Базиль нисколько не изменился, только немного осунулся после операции. Выпуклые глаза-сливы светились на оливковом лице прежним веселым жизнелюбием.
– Как самый лучший врач всех времен и народов, – Зигмунд Григорьевич указал на бокал, – спиртное я бы не рекомендовал.
– Ага, – подтвердил Захаров. – Профессор Куинси то же самое говорит. Но какой, скажи на милость, смысл жить, если не курить, не пить и не любить хорошеньких девочек? Помнишь Пепиту?
– Я потом искал ее в Париже, – кивнул Зелинский, – но и следа не нашел.
– Она в Англии, – Базиль вкусно затянулся толстенной сигарой и выпустил дым через ноздри. – Одна воспитывает сына.
– Так она вдова? – грустно спросил Зигмунд Григорьевич.
– По крайней мере, добивалась этого статуса, чтобы получать пенсию от военного ведомства, – сообщил Захаров и пошутил: – Она стала бы миллионершей, если бы ей выплачивали за всех, чьей вдовой она была…
Зелинский улыбнулся.
– Кстати, знаешь, кто отец ее ребенка? – Базиль снова отхлебнул коньяка. – Молва утверждает, Джордж Рейли.
Зигмунд пожал плечами. Это имя ничего ему не говорило.
– Как же так! – возмутился Захаров. – Для склероза ты еще молод. Напрягись! Порт-Артур… Ну же, Зига! Мы сидим у Ханссона и играем в преферанс… Тепло? Буквально накануне войны… Нас четверо: я, ты, Ханс и… Еще теплее? Помнишь англичанина, который обобрал меня до копейки? Ну, того, из военной разведки?
– Да, был англичанин, ему везло невероятно, – вспомнил наконец Зелинский.
– У него-то и был впоследствии роман с известной тебе дамой, – с удовлетворением сказал Базиль. – Так она, по крайней мере, утверждает. В картах был удачлив, это верно. Но потом ему крупно не повезло. Был на каком-то секретном задании, кажется, даже в нашем с тобой отечестве, и не вернулся оттуда.
– Вот как… – протянул Зигмунд Григорьевич. – Да, Россия сейчас – гиблое болото. Я все никак не могу своих отыскать. Может быть, жив кто-то из близких, нуждается, голодает… А я ничем не могу помочь. Поверишь ли, иной раз думаю: лучше бы знать наверное, что все до одного умерли или убиты, чем так вот мучиться неизвестностью…
Он залпом выпил коньяк. Захаров легонько похлопал друга по плечу:
– Не падай духом! Рано или поздно Россия должна будет наладить отношения с цивилизованным миром. И тогда ты сможешь получить любую информацию о своих родственниках.
– Когда это будет и будет ли вообще? – уныло сказал Зелинский. – Матери, если жива, уже под семьдесят. Хоть бы увидеть ее разок, обнять, прощения попросить за все огорчения, которые причинил по молодости да по глупости…
Он заплакал. Чувствительный Базиль тоже засопел носом.
– Не трави душу, друг мой…
Вдруг глаза его заблестели, смуглое лицо приобрело добродушно-плутовское выражение.
– Я знаю, что делать! – воскликнул грек. – Чем, скажи, мы хуже покойного дружка Пепиточки? В конце концов, чему быть, того не миновать. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет…
– К чему ты клонишь? – недоумевал Зигмунд Григорьевич. – Что предлагаешь? Записаться, что ли, в британскую разведку?
– Отнюдь, мой друг, – Захаров чуть не приплясывал от возбуждения. – Это совершенно излишне. К тому же, по моему мнению, нас может забраковать военная медкомиссия… Мы изберем иную тактику!
– То есть? – все еще не понимал Зелинский. – Ты что, собираешься вместе с бароном Врангелем снова высадиться в Крыму? Или сдаться большевикам?
– Ни то ни другое, – Базиль победоносно пыхнул сигарой. – Мы станем контрабандистами!
– Ничего не понимаю. Ты здоров ли?
– Типун тебе на язык! Мне, конечно, кое-что вырезали, но в отношении моей головы можешь не сомневаться… Мы проникнем в Советскую страну нелегально, через Польшу… Или, если пожелаешь, через Турцию. Переоденемся – я рабочим, ты колхозником…
Зигмунд Григорьевич не знал, смеяться ему или досадовать на друга.
– Не проще ли подать заявку на концессию? Я слышал, что даже Путилов и Рябушинский предлагают большевикам свои проекты…
– С тобой невозможно разговаривать, – вдруг обиделся Захаров. – Концессии, проекты… Никакого полета фантазии! А я уже представил, как мы с тобой, мой друг, крадемся через границу в кирзовых сапогах и фуфайках… Это гораздо романтичней!
Немного истории
«Мы смотрим отсюда на наши фабрики, а они нас ждут, они нас зовут. И мы вернемся к ним, старые хозяева, и не допустим никакого контроля. Восстановление прав собственности – вот на чем следует настаивать. Для этого необходимо наладить контакты с новой нэпманской буржуазией внутри страны».
(Из выступления П. Рябушинского на торгово-промышленном съезде в Париже, май 1921 года.)
«В приемлемой для большевиков форме произойдет вмешательство в их управление страной: сначала в сфере финансов, а потом, ставя новые требования при каждом авансе, постепенно можно будет овладеть всем правительственным аппаратом».
(Из проекта восстановления России А. Путилова.)
«Определенная часть белогвардейской буржуазии превосходно понимает значение концессий и заграничной торговли для Советской власти».
(В. Ленин.)
В 1921–1924 годах из-за рубежа в Советскую Россию поступило более 1200 предложений на концессии. Многие из них исходили от русских эмигрантских торгово-промышленных кругов. Однако Советское правительство проявляло большую осторожность при заключении сделок, стремясь сохранить в руках государства все командные высоты в народном хозяйстве.
Глава 5
ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ – ЛИШНИЕ СЛЕЗЫ
Москва, Лубянская площадь, август 1924 года
Молодой следователь ОГПУ Владимир Арнольдович Стырне вошел в кабинет и тщательно запер за собой дверь.
– В шахматишки? – понимающе кивнул Павел Иванович, сидевший за соседним со Стырне столом. – Ну давай… – и он потянулся к сейфу, где между папками с делами затесалась шахматная доска.
– Нет, – Владимир Арнольдович причесался перед маленьким зеркальцем, висевшим на стене, внимательно осмотрел расческу, подул на нее и спрятал в нагрудный карман. – Есть разговор, Пал Иваныч.
– Случилось что? – насторожился Пухляков.
– Случилось, – Владимир Арнольдович уселся на стул и вздохнул. – Не нравится мне все это…
– Что? – недоумевал Пухляков.
– Все, что творится в нашем управлении, – Стырне говорил тихо, склонившись к лицу своего собеседника. – Нет порядка…
– Нету, – с готовностью согласился Павел Иванович. – Жалованье когда должны были дать? Позавчера. А сегодня я пошел к бухгалтеру с этим вопросом, так он, подлец, меня отматерил. Иди ты, говорит, по известному адресу, когда будут деньги, тогда и получишь. Что я, ишак, что ли, даром пахать?! Да я…
– Я не о том, Пал Иваныч, – брезгливо поморщился латыш. – Феликс Эдмундович все время болеет, его заместители всю работу пустили на самотек. И это в то время, когда следует быть настороже. Социалистическое отечество в опасности…
– В какой еще? – нахмурился Пухляков. – Думаете, будет война?
– О, она уже идет, страшная, невидимая глазу война. Нашу страну заполонили капиталистические элементы. Комиссионеры! Знаем мы этих комиссионеров! Цель у них одна: нажиться на богатствах нашей родины и свергнуть рабоче-крестьянскую власть. Вы газеты читаете?
– Ну, – кивнул Пухляков. – От корки до корки. «Правду», «Известия», «Труд» и еще «Пионерскую правду». Ее мой младший из школы приносит. А также – журнал «Крокодил».
– В таком случае вы должны знать, какую подрывную деятельность ведут иностранные разведки. Под видом концессионеров они направляют сюда шпионов, которые вербуют идейно неустойчивых спецов из бывших и организовывают взрывы, поджоги, убийства.
– Вы что же, Владимир Арнольдович, младенцем меня считаете? – обиделся Пухляков. – Думаете, я сам об этом не знаю? Да я ночей не сплю…
– Простите, дорогой Пал Иваныч, я просто лишний раз хотел вам напомнить, что мы не имеем права сидеть сложа руки… Пускай товарищи Менжинский и Артузов занимаются пустой болтовней, пускай… Кроме них есть еще и преданные делу люди – это мы с вами, это десятки таких, как мы. И мы не дадим врагу безнаказанно действовать на нашей территории.
– Не дадим! – Павел Иванович стукнул по столу кулаком.
– Смотрите, что получается, – горячо продолжал Стырне. – Шпионы приходят и уходят, а чекисты бездействуют. Вот, – он вытащил из кармана обрывок пожелтевшей газетной страницы. – Я уже много лет это храню…
Пухляков нацепил на нос очки и, шевеля губами, прочел:
«…приговорен к расстрелу. Этому заклятому врагу Советской власти удалось бежать. Но участнику заговора, английскому агенту Саднею Джорджу Рейли все же не уйти от возмездия…»
– Это из «Правды» восемнадцатого года, – Стырне забрал из рук Павла Ивановича обрывок газеты, аккуратно сложил его и спрятал в карман. – Помните, заговор послов?
– Да, что-то припоминаю…
– Так вот, где этот Рейли?
– Где? – Пухляков поднял на лоб очки.
– Здесь! – Владимир Арнольдович ткнул пальцем куда-то в пол. – Я уверен, что он снова здесь, в нашей стране. Приехал сюда под видом какого-нибудь комиссионера и ведет подрывную работу. Мы обязаны его найти и наказать по всей строгости закона, чтобы другим неповадно было…
Париж, 1924 год
– Снова просители, – доложил лакей Николай.
– Гнать их в шею! – в сердцах приказал Зигмунд Григорьевич. – Надоели!
Стоило ему на несколько месяцев обосноваться в Париже, улаживая дела перед поездкой в Россию, и от посетителей не стало отбою.
Первым явился, без всякого, к слову сказать, приглашения, советский уполномоченный по репатриации. Зелинский почувствовал себя даже как будто польщенным и принял его очень вежливо.
– Вы ведь не участвовали в белом движении? – вкрадчиво спросил уполномоченный.
– Помилуйте! – удивился Зигмунд Григорьевич. – Я уехал из России в шестнадцатом году и с тех пор туда не возвращался.
– А отчего же теперь собираетесь? – последовал вопрос.
– У меня разрешение… Это сугубо коммерческое предприятие… Понимаете, мы с вашим правительством как бы заключаем договор, – стал объяснять Зелинский. – Это влечет за собой определенные выгоды, в основном – для советской стороны.
– А ваш-то какой интерес? – не отставал уполномоченный. – Наверно, преследуете, хе-хе, свои цели?
– Да, преследую, – устало отозвался Зигмунд Григорьевич. – У меня в Киеве перед мировой войной осталась мать. Ни о ней, ни о моих братьях я с тех пор не имею никаких сведений… Одна надежда – самому разыскать хоть кого-нибудь.
– А почему бы вам, уважаемый господин Зелинский, не вернуться насовсем?
– Пока не могу сказать вам ничего определенного. Еще неизвестно, как сложатся мои дела…
Уполномоченный не оставлял Зигмунда Григорьевича в покое, наведывался множество раз, и в конце концов Зелинский велел Николаю на порог его не пускать.
Но поток других посетителей не прекращался. Люди встречались разные, но большинство из них искали одного – денег. Некая дама в сильно поношенном платье, рыдая, рассказала свою эпопею. Находясь в Берлине, она доверила все свои сбережения некоему аферисту Массино, который предложил ей свои услуги по помещению капитала и обещал при этом платить пятнадцать процентов в месяц.
– Если бы я знала, какой он негодяй! – плакала женщина. – И зачем только я ему поверила! Но ведь платил, платил ежемесячно почти полгода, а потом бесследно исчез. Кто-то из знакомых сказал, будто бы видел его в Париже, я заняла денег и приехала его искать, но не нашла…
Большинству нуждающихся Зелинский оказывал посильную помощь, но очень скоро понял, что на это не хватит никаких средств. Тем более что многие просто пытались использовать его. Так, однажды к Зигмунду Григорьевичу приехал на собственном автомобиле некий господин, отрекомендовавшийся:
– Кадет и адвокат Аджемов, к вашим услугам.
– Очень любезно с вашей стороны почтить меня своим визитом, – сдержанно ответил Зелинский. Он уже научился осторожности и знал, что с русскими визитерами следует держать ухо востро.
– Могу устроить вам выгодную финансовую операцию, – развязно предложил Аджемов, любуясь огромным, по-видимому, фальшивым бриллиантом в своем перстне.
– Благодарю, не нуждаюсь, – еще более сухо ответил Зигмунд Григорьевич.
– Но вам, конечно, нужен адвокат! – воскликнул гость. – Приходите, представьте себе, в суд… А защищать ваши интересы некому! Французские законы, знаете ли…
– Судиться я ни с кем не собираюсь, – отрезал Зелинский и велел Николаю проводить господина Аджемова.
Были среди просителей и по-настоящему несчастные люди, которые волею случая оказались на чужбине и очень страдали вдали от родины. Прослышав, что Зелинский едет в Россию как концессионер, они умоляли захватить их с собой в качестве слуг, компаньонов, клерков – кого угодно! Зигмунд Григорьевич мало чем мог помочь. В основном советовал обратиться в соответствующие инстанции по репатриации.
Однажды какая-то экзальтированная дама буквально бросилась к его ногам, умоляя спасти от голодной смерти ее внуков-сирот. Когда женщина подняла залитое слезами лицо, он с изумлением узнал в ней Нину, свою давнюю киевскую возлюбленную, изменившую ему с Павлом Ивановичем Пухляковым. Для Зелинского это было полной неожиданностью. Он помнил подругу матери моложавой цветущей женщиной, а перед ним стояла на коленях семидесятилетняя старуха.
– Что это вы, Нина Михайловна! – Зигмунд Григорьевич поднял даму с пола. – Можно ли так? Я дам вам денег, дам, только успокойтесь… Я не оставлю вас!
Но женщина снова залилась слезами.
– Милый, милый! – вскрикивала она. – Бог вас вознаградит за все то добро, которое вы делаете людям!
– Когда вы уехали из России? – Зелинский предпочел перевести разговор в другое русло. – Вам известно что-нибудь о моей матери? Или о сводных братьях и сестрах?
– Мы бежали из Клева в восемнадцатом году… Варвара Людвиговна была тогда жива, а дети ее здоровы… – вот то немногое, что могла сообщить Зигмунду Григорьевичу когдатошняя киевская красавица.
Он отдал ей всю наличность, которая была в бумажнике, и просил в случае необходимости обращаться к нему или представителю его фирмы во Франции.
Эта встреча наполнила сердце Зелинского горечью. И в который раз он подумал о том, что поездка в Россию может оказаться совершенно безнадежной…
Из «БЛОКЪ-НОТА» неизвестного
«Недавно прочел у Куприна: «Ну что же я могу с собой поделать, если прошлое живет во мне со всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а теперешняя жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не переменяемая истрепленная лента фильмы». И подумал – как обо мне сказано.
Все мы находимся там, в прошлой жизни, в стране, которой уже нет на карте. Знаешь, что ничего вернуть невозможно, и все-таки надеешься – а вдруг?
История переезжает тебя колесом по хребту и не спрашивает, хочешь ты того или нет. У нее своя правота, ей дела нет до одного, отдельно взятого индивидуума. А ты корчишься с перешибленным хребтом, все пытаешься доказать, что пострадал незаслуженно, что ты – целый мир, огромная вселенная, что ты, в конце концов, хоть чего-нибудь да стоишь…
Иногда я думаю, что никакой романист не может переплюнуть реальную жизнь самого обычного, даже заурядного человека – ему просто не хватит фантазии. Роман – условность, игра со своими правилами: столько-то действующих лиц, чтобы читатель, не дай Бог, не сбился и не запутался, определенное место действия, если на стене висит ружье, оно должно выстрелить – и прочие ограничения. Непридуманная же история – возьмем, ктгримеру, мою собственную – тем и отличается, что не затрудняет себя этими фокусами и трюками. Она нелогична, бессмысленна, непредсказуема и тем страшна. Поэтому глупо задаваться вопросом, хочешь ли ты умереть внезапно или заранее подготовиться к переходу в иной мир. Даже если тебе суждено дожить до глубокой старости и достойно скончаться с правнуками, это не более чем прихоть судьбы. К смерти надо быть готовым каждую минуту существования, будь тебе двадцать, сорок или девяносто. Никто никому не воздает по заслугам: добродетель попираема и осмеяна, злоба, корысть и предательство ненаказуемы. Ибо жизнь не есть роман, написанный в утешение читающему».
Стамбул, 1924 год
– Значит, все-таки покидаешь меня? – Захаров обнял друга, его глаза наполнились слезами.
– Помилуй, Базиль, это была твоя идея! – Зигмунд Григорьевич не сумел скрыть удивления. – Кто, как не ты, разрабатывал проекты, один другого фантастичней, моего возвращения в Россию?
– То была игра, мой друг… – грек отер мокрые щеки. – Я не мог подумать, что для тебя все это настолько серьезно.
– А концессия? – не поверил Зелинский. – Ты вложил огромные средства… Не понимаю!
– Я и сам не понимаю, почему это сделал, – улыбнулся сквозь слезы Захаров. – Наверно, хотел сделать для тебя что-нибудь приятное… Ведь когда тебе хорошо…
– …я счастлив, потому что хорошо моему другу, – закончил Зигмунд Григорьевич уже не раз слышанное высказывание. – Спасибо, дорогой мой, единственный мой!
Они еще раз обнялись. Носильщик-турок терпеливо ждал, пока господа простятся у трапа парохода «Решид-Паша».
– Может, все-таки лучше было бы через Польшу? – спросил Базиль.
– Да нет, так я смогу побывать в Одессе, поклониться праху отца, а уж потом отправлюсь в Киев…
– Я не об этом, – губы Захарова кривились в попытке улыбнуться. – Может быть, все-таки лучше было проникнуть в Россию нелегально…
– Не думаю, – возразил Зелинский. – Ты хочешь, чтобы меня арестовали, как какого-нибудь Савинкова? Я же не террорист, зачем мне прятаться? Я предприниматель и еду открыто, со всеми документами, с разрешением и договором… Так что ты можешь быть спокоен, что со мной не случится ничего непредвиденного. Меня не убьют, не расстреляют. Я иностранный подданный, то есть вполне неприкосновенное лицо. Если от меня не будет вестей, тогда ты, как мы и договаривались, начинаешь меня разыскивать по официальным каналам. Это гарантия, Базиль.
– Угу, – уныло подтвердил Захаров. – Но я предпочел бы тебя не отпускать. Может, никуда не поедешь, а, Зига? Черт с ней, с неустойкой! Деньги – это всего лишь деньги. Дороже тебя у меня никого нет…
– Ну вот, опять начинается, – вздохнул Зигмунд Григорьевич. – Сколько раз тебе говорить – это обычная деловая поездка. Если вдруг что не так, я посылаю тебе в Лондон телеграмму и немедленно возвращаюсь.
«Решид-Паша» дал гудок к отправлению. Носильщик встрепенулся и выжидательно посмотрел на клиента.
– Ну, все, – Зелинский в последний раз обнял друга и стал подыматься по трапу. – Долгие проводы – лишние слезы.
Носильщик потащил вслед за ним чемоданы.
Сэр Бэзил долго стоял на пристани, глядя вслед отплывающему пароходу.
«Был на могиле отца тчк еду Киев тчк Зига»
(Телеграмма, присланная Зелинским из Одессы.)
«Впечатлений очень много. Всего не расскажешь. Здесь все не так, как представлялось. Развеялись многие предрассудки, бытующие на Западе. Ни о матери, ни о Вишневских – никаких новостей».
(Открытка, присланная Зигмундом Григорьевичем из Киева. На лицевой стороне – плакат с надписью «Слава Великому Октябрю!»)
«Дорогой друг! Твои опасения были совершенно напрасны. В Киеве встретили меня очень радушно и позволили порыться в архивах. Но, к сожалению, часть бумаг утрачена во время гражданской войны, и я пока не нашел свидетелей, что-либо знающих о моих близких. Зато за это время я много увидел и осознал. Я ожидал застать страну разрушенной, нищей, голодной. А увидел страну возрождающуюся. Вместо вымирающего народа – народ воскресающий. Живя здесь даже так недолго, как я, не можешь не проникнуться настроениями окружающих людей, не можешь не интересоваться всем, что происходит в экономике, политике, да и просто в быту. Самое модное в России сейчас слово – «энтузиазм». Это то самое одушевление, с которым весь народ, как один, стремится выполнить и перевыполнить «пятилетку» (еще одно новое слово). Представь себе, Базиль, выросло целое поколение, ничего не помнящее о прежней жизни. Мы для этих молодых людей – какие-то доисторические монстры, обломки прошлого. По улицам то и дело проходят, маршируя, пионерские отряды. Пионеры немного напоминают знакомых тебе бойскаутов. Они носят короткие темные штаны и светлые рубахи, а под воротом повязывают красный галстук, который называют частицей знамени своих отцов и старших братьев. Ходят они строем, под барабан, отбивающий дробь, во главе с вожатым, который постарше годами. Зрелище немного странное, но до слез волнующее. Наверно, потому, что я вспоминаю внуков.
Остановился я в гостинице «Континенталь», потому что дом, где была квартира отчима, национализирован. Но я заходил в него и даже побеседовал с людьми, которые живут в моей комнате (квартира очень плотно заселена разными семьями). Их нисколько не смутило, что я иностранец и эмигрант, к тому же когда постоянно сопровождающий меня «товарищ» (здесь все обращаются друг к другу так, слово «господин» звучит анахронизмом и вызывает подозрительность) Сергей объяснил им, что я разыскиваю родственников, все готовы были помочь, но не могли, т. к. поселились здесь значительно позже, уже после второй революции.
Обедаю в ресторане. Еда вполне приличная, хотя и без изысков. Люди одеваются чисто, аккуратно, но, на мой вкус, несколько однообразно, особенно мужчины. Дамы же, как и всюду в мире, стремятся выглядеть хорошо.
Как Ольга? Получил ли ты письмо от Мити? Он обещал заботиться о матери в мое отсутствие. Когда я видел ее в последний раз в клинике, она была спокойна, однако не вполне осознавала, что происходит и кто я такой. Очень о ней беспокоюсь. Похоже, ее состояние ухудшилось.
Неожиданно оказалось, что по делам концессии необходимо выехать в Москву: на двух документах должны быть подписи каких-то больших советских чиновников. Товарищ Сергей, который меня сопровождает, очень любезно заверил, что это пустая формальность и сразу же за получением подписей и печатей можно будет развертывать производство. Вместе с Сергеем мы сели в поезд, следующий в Москву. Проводница в белой наколке принесла чаю. Я жадно смотрел в окно вагона, излечиваясь от своей застарелой (восьмилетней) ностальгии, а когда устал, принялся читать советские газеты, откуда почерпнул немало полезной информации о здешней жизни вообще и об экономической – в частности. У меня чешутся руки, так хочется поскорее взяться за работу. Сергей обнадежил меня, что после соответствующего прошения я смогу получить доступ в центральные архивы и что-либо разузнать о своей потерянной семье. Наконец объявили о прибытии в столицу (теперь она в Москве), где нас должны были встречать коллеги Сергея, опекающие меня в главном городе большевиков. Их двое, оба в кожаных куртках, довольно интеллигентного вида, один закончил рабфак, назвался Лито…»
(Незаконченное письмо Зелинского Захарову (цитируется по секретным архивам ОГПУ.)