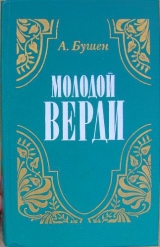
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
– Теперь дайте сюда малыша, – сказала Гита. И протянула руки. Марианна осторожно передала ей сына. Он был туго запеленут – вся в белом куколка со смуглым личиком – и крепко спал. Все утро спал и не просыпался, несмотря на суматоху. Спокойный ребенок. Подруги посылали Гите воздушные поцелуи.
– Addio! Addio, Гита.
В толпе переговаривались:
– Посмотрите на жену маэстро, до чего мила!
И какая-то старуха в черном платке, седая и строгая, сказала громко:
– Жена маэстро – славная женщина.
– Едем, едем! – говорил композитор. Его начинала раздражать вся эта затянувшаяся церемония проводов. Ждать было нечего. Все баулы и свертки были сложены и размещены в карете.
– С богом, – сказал синьор Антонио.
Но тут Тереза бросилась сестре на шею, вся в слезах.
– Я буду скучать без тебя, Гита. Я не могу жить без тебя!
Джованни снял ее с подножки и с силой захлопнул дверцу кареты. Стекла задребезжали. Кучер натянул вожжи. Музыканты заиграли громко и фальшиво. Маэстро поморщился. Сырость все же попала в медные инструменты. Карета тронулась.
И в эту минуту теплый весенний ветер разогнал клубившиеся пухлые облака в том месте, где было солнце. И, как это бывает в таких случаях, все мгновенно преобразилось. Стало светло и празднично. Точно по заказу. Как в театре.
– Радуга, радуга! – кричали школьники. И прыгали, и хлопали в ладоши. Толпа аплодировала. Радуга была очень яркой и широкой. Она перекинулась аркой через весь горизонт.
– Это хорошее предзнаменование, – сказал подеста.
Синьор Антонио ничего не ответил. Он смотрел вслед отъехавшей карете. Синьора Мария вытирала глаза кружевным платком.
– Ах, боже мой, синьор подеста, – сказала она, – кто может знать, что их ожидает? Я так боюсь за мою девочку. Он увозит ее в чужой город, где нет ни дома, ни родных, ни друзей. Все у них так неопределенно, ненадежно – подумать страшно! Ребенку полгода… старшую малютку они уже потеряли… Семейное счастье хрупко, синьор подеста. Разбить его так легко.
Толпа заметно редела. Там, где только что стояла карета, спокойно разгуливали голуби. На соборной колокольне пробило два. Люди возвращались к привычным делам и заботам, но по пути многие все еще продолжали говорить о маэстро.
Одни говорили, что Верди ждет в Милане бесспорный триумф. Года не пройдет, как его имя прогремит по всей стране, вот увидите. Другие под большим секретом передавали друг другу, что первая написанная маэстро опера «Оберто» принята знаменитым импресарио Мерелли и будет поставлена в театре Ла Скала.
Но клерикалы, враги Верди и филармонической партии – они пришли воочию убедиться в том, что маэстро уехал, – усмехались недоброй усмешкой. «Не будем торопиться. Поживем, увидим». И выражение лица у них было такое, точно они уже видят композитора развенчанным и посрамленным.
Лауро Контарди шел домой. Он был печален. Сейчас только он один, кроме Убальдо, знает о провале вердиевской оперы, а утром об этом узнает весь город, узнают враги и злопыхатели. И дьявольские языки этих врагов и злопыхателей, языки, временно парализованные тем, что первая опера Джузеппе прошла в Милане с успехом, завтра с самого утра начнут болтаться и трезвонить, лихорадочно и без умолку, как колокола под рукой пьяного звонаря.
Какое торжество для клерикалов, для церковного совета, для настоятеля собора, каноника дона Габелли. Лауро мысленно представил себе каноника, его лоснящуюся рожу с пустым черным ртом, его заплывшие жиром глазки, его желтые, точно водянкой раздутые руки, умильно сложенные на круглом, трясущемся от беззвучного смеха брюхе. Лауро казалось, что он слышит голос каноника, высокий и бесстрастный, как у старого кастрата:
– Ну, где же ваш гениальный композитор? А? Где он, этот композитор, который подымал на органе целые бури и своей нечестивой музыкой превращал храм божий в театр? Где он, этот maestro di musica, причинивший столько неприятностей церковному совету? Я вас спрашиваю, где он?
И так как каноник вряд ли будет дожидаться, чтобы ему ответили, он сразу же приступит к поучению.
Он, конечно, скажет, что теперь настало наконец для жителей города время признать свои заблуждения. Ибо каждому должно быть ясно, что в Милане лучше разбираются в музыке, чем в маленьком провинциальном городке, и лучше умеют определить, какая музыка хороша и какая никуда не годится. К оценке высокопросвещенной миланской публики, к суждениям, высказанным в Милане, обязан прислушаться всякий. И уж конечно Дон Габелли призовет на помощь всю силу своего цветистого красноречия, чтобы убедить своих слушателей в справедливости приговора, произнесенного в Милане. И Лауро Контарди подумал, что это удастся подлому иезуиту. Он хитер и неглуп. И он знает свою паству. Он знает, как воздействовать на малодушных и трусливых, на слабовольных и запуганных. Он не побрезгует никакими средствами и пустит в ход любые аргументы. Разве не намекал он уже и раньше на то, что во всех семейных несчастьях, обрушившихся на молодого композитора, он видит перст божий, карающую божью десницу? Что же скажет он теперь? Какие доводы и аргументы найдет он, чтобы унизить Верди как композитора и опорочить его как человека?
Лауро Контарди сжал кулаки и застонал от бессильной ярости. Кровь бросилась ему в голову. Лицо его побагровело. Он пришел домой в состоянии крайнего возбуждения, задыхающийся, с трясущимися руками. Он сел ужинать, но есть почти не мог.
Старая Перпетуя сгорала от любопытства: «С чего бы это так расстроился синьор?» У нее чесался язык, так хотелось спросить, что с ним. Но она знала, что он не скажет и все придумывала, как бы все-таки узнать, отчего он так расстроился. Подавая ужин, она преувеличенно хлопотала, суетилась и вертелась вокруг стола. И даже один раз сделала вид, как будто ей послышалось, что он обратился к ней: «Что вы сказали, синьор? Простите, я не расслышала», – хотя отлично знала, что он ничего не говорил.
Свеча догорела. В комнате стало темно. Перпетуя подала хозяину кофе и принесла новую свечу. Но он сказал: «Не надо», – и ей пришлось уйти. Он продолжал сидеть за столом, пил кофе и курил, курил, не переставая, одну папиросу за другой.
Перпетуя мыла посуду и прислушивалась, но ее не звали. Она не могла дольше пребывать в неведении, оставила тарелки в воде, вытерла руки и решительно вошла в столовую. Было совсем темно, и она видела только красный огонек папиросы. Он то вспыхивал, то потухал, как догорающий уголек в камине.
– Синьор напрасно сидит в темноте, – сказала Перпетуя, – темнота – дурная советчица, говорят старые люди. Она нагоняет на душу печаль. А синьор и так печален и огорчен, я уж вижу. Не заварить ли синьору липового цвета? Дон Винченцо, мой прежний хозяин, господь да упокоит его душу, – Перпетуя перекрестилась, – очень любил липовый цвет. Я, бывало, частенько заваривала ему. Он прибавлял туда несколько капель снадобья из такой пузатенькой бутылочки, она стояла у него под ключом, в шкапчике возле кровати, и ключ он всегда держал при себе, он не расставался с этим ключом, он носил его на цепочке на руке, вместе с четками. Аромат от этого снадобья распространялся на всю комнату, что-то необыкновенное, какое-то райское благовоние. Я думаю, это были чудотворные капли. Дон Винченцо, царство ему небесное, очень любил липовый цвет с этими каплями. Жаль, я не знаю, что это было, я бы посоветовала синьору. Дон Винченцо выпьет, бывало, и скажет: «Перпетуя, налей мне еще. Это разгоняет тоску, это веселит сердце, это согревает душу, это божий дар, Перпетуя». И я отвечала ему: «Да, падре». Он не гнушался беседовать со мной, святой был человек.
Лауро Контарди молчал и курил. Перпетуя не унималась:
– Или, может быть, позвать цирюльника? Он поставит синьору пиявки, это очень хорошо помогает. Пиявки облегчают сердце, отсасывают от него кровь. А что нужно огорченному сердцу? Облегчить его, оттянуть от него кровь.
Огонек папиросы прочертил в воздухе светящуюся параболу и погас.
– Замолчи, старая перечница!
Перпетуя обиженно фыркнула и шмыгнула за дверь. Старая перечница! Никогда дон Винченцо не называл ее перечницей. Да еще старой перечницей! Вот еще!
Лауро Контарди пошел в комнату, служившей ему одновременно и спальней и рабочим кабинетом. Тщательно запер дверь, вынул из замка ключ и аккуратно заткнул бумагой замочную скважину. Потом засветил высокую желтоватую свечу и сел в кресло к столу.
На кухне Перпетуя гремела посудой. Можно было подумать, что она с ней воюет. Право, это была настоящая война. Можно было удивляться, как это она еще ничего не расколотила. Она швыряла чашки и тарелки в стенной шкаф безо всякой осторожности. Подумаешь тоже, посуда! Бог с ней совсем, с посудой! Что такое сказал хозяин? Старая перечница! Почему это вдруг старая перечница? Во-первых, она еще совсем не старая, а средних лет. В самом расцвете лет, можно сказать. И почему это девушка в ее возрасте считается пожилой, а про вдову, например, в этих же годах говорят – она еще молода? Это очень обидно для девушки! Ведь и она, Перпетуя, могла бы быть вдовой, и тогда про нее говорили бы – она еще молода. Но она девушка. И гордится этим. Не далее, как в прошлую пятницу отец Джачинто, ее духовник, сказал ей: «Вы, Перпетуя, примерная девушка, вы всегда можете получить от нас самые лучшие рекомендации». Это что-нибудь да значит! Отец Джачинто не станет говорить зря, и уж, конечно, он никогда не назвал бы ее старой перечницей. Правда, в этот раз он задал ей вопрос, который ее очень озадачил. Он спросил: «Скажите, дочь моя, много ли пишет ваш хозяин?» И она ответила: «Да, падре. Когда он дома, то он или играет на своей новомодной трубе, или пишет». Тогда отец Джачинто спросил, много ли писем пишет синьор Лауро. А она ответила, что ему писать некому, потому что он совершенно одинок. И вздохнула сочувственно. Но отец Джачинто не обратил внимания на то, какая она заботливая и сердобольная, а опять спросил: «Что же пишет синьор Лауро?» И она сказала – счета и ноты, потому что синьор сам сказал ей так. И это правда, потому что он ведь кассир и музыкант. Но отец Джачинто все не отпускал ее, хотя она уже покаялась во всех своих грехах, и все спрашивал, не пишет ли еще чего-нибудь синьор Лауро? И тогда она должна была признаться, что не знает, потому что синьор, когда занимается у себя в комнате, запирает дверь на ключ, чтобы его не беспокоили, а в замочную скважину разве разберешь, что он пишет?
И тогда отец Джачинто помолчал немного и сказал: «Я научу вас, дочь моя, как узнать даже сквозь замочную скважину, что пишет ваш хозяин. Если он пишет цифры или ноты, рука у него должна двигаться вот так, – и отец Джачинто показал ей движение вверх-вниз, вверх-вниз. – А если он пишет слова, то рука у него будет двигаться гораздо быстрее и вот так», – и отец Джачинто сделал движение по прямой линии и слева направо. Перпетуя не понимала, для чего это нужно отцу Джачинто, но сказала: «Да, падре, я постараюсь». И после этого отец Джачинто произнес молитву и отпустил ей грехи.
И, грохоча посудой, Перпетуя подумала, что сейчас как раз подходящая минута, чтобы узнать, что пишет синьор Лауро. Подглядывать в замочную скважину не грех, раз это ей велено отцом Джачинто. Перпетуя бросила кастрюлю, которую чистила толченым кирпичом, и вытерла руки о передник. Бесшумно ступая в соломенных туфлях, она подошла к двери спальни синьора Лауро и припала жадным глазом к замочной скважине. Вот тебе и раз! Темно. Неужели спит? Не мог же он уйти из дома, не сказав ей.
Перпетуя поковыряла пальцем в замочной скважине. Так и есть. Ключ в дверях. Спит, должно быть. Однако странно. Что это его так расстроило? Ведь он не скажет. Не то, что дон Винченцо, царство ему небесное.
Лауро Контарди сидел в кресле у стола. Он почему-то все вспоминал первое представление россиниевского «Севильского цирюльника». Память восстанавливала одну за другой подробности знаменательной премьеры. Да, много лет протекло с тех пор. Многое изменилось. Изменилась и жизнь. Изменились люди. И он сам стал иным. Постарел, наверно… Впрочем, постарел не один он, а все, кто были молоды в тот вечер. И сам маэстро Россини. Россини и старость – это казалось несовместимым. Но Россини не только постарел. Маэстро был тяжко болен. Вот уже двенадцать лет, как он не написал ни одной оперы. Ни одной! Он, который писал с такой легкостью и блеском! Что случилось с ним? Никто этого не знал. Родину свою он покинул, и странные о нем доходили слухи. Рассказывали, что он был одержим загадочным недугом – не мог слышать музыки, любой звук вызывал у него приступы нестерпимых страданий. По секрету передавали, что маэстро, творец и властелин самых гениальных звукосочетаний, не мог справиться со своим слухом. Всякий услышанный им звук рождал в его сознании некую воющую терцию, и эта неумолимая терция заглушала в его сознании любое музыкальное представление и сводила с ума несчастного композитора. Он лежал в темной комнате и никого не хотел видеть. Друзья не имели доступа к нему. И ухаживала за ним французская синьора, бывшая натурщица, которая по слухам ненавидит Италию и самого слова – Италия – слышать не хочет.
И вдруг три года назад маэстро неожиданно приехал в Милан, по внешнему виду выздоровевший… Но он ничего не написал, кроме пустячков, и не пожелал видеть никого из прежних друзей, так страстно жаждавших встречи с ним. Проводил дни в непрерывных и пустых развлечениях в обществе светских львов и праздных иностранцев. А потом уехал в Париж, так и не повидавшись ни с кем из друзей и разочаровав тех, которые так много от него ждали. И в Париже, говорят, опять заболел тяжко и мучительно и опять ничего не пишет.
Нет, Лауро Контарди не хотел думать о больном, стареющем в молчании Россини. Он опять представил его себе таким, каким он был много лет назад, в вечер премьеры «Севильского цирюльника» – молодым, прекрасным и жизнерадостным юношей, по горло занятым своим хлопотливым, сложным и небезопасным делом. Он видел его опять таким, каким он был в тот незабываемый вечер, когда он так горячо и упорно боролся за свою оперу, боролся до самого конца спектакля, до последней ноты певца, до последнего аккорда оркестра. И Лауро подумал, что это непосредственное участие в борьбе за жизнь оперы на сцене должно было всецело и безраздельно захватывать композитора во время премьеры, должно было отвлекать его от всего, кроме самого главного – борьбы за оперу. И эта борьба – реальная и напряженная – поневоле притупляла у композитора болезненное ощущение собственного поражения.
Лауро наконец понял, почему он все время так упорно думал о «Севильском цирюльнике»: он инстинктивно отгонял от себя мысль о другой опере, о другом провале, о безнадежном провале комической оперы Верди «Царство на один день». Провал оперы молодого Верди представлялся ему подлинной катастрофой.
У Лауро сживалось сердце. Он думал о том, что Верди не принимал участия в борьбе за свою оперу на сцене. Не дирижировал оркестром, не играл на чембало. Но традиция была неизменной. Во время трех первых представлений своей оперы композитор должен был сидеть в оркестре между виолончелью и контрабасом. Он сидел в полном бездействии – делать ему было решительно нечего, – разве что иной раз перелистнет ноты контрабасисту. Он сидел неподвижно и лицом к публике. Лицом к публике, которая не знала ни меры, ни удержу в проявлении своих чувств. И все насмешки, и грубые шутки, все дикие выкрики, свист и улюлюканье композитор принимал прямо в лицо. В лицо и в сердце. В сущности, публика казнила композитора. Он был пригвожден к своему месту, как к позорному столбу, и публика могла расстреливать его в упор.
Лауро Контарди мучительно заволновался. Как перенес Джузеппе это жестокое испытание? Еще одно испытание! Как будто их было недостаточно. В болезненно-угнетенном состоянии духа, с нервами, напряженными донельзя…
И сразу же Лауро рассердился на себя за свое волнение. Стыдно волноваться! Неуместно! Малодушно! Если бы композитор был здесь, он, Лауро, сумел бы поговорить с ним по душам. Ну, что такое провал оперы? Ничто! Вот провалился же «Севильский цирюльник» в первый вечер, когда его поставили, а Россини был и есть величайший композитор современности. Бог с ними совсем, с провалами! У кого их не было? Важно одно: у Джузеппе контракт на две оперы, контракт с тем же Мерелли, и писать он должен для того же театра Ла Скала. Вот это дело! Нечего раздумывать и терять драгоценное время. Встряхнулся после фиаско комической оперы и написал следующую – серьезную. Несомненно, она будет удачной. У Джузеппе есть сила, смелость, пафос. Комическая опера совсем не в характере его дарования. Серьезная – совсем другое дело!
Лауро увлекся. Ему казалось, что он на самом деле отчитывает Джузеппе, ему казалось, что он видит его здесь перед собой. И невольно он вспомнил лицо композитора, когда тот вернулся из Милана вместе с Барецци в июне, после похорон Маргериты. И сразу же Лауро усомнился в том, что его доводы достаточно убедительны. Они хороши, но только при условии, чтобы Верди не слишком близко к сердцу принял неудачу с оперой. А Лауро понимал, что встряхнуться и как ни в чем не бывало приняться за новую работу Верди будет трудно. Не так-то просто обстоит дело с ним. Ведь у Джузеппе провал оперы плюс семейная драма, плюс болезненно подавленное состояние духа. Вот это уже три слагаемых. Двух могло не быть. А три дают в итоге довольно значительную сумму. То есть дали бы, если бы можно было переводить душевные переживания в цифры. Да, многозначное получилось бы число, если бы понадобилось выразить им всю совокупность душевной боли и страданий, быть может, непереносимых. Лауро невольно содрогнулся. Непереносимых… А что если в самом деле Джузеппе не сможет сразу приняться за новую оперу? Вот повод для ложных слухов и кривотолков. Заговорят о том, что страна оскудела, что в народе нет больше ничего самобытного, даже хороших оперных композиторов. Враги национального искусства не дремлют. На карту поставлено будущее отечественной оперы.
Лауро Контарди закрыл лицо руками. И в такой позе просидел долго. Свеча, с которой он перестал снимать нагар, оплыла и погасла. А он все сидел неподвижно и все уговаривал себя. Нет, так не может быть. Он знает Джузеппе с детства. Джузеппе упрям и стоек. У него есть мужество и выдержка. Ему было десять лет, когда отец поместил его сюда в город, в школу. В деревне, где и сейчас живут его родители, никакой школы нет. И мальчик жил здесь в комнатушке под крышей у сапожника Пуньятты. Но каждую субботу и каждый праздник он бегал за семь километров в церковь родной деревни играть на органе. Потому, что уже тогда он служил органистом. И бегал на службу пешком. Семь километров туда и семь обратно. Во всякую погоду. На рассвете. И поздно вечером. В темноте. Глухой ночью. И никогда никому не жаловался. А ведь ему было только десять лет! Многие ли дети способны на это?
Лауро Контарди постепенно приходил в себя. На душе у него становилось легче и спокойней. Он был уверен, что Джузеппе постоит за себя. Он переборет все несчастья и неудачи и сделает то, что ему надлежит сделать. Он оправдает возложенные на него надежды. Уверенность в этом с каждой минутой росла в душе Лауро.
Лауро Контарди был человеком чрезвычайно аккуратным, даже педантичным. Кассир должен быть таким. Он зажег новую высокую желтоватую свечу, достал из ящика письменного стола тетрадь в синей обертке и раскрыл ее. Потом придвинул к себе чернильницу и стал писать.
«Пятого сентября 1840 года в Милане, в театре Ла Скала состоялось представление комической оперы Джузеппе Верди „Царство на один день“. По той ли причине, что опера не оправдала ожиданий высокопросвещенной миланской публики, по причине ли нездоровья примадонны, или по причинам, оставшимся неизвестными – опера потерпела полное фиаско. Название как будто предопределило ее судьбу. Опера продержалась на сцене всего только один день».
Скрыть это было нельзя. Да и незачем было скрывать. Никакого позора в этом не было. И потому Лауро не старался обойти печальный факт молчанием. Нет, он считал себя обязанным внести его в дневник. Для порядка. Честно. И внес его на белую страницу как некий понесенный убыток.
Но, причинив себе боль чистосердечным признанием, он не мог отказать себе в утешении по-своему комментировать совершившееся. С новой строки он написал:
«Поражение ровно ничего не значит. В нем лежит залог победы. Джузеппе Верди захочет взять реванш и возьмет его. Мы еще услышим об этом. Не надо быть слишком нетерпеливым. Надо подождать».
И Лауро Контарди стал ждать.
Прошло немногим больше месяца. Осень в том году наступила рано. Воздух был легким и прозрачным. Небо казалось далеким и твердым, как голубой фарфор. Деревья в парке Паллавичино стали розовыми, золотыми, красными. Они были расположены отдельными группами, как инструменты в оркестре. Отдельно лимонно-желтые, отдельно ржаво-красные, серебристо-серые, темно-зеленые, почти черные: ясень, дуб, тополь, кипарис, плакучая ива. Парк казался замысловатой цветной партитурой, и каждая группа деревьев была как бы строкой на обширной странице этой партитуры. Пышнолиственные, розовые и желтые, трепетали при малейшем дуновении ветерка, как тремолирующая мелодия у струнных. Черно-зеленые, жесткие и неподвижные, высились точно аккордовые соединения, торжественные и напряженные. Так повторялось каждую осень. Перед тем как поблекнуть, облететь и умолкнуть на зиму, парк играл прощальную колористическую симфонию.
Лауро Контарди шел по аллее. Солнце садилось. Косые лучи ласкали голову и плечи мраморной нимфы. У нее было юное, почти детское личико. Маленький ротик улыбался загадочно и чуть разочарованно. Тонкая рука жеманно и зябко поддерживала мраморные складки спадающих одежд.
Лауро Контарди шел, опустив голову. Он шел в глубокой задумчивости. Он шел домой с репетиции филармонического оркестра.
После того как уехал Верди, в городе стало тихо. Духовенство торжествовало. Дон Габелли и его клика беспрепятственно наслаждались своей победой. В церковном совете все только и говорили о том, что опера Верди в Милане провалилась без надежды когда-либо подняться. Ahimé! Вот так композитор!
Но в Филармоническом обществе отсутствие Верди ощущалось болезненно и остро. Музыкальная жизнь в городке замерла. Филармонический оркестр стал собираться реже. Новых музыкальных произведений для разучивания не было. Никто не писал блестящих, поднимающих дух маршей и торжественных увертюр. Никто не умел увлечь и повести за собой оркестр.
Антонио Барецци заметно постарел. Смерть дочери сильно повлияла на него. Он казался усталым и равнодушным. Постоянного дирижера в Филармоническом обществе теперь не было. Оркестром управлял кто попало. Среди молодежи не было ни выдающихся музыкантов, ни самоотверженно и бескорыстно преданных музыке любителей.
Сегодняшняя репетиция тянулась на редкость вяло и печально. Музыканты играли точно через силу. Всем было ясно, что Филармоническому обществу нанесен непоправимый удар. Антонио Барецци показался Лауро особенно удрученным. Теперь репетиции снова происходили у него в доме. У синьоры Марии были заплаканные глаза. С красными глазами ходили Марианна и Тереза. Внизу в галерее стояла сваленной какая-то мебель. Говорили, что она была утром доставлена из Милана. Ее привез вместе с почтой почтальон Ноэлли.
Когда репетиция кончилась, Лауро разыскал Терезу.
– Что это? – спросил он и показал на мебель и тюки, сваленные в галерее.
– Он все прислал обратно, решительно все, – сказала Тереза, – даже подушки себе не оставил. – И заплакала. А потом, шумно сморкаясь и вытирая глаза, прибавила:
– Все приданое Гиты. И расторгнул договор с Мерелли. И адреса его теперь никто не знает. Мама говорит, что он, наверно, не хочет жить.
Лауро зашел к синьору Антонио в его рабочую комнату. Он оставался там недолго. Всего несколько минут. И теперь он шел домой.
Он был такой, как всегда. Почти такой. Может быть, немного молчаливей, может быть, немного печальней. Совсем немного. Во всяком случае, Перпетуя ничего не заметила. Он похвалил ее за ризотто. Он сказал, что ризотто чрезвычайно вкусно. Перпетуя была польщена. Она вспыхнула и затараторила: «Слава тебе господи, уж, конечно, никто не может сказать, что она не умеет готовить ризотто. При всей своей скромности она не может не признаться себе в этом. Уж ризотто она готовить умеет. Не было случая, чтобы это блюдо ей не удалось. Она ничуть не кичится этой милостью всевышнего, она принимает ее со смирением. Она знает свое место. Она ведь всего-навсего бедная служанка. Хотя другая на ее месте, конечно, возомнила бы о себе невесть что. Но она не такая, она…»
Лауро попросил кофе. Перпетуя бросилась на кухню. Когда она вернулась в столовую, синьор был погружен в глубокую задумчивость. Перпетуя недоумевала. Отец Джачинто опять расспрашивал ее про синьора. Спрашивал, кто у него бывает. Она сказала, что у синьора мало кто бывает. Но если кто заходит, то всегда люди почтенные, всем известные в городе, синьор Варецци, например, и другие синьоры из музыкального общества. Заходят ненадолго и говорят все больше о делах общества. Она не могла припомнить ничего определенного, о каких делах общества говорят почтенные, всем известные горожане с синьором Контарди, и у отца Джачинто было строгое лицо. Он был чем-то недоволен. И отпустил ее без обычного благословения, а только произнес, как ей показалось, угрожающе: «Следите, дочь моя, следите!» И вот теперь она с ума сходит от этой слежки. В глазах двоиться стало. Да и синьор такой странный. То как будто бы ничего, все в нем как всегда, а потом вдруг потемнеет, нахмурится, точно ему сказали что-то неприятное. Вот и сейчас – кушал с аппетитом, хвалил ризотто и вдруг, ни с того ни с сего замолчал, задумался, потушил свечу, сидит, точно прислушивается к чему-то.
Перпетуя принесла кофейник и большую белую чашку. Она нарочно оставила дверь в кухню приоткрытой, хотя синьор этого не любил. В кухне горела свеча, и узкая полоска света попадала в столовую.
– Перпетуя, дверь! – крикнул Лауро.
Перпетуя, преувеличенно топая ногами, хлопнула дверью. Так она и скажет отцу Джачинто. Хозяин явно показывает, что она лишняя, что она мешает.
Лауро выпил кофе и выкурил папиросу, одну, как обычно. Как в самый обыкновенный будний день. Потом поднялся из-за стола и пошел к себе. Он шел медленно, тяжело ступая, точно после трудного перехода в горах. Перпетуе показалось, что он сегодня шаркает ногами, как дряхлый старик. Этого с ним никогда не бывало.
Лауро Контарди заперся в своей комнате. Вынул ключ из замка, заткнул замочную скважину бумагой. Скатал коврик и положил его на полу у входа, чтобы свет не просачивался в щель из-под двери. Он стал теперь особенно тщательно законопачивать скважины и отверстия в двери, выходящей в коридор. С того дня, как поймал Перпетую, ковырявшую пальцем в замке. Потом он подошел к столу, сел в кресло, вынул из ящика тетрадь в синей обертке и стал перелистывать страницу за страницей. Так он дошел до записи, сделанной им немного более месяца назад: «В поражении лежит залог будущей победы. Джузеппе Верди захочет взять реванш и возьмет его. Мы еще услышим об этом. Не надо быть слишком нетерпеливым. Надо подождать». Дальше ничего записано не было. Страницы лежали пустыми и равнодушно белыми.
Лауро Контарди прижал руки к груди и смотрел в одну точку. Им постепенно овладевала непривычная сонливость. Он просидел так очень долго. Потом потянулся за гусиным пером. Перья были воткнуты в прозрачную рюмку работы муранских стеклодувов. Рюмка стояла на краю стола, прямо против Лауро. Она высилась на чешуйчатой, смело изогнутой ножке и казалась необыкновенно легкой, почти невесомой. Стекло отливало пурпуром, золотом и синевой. Лауро насилу дотянулся до рюмки. Она уплывала от него куда-то в пространство. Он с трудом двумя пальцами захватил белое, аккуратно подстриженное перо. Рука плохо повиновалась ему, но Лауро не сразу догадался об этом. Он посидел еще немного. Закрыл глаза. Ждал, чтобы рассеялось неприятное ощущение беспомощности. Звать Перпетую он не хотел. Спустя некоторое время ему стало лучше. Он почувствовал внезапный прилив энергии. Попробовал перо на ногте. Стал писать.
Твердым, четким почерком кассира он подводил итоги. Безжалостно. Кратко. Точно. Устанавливал картину краха. Как разорившийся на бирже банкир, который с карандашом в руках в последний раз доказывает самому себе, что потеряно все и жить больше нечем.
Лауро Контарди писал:
«Джузеппе Верди не хочет брать реванша. Он никогда больше не будет писать музыки. Говорят, он тяжко болен. Говорят, он лишился рассудка…»
Перо выпало из рук Лауро. Чернила разбрызгались по бумаге, точно слезинки. Лауро задыхался. Он хотел встать, чтобы распахнуть окно. Но встать уже не мог. Ноги не держали его. Он задыхался. В ушах бился оглушительный звон. Раскатывался гром литавр. Холодеющей рукой Лауро нащупал ворот сорочки.
И вдруг где-то в мозгу точно прорвалась плотина, и хлынула вода, и взвыли чудовищные трубы, и от этого воя распался на куски мир привычных представлений. Лауро показалось, что рушатся стены. Он ударился головой об угол стола и понял, что падает. Но, падая, он успел подумать, что у него не хватило сил пережить гибель последней и единственной мечты.








