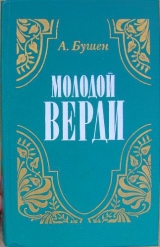
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Но Лауро Контарди ничего этого не знал и знать не мог. Знали об этом только маэстро Провези и Антонио Барецци. Фердинанду Провези написал обо всем старик Ролла. Описал во всех подробностях, как происходил экзамен, и прислал копии с некоторых имевших отношение к делу документов. Прислал копию с отзыва экзаменационной комиссии, копию с доклада Базили директору консерватории графу Сормани Андреани, прислал даже копию с приказа, подписанного австрийским генерал-губернатором Милана, графом Францем фон Гартигом.
А Провези показал все это – письмо и документы – синьору Антонио. И в Буссето только они, маэстро Провези и синьор Антонио, знали правду о том, как Джузеппе Верди не был принят в консерваторию. А остальные горожане, жители Буссето, ничего толком не знали, и слухи о неудачной попытке молодого Верди поступить в Миланскую высшую музыкальную школу ходили самые противоречивые. Определенно известно было только одно: Верди в консерваторию не принят, но остается в Милане и будет заниматься частным образом у Винченцо Лавиньи, концертмейстера театра Ла Скала. Об этом говорили все. Знал это и Лауро Контарди. Но в то время как другие принимали неудачу, постигшую молодого Верди, как нечто уже совершившееся и потому непоправимое, как нечто, к чему бессмысленно возвращаться, Лауро не сдавался и все старался разгадать смысл происшествия, которое казалось ему таинственным и наводящим на самые печальные размышления. Но потом и он успокоился и даже хитро ухмылялся в бороду. Он был уверен, что нашел разгадку нелепого факта. Не сумели распознать подлинного дарования миланские чиновники. Именно «чиновники». Другого названия для них не придумать. Кто они такие, эти экзаменаторы? Чиновники, конечно, а не музыканты. Да еще чиновники, состоящие на службе у австрийского начальства. Что могли они расслышать и понять в музыке молодого Верди?
Зато как ликовал Контарди, когда первая опера Джузеппе «Оберто, граф ди Сан Бонифаччо» была поставлена на сцене театра Ла Скала. Это было победой, и Лауро счел эту победу счастливым предзнаменованием для будущности молодого композитора. Опера имела успех. Лауро Контарди отметил это в своем дневнике. И на этот раз он не ограничился одной лаконичной записью. Он переписал в дневник все выдержки из миланских газет и журналов, в которых хвалили оперу Джузеппе. И он ждал дальнейшего развития событий. Он знал, что импресарио Мерелли, знаменитый и всесильный Мерелли, заключил с Верди контракт на три оперы. Знал, что Джузеппе уже начал писать…
И вдруг – смерть Маргериты. Сначала Лауро не придал большого значения печальному событию. Он всегда считал, что незачем было Джузеппе так рано жениться и обзаводиться семьей. К чему это? Композитор, призванный новыми напевами воспеть и прославить родину, – все равно, что воин. А у воина должны быть свободны руки. Где ж это видано – идти в поход с женой и детскими колясками? Но он простил Джузеппе его женитьбу – бог с ним, – раз семья не помешала ему написать хорошую оперу. Все же, когда умерли дети, Лауро Контарди про себя подумал, что большой беды в этом, пожалуй, и нет. Меньше забот о хлебе насущном, меньше необходимости тратить многие и многие часы на работу кропотливую и бесславную. А когда умерла и Маргерита, Лауро Контарди подумал, что теперь у Джузеппе окончательно развязаны руки. Хотя Маргерита была славной женщиной. Лучше многих. Не кокеткой и не франтихой. Но все же – бог с ней! Мир праху! Не она первая, не она последняя. А Джузеппе убиваться нечего. Он молод. Перед ним вся жизнь. А с женщинами просто. Одну потеряешь, десять найдешь.
Но сегодня, когда Лауро увидел композитора, он понял, что дело обстоит не так, как он думал. И с растущей тревогой он все спрашивал себя: «Что же будет с новой оперой?»
Что было с новой оперой он узнал тогда, когда эта новая опера – комическая – «Царство на один день» была поставлена в театре Ла Скала. Узнал через два с половиной месяца. В сентябре. Узнал со всеми подробностями. О представлении рассказал ему очевидец, его приятель Убальдо Аккарини, торговец галантереей и виолончелист оркестра филармонии. Он ездил в Милан за пополнением ассортимента товаров для своей лавки и был в театре на представлении новой оперы.
Лауро Контарди пошел к Убальдо под вечор. Солнце садилось. В полутемном помещении толпился народ. Лауро с трудом протолкался к прилавку. Убальдо расхваливал нерешительной покупательнице приведенную им сегодня широкую тесьму. Женщина колебалась. Она была приезжей и никого в городе не знала. Внешность Убальдо не внушала ей доверия. Кожа у него на лице была гладкой, точно на картонной маске. Большой мясистый нос казался бутафорским. Плутоватые глаза сильно косили.
Увидев приятеля, Убальдо многозначительно подмигнул ему.
– Санта, я ухожу, – сказал он жене.
– Мне одной не справиться, – сказала Санта.
– Пора кончать торговлю, – сказал Убальдо.
Они поднялись по лестнице во второй этаж. Убальдо закрыл дверь и повернулся к Лауро. Он выглядел растерянным и сконфуженным. Правый глаз косил так сильно, точно хотел рассмотреть переносицу.
– Фиаско, – сказал Убальдо. – Фиаско, фиаско. Боже мой, какое фиаско! – И он схватился за голову.
– Тише, тише, – сказал Лауро. – Не кричи, прошу тебя.
От неожиданности у него перехватило дыхание, и он заговорил прерывающимся, внезапно охрипшим голосом.
– Я не кричу, – сказал Убальдо. – Это в самом деле неслыханное, небывалое фиаско. Самые старые завсегдатаи театра не припоминают ничего подобного.
– Рассказывай все, как было, – сказал Лауро.
– Свистели, – сказал Убальдо. – Боже мой, как свистели! Откуда только достали такие огромные ключи? Как ножами резали.
– С самого начала? – спросил Лауро.
– С увертюры. Так пронзительно, что заглушали оркестр. А потом пошел кошачий концерт. Музыки вовсе не стало слышно. Только свист, свист и свист. И крики – Basta! Basta!
– Не понимаю, – сказал Лауро. На лбу у него выступили крупные капли пота.
Он знал отдельные отрывки из оперы Верди, отдельные отрывки из той части, которая была закончена до последнего несчастья, постигшего молодого композитора. Это была музыка, написанная с большим талантом и знанием дела. Лауро мог подтвердить это в любую минуту. Он был готов поклясться в этом.
– Я слышал четыре номера, под которыми не стыдно было бы подписаться любому мастеру, – сказал он. – Сам Доницетти не отказался бы от них.
Остальной музыки Лауро Контарди не знал. Она была написана героическим усилием воли. В августе. В Милане, куда композитора вызвал импресарио Мерелли. Он вызвал Верди в Милан письмом. Об этом письме говорил Контарди Антонио Барецци. Мерелли выражал композитору соболезнование по поводу понесенной им утраты, но требовал обусловленную по договору комическую оперу. Именно комическая была ему нужна. И так как времени до срока сдачи оперы оставалось мало, Мерелли требовал немедленного приезда Верди в Милан. На просьбу композитора о расторжении договора он ответил отказом во втором письме, где он писал о долге, об обязанностях перед обществом, о дисциплине – словом, о разных высоких материях. О, он отлично знал, с кем имеет дело, этот Мерелли! Джузеппе был такой: он мог разорвать себе сердце, лишь бы не совершить поступка, который даже издали казался бы нечестным. И он живо собрался и поехал. Все это Барецци рассказал Лауро тогда же. И они оба пришли к заключению, что хотя Мерелли и жесток, но, может быть, на этот раз его жестокость – к лучшему. Синьор Антонио говорил, что состояние подавленности, в котором находится Джузеппе, внушает ему серьезные опасения. Может быть, необходимость писать новую оперу отвлечет композитора от тягостных размышлений. Любимое искусство должно помочь ему перенести постигшее его несчастье. И он – Лауро – тоже так думал. И что же получилось? Результат теперь налицо. Теперь уж ясно, что не надо было композитору пересиливать и приневоливать себя. Разве мог он, подавленный и удрученный, писать комическую оперу? Комическую!.. Боже мой!..
– Первое действие так и закончилось под свист и улюлюканье, – сказал Убальдо.
– Дальше, – сказал Контарди и вытер глаза.
– В антракте кто-то пустил слух, что ничего больше не покажут, что спектакль окончен, а потом сказали, что Мерелли и слышать об этом не хочет. Не было такого случая за все время его управления театром Ла Скала и не будет. И потом он еще будто бы говорил, что не все потеряно. Публика переменчива в своих настроениях, а во втором действии есть номера выигрышные для певцов.
– Дальше, – сказал Лауро.
– Дальше… Боже мой, боже мой! Фиаско! И какое фиаско! Землетрясение! Гибель!
– Точнее, – сказал Лауро.
– Свистеть начали еще до того, как поднялся занавес. Знающие люди говорили, что это интрига и кто-то руководит ею. Только кто – этого так и не узнали.
– А певцы? – спросил Лауро.
– Хуже всех, – сказал Убальдо. – Примадонна была нездорова. Голос у нее дребезжал, как треснувшая сковорода.
– А другие?
– О, они сразу возненавидели композитора…
– Ну, конечно, – сказал Лауро.
– …за то, что он написал музыку, которая не нравится публике.
– Конечно, конечно, – сказал Лауро. – Успех для них – это первое дело.
– Без сомнения так, – сказал Убальдо. – Они пели вполголоса, неряшливо и фальшиво, презрительно улыбались, пожимали плечами. Они даже как будто благодарили публику за то, что она так резко выражает свое неудовольствие: «Grazie, grazie! Теперь оперу непременно снимут, и нам не придется больше выступать в таком дрянном спектакле, grazie, grazie!» Право, у них был такой вид.
Лауро боролся с удушьем.
– Негодяи, – сказал он, – корыстолюбивые, самовлюбленные негодяи. Я уверен, что они и лучшие места в опере провалили из-за своей тупости. Что они понимают? Такое отношение к делу, которое является общим!
– Общим? – спросил Убальдо.
– Слушай, – сказал Лауро, – как ты думаешь? Разве будущее нашей отечественной оперы не является делом каждого патриота?
Убальдо огорченно махнул рукой.
– Если итальянский композитор обладает огромным талантом, – а ведь после «Оберто» все миланские знатоки признали в Джузеппе талант, – если, я говорю, итальянский композитор обладает талантом, разве не обязан каждый патриот поддерживать его?
– Ну, конечно, – сказал Убальдо.
– Поддерживать его, понимаешь, а не проваливать. Даже если бы в опере не нашлось больше двух или трех удачных мест.
– Ты прав, – сказал Убальдо.
– И поддерживать его всеми силами, чего бы это ни стоило. Особенно сейчас. Потому что существует тайная инструкция – насильно вводить в репертуар оперы немецких композиторов. Как можно больше опер немецких композиторов!
– Все знают об этом, – сказал Убальдо.
– А ты понимаешь, что это значит? Скажи мне, ты понимаешь? – Лауро смотрел на Убальдо в упор. Он говорил медленно и торжественно. – Это нашествие немцев на лучший театр нашей родины. Это гибель нашего оперного искусства.
– Многие понимают это, – сказал Убальдо.
– Многие? Может быть. Но не певцы. Эти не думают о родине. Им что? Гонорары, дифирамбы, фимиам, рев толпы – вот что им надо.
– Пожалуй, что так, – сказал Убальдо.
– Они рады петь бравурные арии в операх всех этих Вейглей, Винтеров, Штунцев, Гиллеров…
– Ты забыл пруссака Николаи, – сказал Убальдо.
– Черт с ним! – сказал Лауро. – Важно одно, что певцы охотно поют в операх всех этих немцев, а к опере своего, итальянского композитора отнеслись с явным пренебрежением.
– «Тамплиер» Николаи очень понравился публике, – сказал Убальдо. – Он прошел сорок шесть раз подряд. С теми же певцами, что и опера Верди.
– Вот видишь, – сказал Лауро. – Изменники эти виртуозы, право. Им нет дела до родного искусства.
– Не всегда, – сказал Убальдо. – Помнишь премьеру «Цирюльника»?
– Помню, – сказал Контарди.
Они с Убальдо были молоды тогда. В театре Арджентина в Риме тоже был и свист, и шум, и кошачий концерт. И даже кто-то выпустил на сцену живую кошку, самую обыкновенную кошку, серую, с черной полосой по хребту, но очень голодную и злую. Шерсть у нее стояла торчком, точно у дикобраза. Во время трудного финала второго действия. Чтобы создать замешательство. Это постарались приверженцы Паччини. Ловко подстроили интригу. Говорили, что русская графиня, Джульетта Самойлова звали ее, истратила немало денег на эту затею. Не пожалела русских рублей приезжая синьора. Все в Риме знали ее. Была она красавицей – взбалмошной и своенравной. Молва приписывала ей не одного любовника. Она сидела в ложе второго яруса спиной к сцене. Но иногда она немного поворачивалась, указывала веером в сторону оркестра и принималась хохотать. Хохотала до упаду. Вся тряслась от смеха. Бриллиантовые серьги с длинными подвесками так и прыгали у нее в ушах.
Певцы в тот вечер показали себя настоящими героями. Они пели громко, полными голосами, с необыкновенным воодушевлением.
– Ох, как злился на публику Гарсиа. Он был совсем вне себя, помнишь? – сказал Убальдо.
Как не помнить! Аккомпанируя себе на гитаре в первом действии, певец с такой силой ударил по струнам, что они лопнули. Ahimé! Вот так неожиданность!
Убальдо оживился. Он причмокивал губами от удовольствия и то и дело закрывал глаза. Чтобы удобнее было припоминать картину премьеры в Арджентине.
– А маэстро Россини? Что за композитор! Сущий лев! Разве можно забыть все это?
Ну конечно нет. Тем, кто видел Россини в тот знаменательный вечер, забыть его было невозможно. Во фраке цвета кофе с молоком – боже мой, уже один этот фрак, такой светлый, являлся мишенью для насмешек – композитор управлял оперой, подыгрывая на чембало. Он все время был в движении, вставал, садился, опять вставал, неистово аплодировал артистам, подбадривал их, благодарил, подпевал в ансамблях. Ему не было двадцати лет. Он был полон юного задора и беспредельной отваги. Иногда он поворачивался лицом к залу и звонким молодым баритоном кричал на публику: «Да тише вы! Да замолчите же!» Потом снова поворачивался к сцене, снова аплодировал артистам и дирижировал, и пел. Глаза у него блестели. Фалды его фрака разлетались в стороны, как крылья. Он был душой и хозяином спектакля. Он принимал непосредственное участие в рождении своей оперы на сценических подмостках. И он отчаянно боролся за жизнь своего детища.
– Другие времена, другие люди, – сказал Лауро.
По лестнице кто-то поднимался. В дверь постучали. Санте не терпелось сообщить мужу цифру сегодняшней выручки. Синьора Аккарини запыхалась. Ей было под пятьдесят, и она была тучной, малоповоротливой женщиной. Она держала в руках кожаный мешочек с деньгами. Металлические монетки приятно позванивали. Санта широко улыбалась. Цифра выручки была на редкость солидной.
Лауро Контарди пошел домой. Стемнело. Жизнь в городке замирала. На другом конце улицы подвыпившие гуляки горланили песни. Они шли, взявшись под руки, целой ватагой и в такт песни били палками по железным ставням и засовам наглухо закрытых дверей лавок и торговых складов. Грохот и лязг железа нарушали тишину наступившей ночи. Разными голосами лаяли собаки. Большие и маленькие. Одни – сипло и лениво, другие – пронзительно и заливчато.
Лауро Контарди шел домой. Он был печален. Суета сует, суета сует – всё суета. Он горько усмехнулся. Вот и ему приходят на ум слова Экклезиаста. Стало быть, плохо дело. Да что скрывать? Конечно, плохо дело. Поневоле приходят в голову невеселые мысли. Мечтает человек, трудится, верит – вот уж кажется близкой желанная цель, и опять крушение, и опять кругом обломки и развалины. И так проходит жизнь.
Лауро вздохнул. Сколько усилий пропало даром, сколько энергии, упорства, выдумки…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Распри в городке начались лет семь назад. Очень скоро после того, как Джузеппе Верди уехал в Милан учиться. Композитору шел тогда девятнадцатый год.
Шумные скандалы, ядовитые сплетни, неразрешимые споры – все это казалось борьбой страстей вокруг открывшейся вакансии на должность соборного органиста, хормейстера, дирижера оркестра Филармонического общества и преподавателя в музыкальной школе. Такая уж это была должность, хлопотливая и нелегкая. Все обязанности, связанные с ней, выполнялись одним лицом. Так повелось издавна. По соображениям характера экономического. Потому, что одну часть жалованья маэстро получал от города, а другую – от церкви, и только соединенные в одно целое эти части составляли сумму, на которую можно было просуществовать.
Вот почему от приглашенного композитора требовалось, чтобы он был и органистом, и дирижером оркестра, и хормейстером, и учителем музыки. Все это было непременным условием для поступления на работу в качестве maestro di musica. И множество требований, предъявляемых к композитору, никого не удивляли. Что особенного в этих требованиях? Разве деятельность maestro di musica – органиста, хормейстера, дирижера оркестра и учителя музыки – может представлять затруднения для музыканта толкового и получившего образование? Конечно же нет.
Взять к примеру хотя бы маэстро Провези. Он успешно совмещал все эти должности и отлично справлялся с возложенными на него обязанностями. Популярность его в городе была вполне заслуженной. Оркестр Филармонического общества с удовольствием повиновался движению его руки, а ученики в школе уважали его и в занятиях с ним преуспевали.
И только настоятель собора, каноник дон Габелли… ох, уж этот дон Габелли! Именно он, как никто другой, играл ведущую роль во всех интригах, направляемых против патриотов. Он был слугой Австрии, каноник дон Габелли, и он ненавидел Провези как патриота и вольнодумца.
Само собой разумеется, что при встрече с композитором каноник всегда подчеркивал свое к нему расположение, но за глаза он называл маэстро проклятым якобинцем. Иначе он никогда не называл его. И канонику вторило все духовенство. Духовенство в городе не любило Провези.
Ну что ж, Провези платил духовенству тем же. Маэстро очень недурно владел пером. Он сочинял подчас весьма остроумные стишки и в них высмеивал слабости и пороки духовных лиц. Замечательно получалось это у него. До чрезвычайности метко! Друзья маэстро сразу узнавали черты всем известных служителей культа, подвизавшихся в Буссето. Тех, которые были верными слугами и проводниками политики иноземных властей. Тех, которые были ненавистны патриотам.
Надо ли говорить о том, что духовенство не могло мириться с таким положением вещей? Конечно нет. Это и так ясно всякому. Отношение духовных лиц к маэстро Провези было враждебным и настороженным. И ничего удивительного в этом не было.
Но неприязнь духовенства не мешала благополучию маэстро и не угрожала ему потерей должности. И открылась вакансия на место органиста, хормейстера, дирижера оркестра и учителя музыки только потому, что, проболев довольно долго, маэстро Провези умер. С этого и началась междоусобная война.
Все в городе были уверены, что преемником Провези будет молодой Верди. Это считалось делом решенным еще при жизни маэстро. Потому, что уже до отъезда своего в Милан юноша Верди показал себя вполне достойным занять место Провези. Маэстро за последнее время часто прихварывал, и Джузеппе то и дело заменял его: проводил уроки в музыкальной школе, управлял оркестром Филармонии. И с тем и с другим он справлялся отлично. А когда ученик появлялся вместо учителя у большого соборного органа – импровизировал и играл собственные сочинения, – слушатели выходили после богослужения растроганные и восхищенные. И то, что к Верди постепенно переходили обязанности Провези, казалось совершенно естественным. Разве не был Джузеппе любимым учеником маэстро?
Провези разгадал его сразу. Давно. Когда десятилетний Верди поступил в гимназию. Мальчик учился хорошо. Преподаватель латыни, каноник дон Пьетро Селетти находил его очень способным. Он уговаривал маленького школьника бросить занятия музыкой и советовал приналечь на латынь. «Ибо, – говорил дон Пьетро, – ты, Джузеппе, мальчишка достаточно смышленый, чтобы избрать духовную карьеру. Было бы с твоей стороны непростительной глупостью предпочесть жидкие лавры провинциального композитора сытой и обеспеченной жизни священнослужителя. И потому советую: поскольку занятия музыкой несовместимы с упорным и добросовестным изучением латыни, – выбирай латынь, пока не ушло время». Так говорил дон Пьетро Селетти. И говорил он так неоднократно и надеялся уговорить Верди, переманить его на свою сторону и поссорить с учителем музыки. Дон Пьетро был не прочь причинить неприятность синьору маэстро. И маэстро Провези отлично понимал это. По он ничего не говорил и не возмущался, а только пожимал плечами и хитро посмеивался на речи каноника-латиниста. Он знал, что дон Пьетро трудится втуне. «Ибо, – утверждал маэстро, – тяготение к музыке у маленького Верди так безудержно и любовь к музыке в ребенке так безмерна, что он не сможет стать никем иным, как только музыкантом. И так как, – прибавлял маэстро, – мальчик по характеру своему и сосредоточен, и вдумчив, и требователен к себе, и вдобавок еще необыкновенно прилежен, то из него несомненно выработается выдающийся композитор».
Вот как Провези говорил о Верди! И, конечно, маэстро был уверен в том, что здесь, в Буссето, Джузеппе найдет заработок и удачу, стяжает себе любовь и уважение. Маэстро был в этом уверен. Ну что ж – человеку свойственно заблуждаться.
Едва только отзвучал реквием за упокой души Фердинандо Провези, умолкли ораторы и тело умершего маэстро было предано земле, как церковный совет назначил на должность соборного органиста какого-то Феррари, человека средних лет, никому не известного, приезжего из Гуасталлы. Да, поторопились святые отцы. Никого не предупредили, никому не намекнули даже о своих намерениях!
И каково же было всеобщее возмущение, когда в ближайшее воскресенье Феррари выступил в соборе и обнаружилось, что его никак нельзя назвать ни мастером, ни вдохновенным художником, и даже показалось смешным говорить о нем, затрагивая понятия столь возвышенные. Органистом ниже всякой критики, жалкой посредственностью – вот кем он оказался. И слов на него тратить не стоило. Но некоторые особенно горячие любители музыки не могли сдержать негодования и громко называли Феррари бессовестным неучем, нулем, ничтожеством.
Конечно, таланта у него не было. Вряд ли нашлись бы желающие спорить против такой очевидности. Таланта у него действительно не было, но была рекомендация от епископа Гуасталлы, монсиньора Санвитале. И было свидетельство о благонадежности, да не одно, а целых два. Одно – выданное полицией городской, а другое – полицейским управлением области. Ого! Вот это и было главной рекомендацией. Потому-то и назначил его церковный совет соборным органистом. Наперекор общественному мнению. Противозаконно. Потому, что должность maestro di musica замещалась по конкурсу. Так гласил определенный параграф устава о приглашении маэстро, и никто до сих шор не осмелился нарушить этот параграф столь грубо и беззастенчиво.
Но церковники, уверенные в поддержке полиции, не остановились перед совершением беззакония. Они попробовали даже навязать своего избранника в качестве руководителя филармоническому оркестру. И прочили его преподавателем в музыкальную школу. Небывалую прыть и настойчивость проявило духовенство. И все это для того, чтобы закрыть дорогу молодому Верди. Потому, что он был питомцем патриотов. Кандидатом якобинской клики – кричали церковники. И громче всех кричал, конечно, дон Габелли.
И, может быть, с внешней стороны вся эта путаница во взаимоотношениях, нарушения правил и обычаев, распри и раздоры казались результатом личных интриг, возникших вокруг освободившегося места соборного органиста, руководителя оркестра, хормейстера и учителя музыки, но на самом деле и искусно создаваемая путаница, и распри, и раздоры – все это являлось лишь началом нового наступления духовенства на патриотов, началом нового наступления врагов родины на сторонников национального искусства. И хотя тупого и угодливого Феррари поддерживали одни церковники и их прихвостни, Джузеппе Верди все же пришлось несладко. На карту была поставлена вся его будущность.
Антонио Барецци спешно вызвал его из Милана, где юноша обучался искусству контрапункта и фуги под руководством Винченцо Лавиньи, театрального концертмейстера. Это было в июле, через год после смерти маэстро Провези. Верди беспрекословно повиновался Антонио Барецци и тотчас вернулся в родной город. Но вернувшись, он ничем не проявил своего отношения к тому, что происходило вокруг него. Держался он по своему обыкновению скромно, но независимо, и на этот раз, пожалуй, даже несколько отчужденно: одинаково избегал и неумеренно восторгавшихся им друзей и ядовито злословивших недругов. О своих желаниях и надеждах никому не говорил и ни одного шага с целью повлиять на людей, от которых могло зависеть его назначение, не сделал. И только однажды – смута в городе длилась уже больше года, и некоторые приверженцы партии патриотов стали терять терпение – молодой композитор – ему тогда исполнилось двадцать лет – пожаловался Контарди. Сказал, что ему надоели гнусные сплетни и неуместная шумиха, поднятая вокруг его имени. И прибавил, что бесчестные происки духовенства вызывают в нем отвращение.
– Я, конечно, претендую на это место, – сказал он, – так как чувствую себя в силах удовлетворить требованиям, предъявляемым всякому, кто хочет называться маэстро. Кроме того, никаких других перспектив у меня сейчас нет, а заработок мне нужен. Но я могу занять пост, на который имею все права, только по конкурсу. И только самостоятельное в своих суждениях жюри, составленное в Парме из музыкантов просвещенных и беспристрастных, в состоянии решить, кто достоин стать преемником моего покойного учителя.
И больше он ничего не сказал Контарди.
А недовольство в городе росло. Патриоты игнорировали Феррари. Они ждали из Пармы приказа об открытии конкурса на замещение должности maestro di musica.
Но время шло, а приказа не было. Положение молодого Верди день ото дня становилось тягостней. Юноша изнывал от вынужденного бездействия. Пребывание его в родном городе потеряло всякий смысл. Ему не оставалось ничего другого, как возвратиться в Милан.
В начале декабря он уехал.
Но и с отъездом его в Милан ничего в Буссето не изменилось. Городок гудел, как потревоженное осиное гнездо. Приверженцы враждующих партий перестали внимать голосу рассудка. Они наносили друг другу оскорбления словом и действием: споры зачастую переходили в драки. Это было очень опасно. Из Пармы понаехали полицейские агенты. Патриоты понимали, что брожение среди населения подогревается теми, кто жаждет применения чрезвычайных мер. Лучшие люди города вели переговоры с церковным советом. Они делали это осторожно и в самом миролюбивом тоне. Но усилия их были напрасны. Духовенство отвергало все предложения о полюбовном разрешении конфликта. Каноник дон Габелли был нетерпим и непреклонен.
Антонио Барецци, как председатель Филармонического общества, был вынужден публично объяснить, почему музыкальная общественность города не желает принять в руководители ставленника епископа, рекомендованного полицейским управлением. Пришлось громко сказать, что приглашение Феррари может оказаться пагубным для музыкальной жизни города. Пришлось сказать, что Феррари не обладает талантом, что он недостаточно хорошо знает свое дело, что он неспособен высоко держать знамя национального искусства.
Синьор Антонио не побоялся выступить на собрании, где были представители властей – светской и духовной. Он говорил, как настоящий оратор.
– Нам чужды низменные интересы, – сказал он. – Нами не руководят злостные побуждения, нас не ослепляет чувство приверженности к той или иной партии. Мы не хотим ничего другого, как только сохранить в нашем городе музыкальную культуру и музыкальное образование. Это единственное желание тех, кому дорога слава родной страны.
Честные мужественные слова не достигли цели. Враги истолковали их по-своему. «Национальная гордость, – говорили они, – опасное чувство. Мечты о славе родной страны – это мечты о свободе».
В Парму, в главное управление полиции летели доносы за доносами. А из Пармы сыпались, как из рога изобилия, приказы и тайные инструкции.
Подестой города Буссето был в то время Джан-Бернардо Петторелли. Синьору Антонио он был приятелем. В запутанной истории назначения Верди на должность городского maestro di musica положение подесты оказалось очень трудным.
– Что делать, Антонио? Что делать? – спрашивал подеста Антонио Барецци.
Подеста пришел к Барецци ночью. Все в доме спали. Лил дождь. По улице бежали потоки воды. Можно было с уверенностью сказать, что в такую погоду никого по встретишь.
– Я между Сциллой и Харибдой, – сказал подеста. – Мне доподлинно известно, что из этого несчастного дела о приглашении маэстро хотят раздуть пожар. Всей этой истории придают политическую окраску. Есть инструкция следить за каждым словом и вылавливать «смутьянов». Угрожают репрессиями. Что делать?
– До репрессий допустить нельзя, – сказал синьор Антонио.
Подеста был в нерешительности. Он отвечал за спокойствие в городе и по положению своему должен был опасаться малейшего проявления «бунтарских» настроений. Вместе с тем он робел перед синьором Антонио и не знал, как высказать предложение, с которым пришел к нему.
– Ради спокойствия ни в чем не повинных горожан и во избежание репрессий, – сказал он наконец, – следовало бы, может быть, нашему дорогому Верди поискать себе работу в другом городе.
Но Антонио Барецци и мысли об этом не допускал.
– Нет, – сказал он, – надо бороться. Мы не требуем ничего противозаконного. Да и наши любители музыки ни за что не согласятся отпустить Верди.
– На каждого из жителей города заведено дело, куда заносятся все донесения шпионов, – сказал подеста.
– Несчастная страна, – сказал синьор Антонио.
– Шпионы везде, – сказал подеста. – Их не распознаешь.
– Следи, чтобы не было сборищ на улицах и собраний в домах, – сказал синьор Антонио.
И подеста завернулся в плащ, втянул голову в плечи и ушел в темноту. Лил дождь. Он низвергался на землю шумно, точно водопад с гор. Подеста был рад непогоде. С уверенностью можно было сказать, что на улице никого не встретишь. И это было хорошо. Потому, что подеста опасался встречи с кем бы то ни было.
Конечно, синьор Антонио Барецци преуспевающий коммерсант и уважаемое в городе лицо. И это известно всем. Но в тайных списках полицейского управления он отмечен как деятельный патриот, как противник всего иноземного, как поборник искусства национального. И вот это не известно никому. Но известно подесте. И еще: подеста знал, что высшее начальство относится к синьору Антонио с повышенным вниманием, и на его, подесты, дружбу с синьором Антонио поглядывает искоса. Бедный Джан-Бернардо! Он был патриотом и любителем музыки, но был и должностным лицом. А патриот, ставший должностным лицом в стране, где хозяйничают завоеватели, вынужден скрывать свою игру. Он не был героем. И даже можно, не впадая в преувеличение, сказать, что он был человеком трусливым и нерешительным. Но все же он был сыном своей несчастной родины и потому всячески стремился помогать делу патриотов.








